пятый сезон
130 рассказов региональных победителей
*Все работы публикуются в авторской редакции
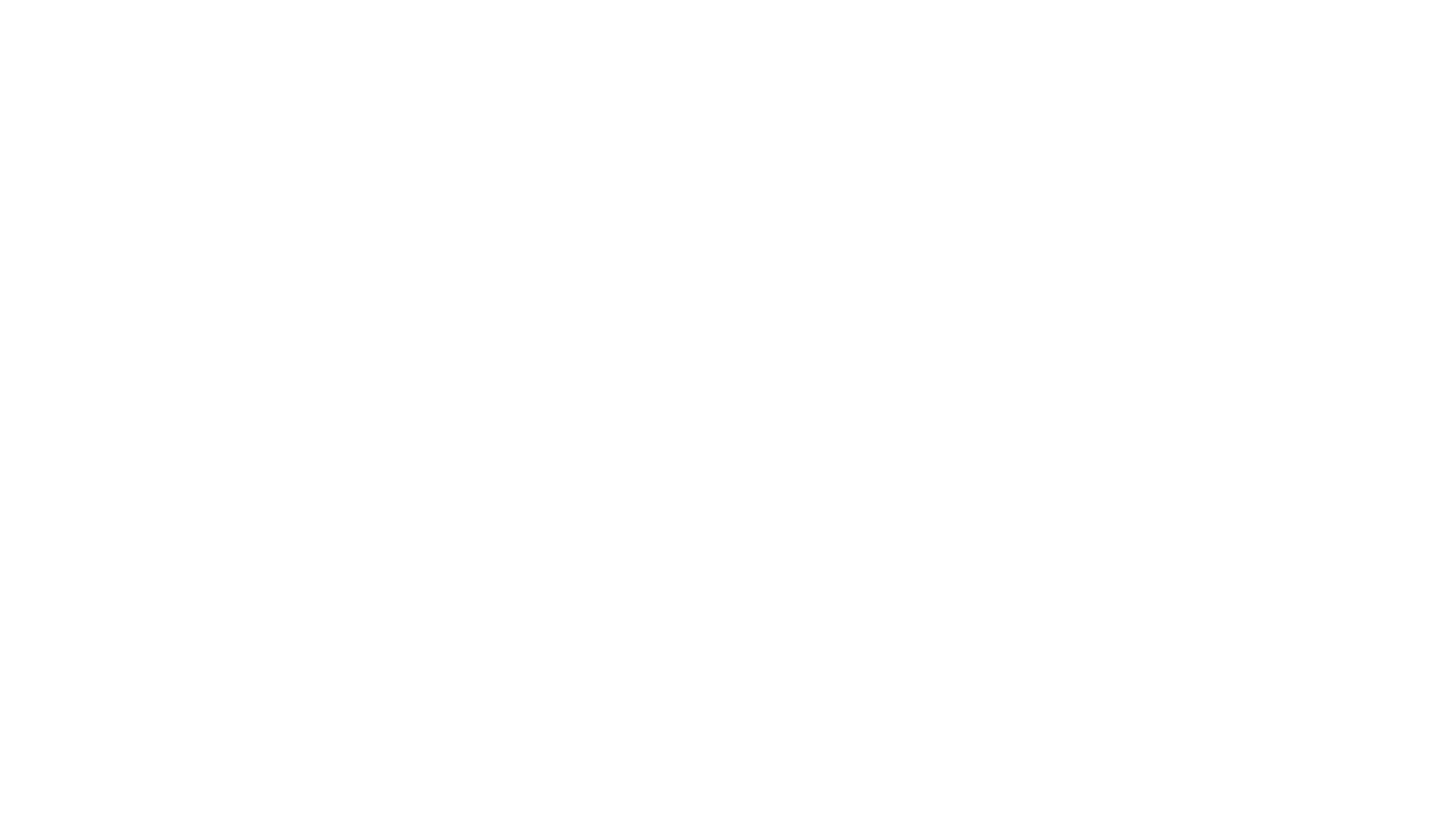
Опубликованы рассказы победителей регионального этапа.
Будем рады, если после прочтения, вы поделитесь впечатлениями от этих текстов. Чей-то рассказ рассмешит вас, другой - заставит прослезиться, а от какого-то автора вы немедленно потребуете продолжения, потому что вам не захочется расставаться с героями этой истории.
Также мы предлагаем вам почувствовать себя на месте жюри: попробуйте угадать победителей!
В конкурсе "Класс!" 6 призовых мест.
50 финалистов приедут в Москву и будут бороться за победу.
Обсудите рассказы на встрече в библиотеке, на литературном кружке или самостоятельно назовите 6 лидеров.
Свои варианты - 6 фаворитов - напишите под этим постом ВКонтакте до 31.08.23. После финала мы подведём итоги. Тот, кто будет ближе всех к выбору жюри, получит сувениры и печатный сборник рассказов 5 сезона конкурса "Класс!". Если участников, которые разделят мнение с членами жюри, будет несколько, то мы выберем одного рандомным методом
Приятного чтения!
Будем рады, если после прочтения, вы поделитесь впечатлениями от этих текстов. Чей-то рассказ рассмешит вас, другой - заставит прослезиться, а от какого-то автора вы немедленно потребуете продолжения, потому что вам не захочется расставаться с героями этой истории.
Также мы предлагаем вам почувствовать себя на месте жюри: попробуйте угадать победителей!
В конкурсе "Класс!" 6 призовых мест.
50 финалистов приедут в Москву и будут бороться за победу.
Обсудите рассказы на встрече в библиотеке, на литературном кружке или самостоятельно назовите 6 лидеров.
Свои варианты - 6 фаворитов - напишите под этим постом ВКонтакте до 31.08.23. После финала мы подведём итоги. Тот, кто будет ближе всех к выбору жюри, получит сувениры и печатный сборник рассказов 5 сезона конкурса "Класс!". Если участников, которые разделят мнение с членами жюри, будет несколько, то мы выберем одного рандомным методом
Приятного чтения!
Алтайский край:
Архангельская область
Владимирская область:
Волгоградская область:
Вологодская область:
Воронежская область:
Ивановская область:
Иркутская область:
Калининградская область:
Кемеровская область — Кузбасс:
Кировская область:
Костромская область:
Краснодарский край:
Красноярский край:
Курская область:
Ленинградская область:
Москва:
Московская область:
Мурманская область:
Нижегородская область:
Новосибирская область:
Омская область:
Орловская область:
Пензенская область:
Пермский край:
Приморский край:
Псковская область:
Республика Адыгея:
Республика Башкортостан:
Республика Карелия:
Республика Коми:
Республика Мордовия:
Республика Саха (Якутия):
Республика Татарстан:
Ростовская область:
Рязанская область:
Самарская область
Санкт-Петербург:
Саратовская область:
Свердловская область:
Смоленская область:
Ставропольский край:
Тамбовская область:
Тверская область:
Томская область:
Тульская область:
Тюменская область:
Хабаровский край:
Челябинская область
Чеченская республика:
Чувашская Республика — Чувашия:
Ярославская область
Май Рада. Взор с небес
В одной, казалось, даже Богом забытой, глухую деревеньке появился скиталец без роду и племени, да и без гроша за душой. Это был скрючившийся, сухой старичок с рябым лицом, заискивающим взглядом под густыми мохнатыми бровями и с неопрятной бородой. Одевался он во что Бог пошлёт, а ночевал где придется. Одно только синее небо было ему спутником. И сегодня оно находилось в прекрасном расположении — ни одно облачко не омрачало его голубизны.
Деревня встретила странника безрадостной картиной. Посеревшие от времени деревянные дома печально выглядывали из-за накренившихся заборов. Они утопали в такой же серой, дикой растительности и от того были едва различимы. В доброй половине этих избушек едва ли кто-то жил — слишком уж они были запущены. С трудом пробираясь по грязной, испещрённой колеями дороге старец удручённо думал: «Ловить тут нечего».
Вскоре дорога вывела его к деревенскому базару — маленькому, скудному и немноголюдному. Продукты, выставленные на полупустых прилавках, не отличались свежестью и разнообразием. Люди слонялись между рядами, ворчали что-то себе под нос и выглядели подавленными, измождёнными. Вздыхая с досадой, они считали монеты в своих жилистых и грязных ладонях. Кто-то уже успел опустошить бутылку-другую и теперь распевал свои унылые песни. Всё это выглядело настолько безнадёжно, что нагоняло тоску.
Никто даже не обратил внимания на незнакомца, который с мрачным видом проходил между жителями деревни и вполне органично вписывался в общую гнетущую обстановку. Его терзал голод. Даже вид заветревшейся, засохшей еды не мог перебить аппетит. Скверные мысли начали посещать его голову: «Этих глупых, тёмных людей обмануть наверняка проще простого». Скиталец быстро поддался соблазну и решил, что нельзя не воспользоваться этим шансом. Он встал посреди улицы, раскинул руки и, запрокинув голову к небу, хриплым голосом прокричал:
— Услышьте меня, дети божьи!
На его голос обернулось несколько зевак, скучавших продавцов и любопытных детей. Но в большинстве своём толпа осталась безразличной к призыву.
— Я призван донести до вас божьи предзнаменования! Услышьте меня! — старик вещал ровно и уверено, будто и сам верил в свои слова. Оно не мудрено, ведь аферу эту он проворачивал не раз. Тем и жил.
— Послан я к вам во спасение, чтобы наставить ваши заблудшие души на праведный путь!
Заинтересованная толпа начала подтягиваться и образовывать кольцо вокруг старца. В глазах людей загорелась надежда. Выхватив взглядом из толпы охмелевшего паренька, скиталец тут же придумал ему пророчество:
— Ты! Темна твоя душа, погряз ты в пьянстве и пути не видишь, что указывает тебе Бог! Не различишь туманным взглядом свою погибель! Сгинешь за тем углом, коли будешь глух к божьим наставлениям!
Поразительный эффект оказала эта речь на толпу. Она взволнованно загудела, обернула свой взгляд на облечённого юношу. Тот, перепуганный жутким предсказанием и совсем не желавший оказаться центром внимания, бросился наутёк.
— Ваши грешные души не видят праведного пути! Дарами и молитвами вы можете вернуть себе милость Бога и увидеть истину!
Народ словно воспрянул духом. Хватаясь за слабую надежду, люди едва ли могли разглядеть ложь в его словах. Люди протягивали хлеб, овощи, платки и последние монеты — кто чем был богат. А старец принимал из их рук подаяния и одаривал новой порцией свежей лжи. Одним он пророчил скорое счастье, другим — неминуемое горе.
Вдруг за полы его одежды ухватилась крохотная детская рука и слабо потянула, привлекая к себе внимание. Странник обернулся и увидел перед собой маленькую девочку, что с мольбой протягивала ему краюшку хлеба. Она смотрела на него такими голубыми глазами, словно это и не глаза вовсе, а два зеркальца, отражавших синее-синее небо. И вся она была такая чистенькая, светленькая и аккуратненькая, что смотрелась совсем неестественно на фоне всеобщей запущенности. Как ангел, спустившийся на землю.
— Дедушка, можно мне тоже наставление?
Старец колебался. Его слепила и отталкивала её чистота. Будто обожжённый, он отпрянул и смерил девочку недобрым взглядом.
— Ты — проклятое дитя. Обрушатся на тебя небеса и вместе с ними гнев божий.
Грозные слова пролетели над базаром, и толпа притихла на мгновение. Выхватив хлеб из рук ребёнка и взмахнув своими лохмотьями, странник развернулся и широкими шагами начал удаляться прочь от скопления деревенских жителей. Он уже не видел, как собравшиеся встревожено зашептались и кто-то решился высказать всеобщее опасение: «Если небеса обрушатся на эту проклятую, то они обрушатся и на нас?». Девочка, увлекаемая матерью от гудящей толпы, заливалась слезами и испуганно глядела на бескрайний небосвод.
Ещё на входе в деревню скиталец заприметил белокаменную церковь и теперь направлялся в её сторону. Помимо шарлатанства и обмана ещё одним средством выживания для него было прошение милостыни. Потому всякая церковь непременно привлекала его внимание и представляла выгоду.
Добравшись до церквушки, странник окинул её взглядом. По белым стенам тянулись трещины, чем попало замазанные, а неясного цвета купола умиротворённо блестели на солнце. Старец вошёл в храм. Здесь почти никого не было, но даже редкие прихожане не обратили на него внимания. Священник с амвона монотонно читал молитву. В церкви не было ни росписей, ни изящных колонн, только голые стены да деревянные лавки. Её убранство показалось бы совсем скучным, если бы не синие витражные окна, изображавшие неизвестные страннику религиозные сюжеты. Оценив общий вид храма, он заключил: «безбожники». Совсем позабыв про цель своего визита, он взгромоздился на скамью и начал засыпать под убаюкивающее бормотание. До самой ночи никто не потревожил его сон.
Проснулся старец, когда луна уже заглядывала в окна и заливала зал синим светом. В лунном свете витражи светились ультрамарином, тревожно переливались и глядели на чужака глазами изображённых на них святых. Чернота за окнами подбиралась всё ближе, но, обжигаясь о синеву стёкол, отступала и клубилась где-то у самого входа. Старец сильнее вжался в скамью, когда сквозь тишину ночи услышал леденящий шёпот. С трудом удавалось разобрать слова молитвы, произносимой точно в бреду:
—…Всевышний.…Сжалься, помилуй моё дитя.…Убереги от клеветы безбожника…
Старика точно окатили холодной водой. Он странно крякнул от испуга и тут же зажал рот ладонью, будто это могло помочь. Женщина, молившаяся у алтаря, вскочила и с неменьшим страхом стала вглядываться в черный угол, откуда донёсся звук. Сейчас её вид напугал бы всякого вошедшего. Синий свет едва выхватывал её силуэт из густой темноты, позволяя разглядеть лишь лицо и руки, сложенные в молитве. Она словно стояла на границе света и тьмы, а в глазах её тревожно плясал бешеный синий огонёк. Её черты показались скитальцу знакомыми.
Прошло лишь пару секунд, прежде чем женщина разглядела нарушителя тишины, но для старика они показались вечностью. Огонёк в её глазах перерос в пламя ненависти, и она сорвалась на отчаянный крик:
— Ирод, как посмел ты войти в священное место?!
Странник медленно, с опаской поднялся с лавки, намереваясь сбежать, да не тут то было. Женщина кинулась в его сторону и, хватаясь за бороду и одежду, продолжила кричать:
— Зачем ты прибыл в нашу деревню? Зачем принёс нам страшное горе? — в глазах её блестели злые слёзы, а голос хрипел и дрожал. — Знаешь ты, что за судьба уготована тебе Богом за твои злодеяния?! Вся твердь небесная ляжет на плечи твои вместе с тяжестью греха! Не найти нигде приюта тому, кто, прикрываясь именем Господа, обличил честных людей!
Скиталец был повергнут в ужас её гневными словами и совсем обмяк и обессилел. В завершении своей речи женщина из последних сил толкнула старца, и тот рухнул на лавку без чувств.
Вновь открыл он глаза свои ранним утром. Церковь ещё была пуста, а солнце только выглядывало из-за горизонта, протягивая свои лучи по голубому небу. Царила обволакивающая тишина. Ни густых теней, не мрачного шёпота. Ничего не напоминало о прошедшей ночи, только сквозь витражи сочился мягкий голубой свет, словно воспоминание о вчерашнем дне.
Вспомнив всё, странник подскочил и бросился прочь из злополучного храма, теряя по пути монеты, собранные с деревенских жителей. Он поспешно покинул деревню...
А бескрайнее синее небо, что прежде сопровождало его в пути, теперь стало для него вечным преследователем, от чьего давящего и проницательного сияния он не мог скрыться. Глядя на небо, старец видел перед собой чистые глаза девочки, которую он от лица Бога проклял. Старец чувствовал, что оттуда, с небес, на него с укором смотрел сам Всевышний…
В одной, казалось, даже Богом забытой, глухую деревеньке появился скиталец без роду и племени, да и без гроша за душой. Это был скрючившийся, сухой старичок с рябым лицом, заискивающим взглядом под густыми мохнатыми бровями и с неопрятной бородой. Одевался он во что Бог пошлёт, а ночевал где придется. Одно только синее небо было ему спутником. И сегодня оно находилось в прекрасном расположении — ни одно облачко не омрачало его голубизны.
Деревня встретила странника безрадостной картиной. Посеревшие от времени деревянные дома печально выглядывали из-за накренившихся заборов. Они утопали в такой же серой, дикой растительности и от того были едва различимы. В доброй половине этих избушек едва ли кто-то жил — слишком уж они были запущены. С трудом пробираясь по грязной, испещрённой колеями дороге старец удручённо думал: «Ловить тут нечего».
Вскоре дорога вывела его к деревенскому базару — маленькому, скудному и немноголюдному. Продукты, выставленные на полупустых прилавках, не отличались свежестью и разнообразием. Люди слонялись между рядами, ворчали что-то себе под нос и выглядели подавленными, измождёнными. Вздыхая с досадой, они считали монеты в своих жилистых и грязных ладонях. Кто-то уже успел опустошить бутылку-другую и теперь распевал свои унылые песни. Всё это выглядело настолько безнадёжно, что нагоняло тоску.
Никто даже не обратил внимания на незнакомца, который с мрачным видом проходил между жителями деревни и вполне органично вписывался в общую гнетущую обстановку. Его терзал голод. Даже вид заветревшейся, засохшей еды не мог перебить аппетит. Скверные мысли начали посещать его голову: «Этих глупых, тёмных людей обмануть наверняка проще простого». Скиталец быстро поддался соблазну и решил, что нельзя не воспользоваться этим шансом. Он встал посреди улицы, раскинул руки и, запрокинув голову к небу, хриплым голосом прокричал:
— Услышьте меня, дети божьи!
На его голос обернулось несколько зевак, скучавших продавцов и любопытных детей. Но в большинстве своём толпа осталась безразличной к призыву.
— Я призван донести до вас божьи предзнаменования! Услышьте меня! — старик вещал ровно и уверено, будто и сам верил в свои слова. Оно не мудрено, ведь аферу эту он проворачивал не раз. Тем и жил.
— Послан я к вам во спасение, чтобы наставить ваши заблудшие души на праведный путь!
Заинтересованная толпа начала подтягиваться и образовывать кольцо вокруг старца. В глазах людей загорелась надежда. Выхватив взглядом из толпы охмелевшего паренька, скиталец тут же придумал ему пророчество:
— Ты! Темна твоя душа, погряз ты в пьянстве и пути не видишь, что указывает тебе Бог! Не различишь туманным взглядом свою погибель! Сгинешь за тем углом, коли будешь глух к божьим наставлениям!
Поразительный эффект оказала эта речь на толпу. Она взволнованно загудела, обернула свой взгляд на облечённого юношу. Тот, перепуганный жутким предсказанием и совсем не желавший оказаться центром внимания, бросился наутёк.
— Ваши грешные души не видят праведного пути! Дарами и молитвами вы можете вернуть себе милость Бога и увидеть истину!
Народ словно воспрянул духом. Хватаясь за слабую надежду, люди едва ли могли разглядеть ложь в его словах. Люди протягивали хлеб, овощи, платки и последние монеты — кто чем был богат. А старец принимал из их рук подаяния и одаривал новой порцией свежей лжи. Одним он пророчил скорое счастье, другим — неминуемое горе.
Вдруг за полы его одежды ухватилась крохотная детская рука и слабо потянула, привлекая к себе внимание. Странник обернулся и увидел перед собой маленькую девочку, что с мольбой протягивала ему краюшку хлеба. Она смотрела на него такими голубыми глазами, словно это и не глаза вовсе, а два зеркальца, отражавших синее-синее небо. И вся она была такая чистенькая, светленькая и аккуратненькая, что смотрелась совсем неестественно на фоне всеобщей запущенности. Как ангел, спустившийся на землю.
— Дедушка, можно мне тоже наставление?
Старец колебался. Его слепила и отталкивала её чистота. Будто обожжённый, он отпрянул и смерил девочку недобрым взглядом.
— Ты — проклятое дитя. Обрушатся на тебя небеса и вместе с ними гнев божий.
Грозные слова пролетели над базаром, и толпа притихла на мгновение. Выхватив хлеб из рук ребёнка и взмахнув своими лохмотьями, странник развернулся и широкими шагами начал удаляться прочь от скопления деревенских жителей. Он уже не видел, как собравшиеся встревожено зашептались и кто-то решился высказать всеобщее опасение: «Если небеса обрушатся на эту проклятую, то они обрушатся и на нас?». Девочка, увлекаемая матерью от гудящей толпы, заливалась слезами и испуганно глядела на бескрайний небосвод.
Ещё на входе в деревню скиталец заприметил белокаменную церковь и теперь направлялся в её сторону. Помимо шарлатанства и обмана ещё одним средством выживания для него было прошение милостыни. Потому всякая церковь непременно привлекала его внимание и представляла выгоду.
Добравшись до церквушки, странник окинул её взглядом. По белым стенам тянулись трещины, чем попало замазанные, а неясного цвета купола умиротворённо блестели на солнце. Старец вошёл в храм. Здесь почти никого не было, но даже редкие прихожане не обратили на него внимания. Священник с амвона монотонно читал молитву. В церкви не было ни росписей, ни изящных колонн, только голые стены да деревянные лавки. Её убранство показалось бы совсем скучным, если бы не синие витражные окна, изображавшие неизвестные страннику религиозные сюжеты. Оценив общий вид храма, он заключил: «безбожники». Совсем позабыв про цель своего визита, он взгромоздился на скамью и начал засыпать под убаюкивающее бормотание. До самой ночи никто не потревожил его сон.
Проснулся старец, когда луна уже заглядывала в окна и заливала зал синим светом. В лунном свете витражи светились ультрамарином, тревожно переливались и глядели на чужака глазами изображённых на них святых. Чернота за окнами подбиралась всё ближе, но, обжигаясь о синеву стёкол, отступала и клубилась где-то у самого входа. Старец сильнее вжался в скамью, когда сквозь тишину ночи услышал леденящий шёпот. С трудом удавалось разобрать слова молитвы, произносимой точно в бреду:
—…Всевышний.…Сжалься, помилуй моё дитя.…Убереги от клеветы безбожника…
Старика точно окатили холодной водой. Он странно крякнул от испуга и тут же зажал рот ладонью, будто это могло помочь. Женщина, молившаяся у алтаря, вскочила и с неменьшим страхом стала вглядываться в черный угол, откуда донёсся звук. Сейчас её вид напугал бы всякого вошедшего. Синий свет едва выхватывал её силуэт из густой темноты, позволяя разглядеть лишь лицо и руки, сложенные в молитве. Она словно стояла на границе света и тьмы, а в глазах её тревожно плясал бешеный синий огонёк. Её черты показались скитальцу знакомыми.
Прошло лишь пару секунд, прежде чем женщина разглядела нарушителя тишины, но для старика они показались вечностью. Огонёк в её глазах перерос в пламя ненависти, и она сорвалась на отчаянный крик:
— Ирод, как посмел ты войти в священное место?!
Странник медленно, с опаской поднялся с лавки, намереваясь сбежать, да не тут то было. Женщина кинулась в его сторону и, хватаясь за бороду и одежду, продолжила кричать:
— Зачем ты прибыл в нашу деревню? Зачем принёс нам страшное горе? — в глазах её блестели злые слёзы, а голос хрипел и дрожал. — Знаешь ты, что за судьба уготована тебе Богом за твои злодеяния?! Вся твердь небесная ляжет на плечи твои вместе с тяжестью греха! Не найти нигде приюта тому, кто, прикрываясь именем Господа, обличил честных людей!
Скиталец был повергнут в ужас её гневными словами и совсем обмяк и обессилел. В завершении своей речи женщина из последних сил толкнула старца, и тот рухнул на лавку без чувств.
Вновь открыл он глаза свои ранним утром. Церковь ещё была пуста, а солнце только выглядывало из-за горизонта, протягивая свои лучи по голубому небу. Царила обволакивающая тишина. Ни густых теней, не мрачного шёпота. Ничего не напоминало о прошедшей ночи, только сквозь витражи сочился мягкий голубой свет, словно воспоминание о вчерашнем дне.
Вспомнив всё, странник подскочил и бросился прочь из злополучного храма, теряя по пути монеты, собранные с деревенских жителей. Он поспешно покинул деревню...
А бескрайнее синее небо, что прежде сопровождало его в пути, теперь стало для него вечным преследователем, от чьего давящего и проницательного сияния он не мог скрыться. Глядя на небо, старец видел перед собой чистые глаза девочки, которую он от лица Бога проклял. Старец чувствовал, что оттуда, с небес, на него с укором смотрел сам Всевышний…
Татарникова Александра. Небо всегда синее
Казалось, что небо планеты Вита — это грязное потрескавшееся стекло, сквозь трещины которого просвечивала тусклая синева. В тёмной вышине, будто гонимые ветром, плясали белые блики и из-за всполохов туч практически нельзя было заметить, что свет исходит не от Первой звезды, а от ионных молний, на одно ослепительное мгновение освещавших рваное полотнище и снова пропадающих в густом мареве. Воздух странно потрескивал электричеством, а на коже фантомом оседали капли, хотя дождя не было и в помине. Близилась буря.
Ева стояла возле космического корабля и ей не было дела до привычной уже непогоды и снующих вокруг учёных, в последний раз проверяющих, чтобы всё было готово. Рассматривая клочки темных туч, неспешно дрейфующих в небе, она видела не последнюю плесневую синеву перед кровавым заревом заката, не люминесцентно-неоновые огни города, пробивающиеся сквозь толщу тумана, и даже не шторм, уже подступающий с горизонта. Она видела маленькую планету в сотне световых лье - такую далекую и такую близкую одновременно. Шарик, качающийся в пространстве, третий от Первой Звезды и такой похожий на старенькую Виту!
Там, на чужой планете, названной просто и коротко - Земля, тоже зародилась жизнь - весьма многообещающая, если верить учёным. Тысячи рептилоподобных тварей бродили по земле, дыша практически таким же воздухом, что и здесь - только гораздо чище. А в воде, прозрачной, будто бы хрупкой, такой, какую Ева видела лишь на снимках, плескалась рыба — и тоже вместе с рептилиями.Уже совсем скоро. Осталось сделать буквально несколько шагов, и корабль - округлая сфера кирпичного цвета - унесёт её и Адама туда, на планету рептилий, где даже два материка похожи на кусающих друг друга чудовищ.Адам - хороший товарищ, надежный напарник. Они общались частенько даже без слов - научились понимать друг друга с полувзгляда, полу-жеста. Годы обучения, подготовки к этой экспедиции — решающей для всех детей Виты, закалили их практически также хорошо, как и повышающийся с каждым днём уровень радиации. Они, Адам и Ева — лучшие из лучших, последняя надежда всего мира.Боковым зрением она видела его, стоящего прямо и стойко солдатиком на плацу. Ветер разметал каштановые кудри и приоткрыл рассекающую лоб морщинку, которая всегда появлялась стоило ему о чём-то крепко задуматься.На новенькой форме - ни пылинки. Но противная морось все равно бьет по шее, потому что шлемы они ещё не надели — стояли и дышали пыльным омертвелым воздухом и никак не могли надышаться.С неба стекают последние отблески синевы, уступая место мрачной серости тумана и темноте туч. Медлить больше нельзя — если не улетят сейчас, то не улетят никогда.За спиной раздался знакомый голос, от которого веяло замогильным холодом даже больше чем от промерзлой земли.
- Пора.Змей подошёл тихо, как и всегда, и уставился на них немигающим взглядом, изнутри светившимся торжеством. Ева и Адам обернулись одновременно и также синхронно склонили головы в знак уважения к старшему по званию.Какое у него звание, строго говоря, никто не знал, как и не знал его имени — никому никогда не пришло бы в голову звать его или о чём-нибудь просить — он всегда появлялся сам, будто призрак выныривая из-под земли и своим свистящим шепотом порой доводя до белой горячки сотрудников лаборатории. За глаза — просто Змей или Он, если был велик шанс наткнуться где-нибудь.Он критически осмотрел их одежду, с ног до головы — также, как и перетекал цвет на скафандрах: от белоснежно-белого на стопах до насыщенного синего на шлемах и постарался скрыть кислую мину за кривой улыбкой, а Ева лишь в который раз удивилась его тщательно скрываемой неприязни к синему, который с незапамятных времён считался священным цветом и обозначал собой самое главное для детей Виты — надежду.
Косая ухмылка разрезала лицо Змея и что-то тревожное вдруг стало видеться в бирюзовых станах исследовательского центра. В матовой поверхности корабля, стилизованного под метеор, на которой плясали синие отблески от их скафандров. В небе, которое тоже когда-то было синим.
Тишина, будто оголённый нерв, была натянута до предела.Оглушительные раскаты грома на мгновение заглушили тихие разговоры ученых недалеко от корабля и собственные мысли. Ева увидела, что Адам будто подался вперед, навострил уши. Даже Змей перестал кривить лицо, однако не дал обосноваться там обеспокоенности. Они замерли, где-то на уровне инстинктов понимая, что означает этот звук.Планета умирала и эта буря — последний крик о помощи. Она, как живой организм, набирала в мешковатые легкие побольше воздуха, чтобы закричать и зарыдать. От злобы? От невольной ненависти к своим детям? К тем, кого породила космическая пыль и кукушатами подкинула к ней в гнездо? Не волнуйся, старушка Вита, скоро твои подкидыши в ту же пыль обратятся.Те, кто так лицемерно называл себя детьми Виты сотни лет травили её, смешивали с грязью, уничтожали оружием. И она, будто бы защищаясь, медленно, но верно меняла климат до неузнаваемости, постепенно погибая.А во главе, отдавая приказ об очередном игнорировании утечки опасного биооружия, скорее всего, стояли подобные Змею. Если бы Ева увлекалась космооперами, то предположила бы, что Змей — бессмертный засланец из другого мира, призванный уничтожать чужие планеты. Но Ева не увлекалась космооперами — её жизнь и так строилась лишь вокруг космоса — а Змей, конечно, хоть и оставался тёмной лошадкой, не был всемирным вредителем — жители Виты и сами отлично справлялись с собственным уничтожением.Время стремительно утекало сквозь пальцы, но они всё стояли будто завороженные, слушая далёкий гул. Так мелкий грызун стоит под зорким оком змеи, так осужденный на смерть видит топор палача.Первым очнулся Змей. Едва заметно качнул головой и оцепенение разом спало, будто дожидаясь его молчаливого сигнала.Пора.Они стали подниматься по трапу не медленно, но и не быстро — уверенно ступая по серым пластинам, наслаждаясь последними секундами на родной планете.Уже делая последний шаг внутрь корабля Ева неожиданно даже для самой себя обернулась- Вы знаете…?
Что вряд ли кто-то уцелеет в этой последней, самой разрушительной буре. Что никакие убежища не помогут, не спасут. Что не будет тогда иметь значения ни звание, ни кошелёк, ни власть.Слова застряли у неё в горле и никак не хотели облачаться в звуки. Но по сверкнувшим ионной молнией глазам Змея, она увидела: он понял, что она хотела, но так и не смогла произнести.
- Я знаю всё, что мне необходимо знать. - он нетерпеливо махнул рукой и оскалился. Последние слова его прозвучали насмешкой - Летите и пусть прибудет с вами благосклонность Виты.Теперь Ева без колебаний шагнула в корабль и села в кресло, рядом с Адамом. На мгновение поймав его взгляд она прочитала те же мысли, что были у неё - они не вернутся. Никогда.
Просто будет некуда.Застегнула ровно двенадцать ремней, натянула серебряный, с голубым отливом шлем, и проделала вместе с Адамом ещё сотню механических доведенных до автоматизма действий, которые, казалось, с каждой секундой теряли свой смысл.Тишину нарушало лишь их дыхание в потрескивающих рациях, да нажатие кнопок и проверка рычагов, приводящих корабль в вертикальное положение. Когда последние приготовления были выполнены, они задержали дыхание и повернули тот единственный вентиль, разделяющий их и родной, погибающий дом и бескрайний космос. Под ним мелкими буквами было написано «Старт».
Ева смотрела в лобовое стекло, на серое небо без капли синевы и ей вспомнились вдруг картинки Земли, сделанные искусственными спутниками. Её почти прозрачный розово-голубой восход и яркую синеву погожего дня, практически забытую детьми Виты. Они приспособятся, выживут, адаптируются — у них есть для этого всё: образцы растений, животных и ещё тысячи полезных вещей ждут в багажном отсеке — не зря же экспедиция готовилась так долго и с такой скрупулезностью. Они дадут начало новому миру — лучшему миру, который точно не повторит ошибок своих предшественников.Они преодолели слой чернильных облаков под скрипучий рев двигателей. Там, в вышине, оказалось вовсе нет гроз и свинцовых туманов — лишь обманчивая чернота. Ева присмотрелась к ней и сердце, пропустив один удар, вдруг забилось чаще — цвет вокруг был не черным, а глубоким синим, отливающим перламутром возле прорезающих пространство на миллионы лье лучей звезд. Она прикрыла на мгновение глаза и ощутила то, что казалось всегда жило в душе, но старательно игнорировалось — а теперь неожиданно, всю её, будто вода, поглотила непоколебимая вера в лучшее.В конце концов, небо всегда синее.
Казалось, что небо планеты Вита — это грязное потрескавшееся стекло, сквозь трещины которого просвечивала тусклая синева. В тёмной вышине, будто гонимые ветром, плясали белые блики и из-за всполохов туч практически нельзя было заметить, что свет исходит не от Первой звезды, а от ионных молний, на одно ослепительное мгновение освещавших рваное полотнище и снова пропадающих в густом мареве. Воздух странно потрескивал электричеством, а на коже фантомом оседали капли, хотя дождя не было и в помине. Близилась буря.
Ева стояла возле космического корабля и ей не было дела до привычной уже непогоды и снующих вокруг учёных, в последний раз проверяющих, чтобы всё было готово. Рассматривая клочки темных туч, неспешно дрейфующих в небе, она видела не последнюю плесневую синеву перед кровавым заревом заката, не люминесцентно-неоновые огни города, пробивающиеся сквозь толщу тумана, и даже не шторм, уже подступающий с горизонта. Она видела маленькую планету в сотне световых лье - такую далекую и такую близкую одновременно. Шарик, качающийся в пространстве, третий от Первой Звезды и такой похожий на старенькую Виту!
Там, на чужой планете, названной просто и коротко - Земля, тоже зародилась жизнь - весьма многообещающая, если верить учёным. Тысячи рептилоподобных тварей бродили по земле, дыша практически таким же воздухом, что и здесь - только гораздо чище. А в воде, прозрачной, будто бы хрупкой, такой, какую Ева видела лишь на снимках, плескалась рыба — и тоже вместе с рептилиями.Уже совсем скоро. Осталось сделать буквально несколько шагов, и корабль - округлая сфера кирпичного цвета - унесёт её и Адама туда, на планету рептилий, где даже два материка похожи на кусающих друг друга чудовищ.Адам - хороший товарищ, надежный напарник. Они общались частенько даже без слов - научились понимать друг друга с полувзгляда, полу-жеста. Годы обучения, подготовки к этой экспедиции — решающей для всех детей Виты, закалили их практически также хорошо, как и повышающийся с каждым днём уровень радиации. Они, Адам и Ева — лучшие из лучших, последняя надежда всего мира.Боковым зрением она видела его, стоящего прямо и стойко солдатиком на плацу. Ветер разметал каштановые кудри и приоткрыл рассекающую лоб морщинку, которая всегда появлялась стоило ему о чём-то крепко задуматься.На новенькой форме - ни пылинки. Но противная морось все равно бьет по шее, потому что шлемы они ещё не надели — стояли и дышали пыльным омертвелым воздухом и никак не могли надышаться.С неба стекают последние отблески синевы, уступая место мрачной серости тумана и темноте туч. Медлить больше нельзя — если не улетят сейчас, то не улетят никогда.За спиной раздался знакомый голос, от которого веяло замогильным холодом даже больше чем от промерзлой земли.
- Пора.Змей подошёл тихо, как и всегда, и уставился на них немигающим взглядом, изнутри светившимся торжеством. Ева и Адам обернулись одновременно и также синхронно склонили головы в знак уважения к старшему по званию.Какое у него звание, строго говоря, никто не знал, как и не знал его имени — никому никогда не пришло бы в голову звать его или о чём-нибудь просить — он всегда появлялся сам, будто призрак выныривая из-под земли и своим свистящим шепотом порой доводя до белой горячки сотрудников лаборатории. За глаза — просто Змей или Он, если был велик шанс наткнуться где-нибудь.Он критически осмотрел их одежду, с ног до головы — также, как и перетекал цвет на скафандрах: от белоснежно-белого на стопах до насыщенного синего на шлемах и постарался скрыть кислую мину за кривой улыбкой, а Ева лишь в который раз удивилась его тщательно скрываемой неприязни к синему, который с незапамятных времён считался священным цветом и обозначал собой самое главное для детей Виты — надежду.
Косая ухмылка разрезала лицо Змея и что-то тревожное вдруг стало видеться в бирюзовых станах исследовательского центра. В матовой поверхности корабля, стилизованного под метеор, на которой плясали синие отблески от их скафандров. В небе, которое тоже когда-то было синим.
Тишина, будто оголённый нерв, была натянута до предела.Оглушительные раскаты грома на мгновение заглушили тихие разговоры ученых недалеко от корабля и собственные мысли. Ева увидела, что Адам будто подался вперед, навострил уши. Даже Змей перестал кривить лицо, однако не дал обосноваться там обеспокоенности. Они замерли, где-то на уровне инстинктов понимая, что означает этот звук.Планета умирала и эта буря — последний крик о помощи. Она, как живой организм, набирала в мешковатые легкие побольше воздуха, чтобы закричать и зарыдать. От злобы? От невольной ненависти к своим детям? К тем, кого породила космическая пыль и кукушатами подкинула к ней в гнездо? Не волнуйся, старушка Вита, скоро твои подкидыши в ту же пыль обратятся.Те, кто так лицемерно называл себя детьми Виты сотни лет травили её, смешивали с грязью, уничтожали оружием. И она, будто бы защищаясь, медленно, но верно меняла климат до неузнаваемости, постепенно погибая.А во главе, отдавая приказ об очередном игнорировании утечки опасного биооружия, скорее всего, стояли подобные Змею. Если бы Ева увлекалась космооперами, то предположила бы, что Змей — бессмертный засланец из другого мира, призванный уничтожать чужие планеты. Но Ева не увлекалась космооперами — её жизнь и так строилась лишь вокруг космоса — а Змей, конечно, хоть и оставался тёмной лошадкой, не был всемирным вредителем — жители Виты и сами отлично справлялись с собственным уничтожением.Время стремительно утекало сквозь пальцы, но они всё стояли будто завороженные, слушая далёкий гул. Так мелкий грызун стоит под зорким оком змеи, так осужденный на смерть видит топор палача.Первым очнулся Змей. Едва заметно качнул головой и оцепенение разом спало, будто дожидаясь его молчаливого сигнала.Пора.Они стали подниматься по трапу не медленно, но и не быстро — уверенно ступая по серым пластинам, наслаждаясь последними секундами на родной планете.Уже делая последний шаг внутрь корабля Ева неожиданно даже для самой себя обернулась- Вы знаете…?
Что вряд ли кто-то уцелеет в этой последней, самой разрушительной буре. Что никакие убежища не помогут, не спасут. Что не будет тогда иметь значения ни звание, ни кошелёк, ни власть.Слова застряли у неё в горле и никак не хотели облачаться в звуки. Но по сверкнувшим ионной молнией глазам Змея, она увидела: он понял, что она хотела, но так и не смогла произнести.
- Я знаю всё, что мне необходимо знать. - он нетерпеливо махнул рукой и оскалился. Последние слова его прозвучали насмешкой - Летите и пусть прибудет с вами благосклонность Виты.Теперь Ева без колебаний шагнула в корабль и села в кресло, рядом с Адамом. На мгновение поймав его взгляд она прочитала те же мысли, что были у неё - они не вернутся. Никогда.
Просто будет некуда.Застегнула ровно двенадцать ремней, натянула серебряный, с голубым отливом шлем, и проделала вместе с Адамом ещё сотню механических доведенных до автоматизма действий, которые, казалось, с каждой секундой теряли свой смысл.Тишину нарушало лишь их дыхание в потрескивающих рациях, да нажатие кнопок и проверка рычагов, приводящих корабль в вертикальное положение. Когда последние приготовления были выполнены, они задержали дыхание и повернули тот единственный вентиль, разделяющий их и родной, погибающий дом и бескрайний космос. Под ним мелкими буквами было написано «Старт».
Ева смотрела в лобовое стекло, на серое небо без капли синевы и ей вспомнились вдруг картинки Земли, сделанные искусственными спутниками. Её почти прозрачный розово-голубой восход и яркую синеву погожего дня, практически забытую детьми Виты. Они приспособятся, выживут, адаптируются — у них есть для этого всё: образцы растений, животных и ещё тысячи полезных вещей ждут в багажном отсеке — не зря же экспедиция готовилась так долго и с такой скрупулезностью. Они дадут начало новому миру — лучшему миру, который точно не повторит ошибок своих предшественников.Они преодолели слой чернильных облаков под скрипучий рев двигателей. Там, в вышине, оказалось вовсе нет гроз и свинцовых туманов — лишь обманчивая чернота. Ева присмотрелась к ней и сердце, пропустив один удар, вдруг забилось чаще — цвет вокруг был не черным, а глубоким синим, отливающим перламутром возле прорезающих пространство на миллионы лье лучей звезд. Она прикрыла на мгновение глаза и ощутила то, что казалось всегда жило в душе, но старательно игнорировалось — а теперь неожиданно, всю её, будто вода, поглотила непоколебимая вера в лучшее.В конце концов, небо всегда синее.
Баранова Дарья. Что я вспомню после
Понедельник
Это будет отличная неделя, потому что через много лет я вспомню её в мельчайших подробностях. Мы с командой и тренером завтра едем на турнир в Сочи и проведём там все семь дней весенних каникул. Чемодан уже собран, остаётся получить справку от педиатра, которая подтвердит, что я не заразна и могу жить в хостеле со своей командой.
Ненавижу ожидание в очередях. За этот час в Африке произошло извержение вулкана, в далёкой галактике потухла звезда, но я бессмысленно теряю время, стоя у пыльный жёлтой стены в душном коридоре поликлиники.
Наконец меня вызывают в кабинет. Врач и медсестра смотрят сквозь меня и механическими неосознанными движениями ставят меня на весы, слушают моё дыхание.
- Имя, фамилия, – говорит медсестра и набирает что-то в компьютере. Она долго смотрит в монитор, нахмурив общипанные брови. Потом говорит озабоченным голосом: - Свет, подойди.
Врач подходит и тоже долго смотрит на экран компьютера. Я спрашиваю дрожащим голосом:
- Что такое?
- Анализы у тебя плохие, – говорит врач Света и впервые смотрит на меня внимательно. Так смотрят не на прохожих, а на новых соседей, например.
Я стою в замешательстве. Да, на прошлой неделе я сдавала анализ крови из пальца, это такая же формальность, как и справка от педиатра. Я думала, что результаты – лишь цифры в таблице, не способные на что-то влиять.
- Кто-то из родителей может сейчас подойти? – спрашивает врач Света.
- Папы у нас нет, а мама работает допоздна.
- Дай мне её номер, я позвоню, и её отпустят, – предлагает она.
- Нет, у неё начальник – зверь. Я однажды простудилась и лежала с температурой сорок, маму и то не отпустили. Она скорую с работы вызывала.
- Тогда приходите завтра рано, перед маминой работой, – вздыхает врач.
- Но завтра утром у меня поезд!
- Ты никуда не поедешь, – у Светы глаза грустные и усталые.
- Вы должны дать мне справку! Я за этим сюда и пришла!
Света говорит длинную и сложную фразу. Она произносит непонятные слова сквозь зубы, и я сначала думаю, что это ругательство, а потом понимаю – это мой диагноз.
- Это опасно? – сдавленно спрашиваю я.
- Это всё сейчас лечится, – ровно говорит Света.
- Только не у нас, – добавляет медсестра, и врач укоризненно на неё косится.
Что значит это случайно брошенное «не у нас»? Эта болезнь лечится, только не у нас в городе? Не у нас в стране? Не у нас на планете? У меня захватывает дух, будто я с ледяной горки лечу в пропасть и не могу остановиться.
Вторник
Утром мы приходим в поликлинику, и Света принимает нас без очереди. Она что-то тихо рассказывает маме, и мне хочется воскликнуть «Больше двух говорят вслух», но я не решаюсь. Наконец Света поворачивается ко мне:
- Тебе придётся лечь в больницу на некоторое время.
Я заранее упаковала вещи в чемодан для поездки на турнир. И теперь, вместо того чтобы катить чемодан по перрону и вдыхать дым с привкусом железа, я везу его по длинному коридору детской больницы, а нос чешется от химического запаха лекарств и хлорки. В мою палату нас провожает девушка, у которой и глаза, и волосы кофейного цвета.
- Меня Катя зовут. Ты не переживай, у тебя крутая палата, – весёлым голосом говорит она. – Большая и одноместная; на светлой стороне. Сама бы там пожила с удовольствием.
Я захожу в палату и понимаю, что Катя преувеличила: бежевые ободранные стены, длинный платяной шкаф цвета грязи, одинокая кровать в центре, окно с поломанной рамой. Никто тут с удовольствием жить не будет.
Среда
Завтрак приносят ко мне в палату, и я уныло ковыряю ложкой в липкой каше. Лучи утреннего солнца отражаются от бежевых стен и троекратно преломляются, заполняя всё помещение. Я чувствую себя пирожком внутри включённой духовки: мне жарко и больно от яркого света.
Я выхожу из душной палаты и слоняюсь туда-сюда. Как жаль потраченного времени. Жить надо так, чтобы потом всё-всё вспомнить, а разве можно будет через год вспомнить этот унылый нескончаемый коридор и снующих туда-сюда безликих медсестёр?
Потом меня осматривает главврач. У него волосы и лицо одного желтоватого оттенка, как парта в кабинете математики. Глаза голубые, но безжизненные и пустые. Он похож на Удава из старого мультика. Он выписывает мне направления на УЗИ, МРТ и анализы. Будто я потом вспомню расшифровку этих аббревиатур и цвет волос главврача!
Остаток дня хожу по кабинетам и возвращаюсь к себе лишь под вечер. Бледно-бежевые стены палаты перекрашиваются закатными лучами в ярко-жёлтый. На селфи мои глаза сверкают пламенем уходящего солнца, и выглядит это настолько красиво, что я решаюсь отправить фото подруге: той, с которой я должна была ехать на турнир в Сочи. Она в ответ присылает мне целый альбом. Она с пальмой, она на берегу моря, она с попугаем…С каждой фотографией мне становится больнее, но я продолжаю листать их и долго-долго разглядывать.
Четверг
Мне иголкой протыкают руку и через проводок высасывают венозную кровь. Уже заполнили шесть пробирок – скоро во мне не останется ни капли, всё уйдёт врачам на исследование. Я чувствую, как меня опустошают: голова кружится и перед глазами чёрточки. Наконец медсестра – совсем молодая, похожая на старшеклассницу, вытаскивает из меня иглу и отдаёт мне ватку. Я не успеваю обрадоваться, как медсестра говорит, глядя в бумажку:
- Ой, не уходи. Я кое-что перепутала, прости. Надо взять кровь заново.
Девушка втыкает мне иголку уже в другую руку, и хотя из меня забирают кровь, я вдруг ощущаю невыносимую тяжесть, будто в меня наоборот вливают что-то лишнее. Шея больше не может держать вес головы; сердце становится тяжелее и бьётся медленнее; веки наливаются свинцом, и я не могу открыть глаза.
Я прихожу в себя в своей палате. Рядом сидит Катя и протягивает мне стакан воды:
- Ты как, лучше себя чувствуешь? Это ничего, просто организм был не готов к такой нагрузке. Ты не переживай, в ближайшее время уже не будут брать анализы.
- Я больше вам ни капли крови не отдам, – говорю я и ставлю стакан с нетронутой водой на тумбочку.
- Кровь не отдавай, – Катя фыркает, думая, что я шучу. – Но на рентген надо сходить сейчас.
- Я не пойду. Меня не надо лечить. Разве я болею? У меня ничего не болит. Я закалённая. Занимаюсь спортом. Сегодня впервые в жизни потеряла сознание – и то из-за вас.
- Ты…пойми, – Катя трёт глаза руками. – Бывают болезни, которые долгое время не ощущаются, и из-за этого они ещё страшнее. Боль появляется в последний момент, когда человека уже спасти трудно. Тебе повезло, что выявили всё это достаточно рано, шанс ещё есть. Но мы не сможем помочь, если ты сама не будешь бороться.
- Я не хочу бороться. Я хочу гулять, купаться в море. Я сейчас должна быть в Сочи, а не в больнице, прикинь? Я хочу жить так, чтобы было что вспомнить! А из-за вас я почему-то здесь!
Катя плачет, и мне становится её жаль. Она тоже хотела бы гулять по набережной и играть в теннис, а она возится с безнадёжными больными. Я иду на рентген.
Пятница
Ко мне заглядывают мама с Удавом, но я делаю вид, что сплю.
- - Она спит, – испуганно и удивлённо вздыхает мама, словно впервые за 11 лет моей жизни видит меня спящей.
- - Давайте выйдем в коридор, – предлагает главврач.
Они выходят и плотно затворяют за собой дверь. Я соскакиваю с кровати и припадаю ухом к скважине замка.
- Прямо скажу: ситуация критическая. Операция предстоит непростая.
- Вы скажите, сколько? Мы всё соберём, – у мамы выцветший голос.
- Не в этом дело, – кашляет главврач. – Вы поймите, шанс очень маленький…
Мама издаёт странные звуки. Она не плакала с тех пор, как ушёл папа.
- Постараемся договориться о переводе в столицу. Там и оборудование лучше, и специалисты.
- Спасибо, - каким-то нечеловеческим голосом говорит мама.
Я медленно сползаю на пол. В окно, прячась за голыми ветками, издевательски подмигивает жёлтое солнце.
Суббота
Катю я не видела с того дня, как накричала на неё – было позавчера, а будто в другой жизни. Когда она приходит, я радуюсь, как после долгой разлуки:
- Прости меня. Я ошибалась, Сочи мне не нужен.
- Тебя в крайности всё бросает. На юге тоже круто. Съездишь ещё.
- Не съезжу.
- Хватит хандрить! Чудеса медицины случаются.
- Я не верю в чудеса.
- Главное, чтобы они в тебя верили, – Катя вытаскивает из кармана жёлтые яркие цветочки и протягивает мне. – Мать-и-мачеха уже цветёт. Возьми в Москву, там наверняка пока не выросла. Я тебе номер дам, напишешь мне.
Катя пишет цифры телефона на бумажке, а я верчу в руках Катин подарок и думаю о том, что нигде больше не найти таких жёлтых цветов.
Воскресенье
Мама приезжает за мной на машине, и мы едем в аэропорт, чтобы оттуда лететь в Москву, в больницу. Погода чудесная, солнце уже по-летнему тёплое, а я так давно не была на улице. Когда мы отъезжаем подальше от больницы, я прошусь погулять. Мы останавливаемся в первом попавшемся дворе. Мама порывается пойти со мной, но я хочу прогуляться в одиночестве, а во дворе как раз пустынно, ни души. В середине стоит белая берёза. На ветках ещё нет листьев и даже почек, но они не выглядят голыми, потому что усыпаны белыми голубями. Светит яркое белое солнце и берёза, и голуби, отражая солнечный свет, блестят и сияют, и сливаются в один безупречно белый силуэт. Я подбегаю к дереву и трясу его, смеясь. Голуби испуганно взлетают – почти разом, одновременно, стройной белой лентой в бесконечно синее небо, вопреки тому, что обычно голуби делают всё вразнобой.
Белая лента птиц растворяется в синем небе, как сахар в кружке чая. Голубей больше нет, только стоит в безлюдном, заспанном дворе белая берёза. И синее, безупречно синее, большое, необъятное небо остаётся. Только берёза и синее небо. Я смотрю в синеву, словно ожидаю, что из неё вынырнут голуби обратно, и продолжаю смеяться. Мама издалека, словно из другого мира, зовёт меня – я уже долго отсутствую. Перед тем как сесть в машину, я последний раз бросаю взгляд на синее небо: мне кажется, что там мелькнула белая точка. А из окна машины синего неба уже не увидишь – оно кажется тёмно-фиолетовым из-за тонированных стёкол.
А всё-таки это была отличная неделя. Я надеюсь, что через год вспомню не диагноз из сложных слов, не химический запах, не Удава, а только этих белых голубей, взлетевших с берёзы.
Понедельник
Это будет отличная неделя, потому что через много лет я вспомню её в мельчайших подробностях. Мы с командой и тренером завтра едем на турнир в Сочи и проведём там все семь дней весенних каникул. Чемодан уже собран, остаётся получить справку от педиатра, которая подтвердит, что я не заразна и могу жить в хостеле со своей командой.
Ненавижу ожидание в очередях. За этот час в Африке произошло извержение вулкана, в далёкой галактике потухла звезда, но я бессмысленно теряю время, стоя у пыльный жёлтой стены в душном коридоре поликлиники.
Наконец меня вызывают в кабинет. Врач и медсестра смотрят сквозь меня и механическими неосознанными движениями ставят меня на весы, слушают моё дыхание.
- Имя, фамилия, – говорит медсестра и набирает что-то в компьютере. Она долго смотрит в монитор, нахмурив общипанные брови. Потом говорит озабоченным голосом: - Свет, подойди.
Врач подходит и тоже долго смотрит на экран компьютера. Я спрашиваю дрожащим голосом:
- Что такое?
- Анализы у тебя плохие, – говорит врач Света и впервые смотрит на меня внимательно. Так смотрят не на прохожих, а на новых соседей, например.
Я стою в замешательстве. Да, на прошлой неделе я сдавала анализ крови из пальца, это такая же формальность, как и справка от педиатра. Я думала, что результаты – лишь цифры в таблице, не способные на что-то влиять.
- Кто-то из родителей может сейчас подойти? – спрашивает врач Света.
- Папы у нас нет, а мама работает допоздна.
- Дай мне её номер, я позвоню, и её отпустят, – предлагает она.
- Нет, у неё начальник – зверь. Я однажды простудилась и лежала с температурой сорок, маму и то не отпустили. Она скорую с работы вызывала.
- Тогда приходите завтра рано, перед маминой работой, – вздыхает врач.
- Но завтра утром у меня поезд!
- Ты никуда не поедешь, – у Светы глаза грустные и усталые.
- Вы должны дать мне справку! Я за этим сюда и пришла!
Света говорит длинную и сложную фразу. Она произносит непонятные слова сквозь зубы, и я сначала думаю, что это ругательство, а потом понимаю – это мой диагноз.
- Это опасно? – сдавленно спрашиваю я.
- Это всё сейчас лечится, – ровно говорит Света.
- Только не у нас, – добавляет медсестра, и врач укоризненно на неё косится.
Что значит это случайно брошенное «не у нас»? Эта болезнь лечится, только не у нас в городе? Не у нас в стране? Не у нас на планете? У меня захватывает дух, будто я с ледяной горки лечу в пропасть и не могу остановиться.
Вторник
Утром мы приходим в поликлинику, и Света принимает нас без очереди. Она что-то тихо рассказывает маме, и мне хочется воскликнуть «Больше двух говорят вслух», но я не решаюсь. Наконец Света поворачивается ко мне:
- Тебе придётся лечь в больницу на некоторое время.
Я заранее упаковала вещи в чемодан для поездки на турнир. И теперь, вместо того чтобы катить чемодан по перрону и вдыхать дым с привкусом железа, я везу его по длинному коридору детской больницы, а нос чешется от химического запаха лекарств и хлорки. В мою палату нас провожает девушка, у которой и глаза, и волосы кофейного цвета.
- Меня Катя зовут. Ты не переживай, у тебя крутая палата, – весёлым голосом говорит она. – Большая и одноместная; на светлой стороне. Сама бы там пожила с удовольствием.
Я захожу в палату и понимаю, что Катя преувеличила: бежевые ободранные стены, длинный платяной шкаф цвета грязи, одинокая кровать в центре, окно с поломанной рамой. Никто тут с удовольствием жить не будет.
Среда
Завтрак приносят ко мне в палату, и я уныло ковыряю ложкой в липкой каше. Лучи утреннего солнца отражаются от бежевых стен и троекратно преломляются, заполняя всё помещение. Я чувствую себя пирожком внутри включённой духовки: мне жарко и больно от яркого света.
Я выхожу из душной палаты и слоняюсь туда-сюда. Как жаль потраченного времени. Жить надо так, чтобы потом всё-всё вспомнить, а разве можно будет через год вспомнить этот унылый нескончаемый коридор и снующих туда-сюда безликих медсестёр?
Потом меня осматривает главврач. У него волосы и лицо одного желтоватого оттенка, как парта в кабинете математики. Глаза голубые, но безжизненные и пустые. Он похож на Удава из старого мультика. Он выписывает мне направления на УЗИ, МРТ и анализы. Будто я потом вспомню расшифровку этих аббревиатур и цвет волос главврача!
Остаток дня хожу по кабинетам и возвращаюсь к себе лишь под вечер. Бледно-бежевые стены палаты перекрашиваются закатными лучами в ярко-жёлтый. На селфи мои глаза сверкают пламенем уходящего солнца, и выглядит это настолько красиво, что я решаюсь отправить фото подруге: той, с которой я должна была ехать на турнир в Сочи. Она в ответ присылает мне целый альбом. Она с пальмой, она на берегу моря, она с попугаем…С каждой фотографией мне становится больнее, но я продолжаю листать их и долго-долго разглядывать.
Четверг
Мне иголкой протыкают руку и через проводок высасывают венозную кровь. Уже заполнили шесть пробирок – скоро во мне не останется ни капли, всё уйдёт врачам на исследование. Я чувствую, как меня опустошают: голова кружится и перед глазами чёрточки. Наконец медсестра – совсем молодая, похожая на старшеклассницу, вытаскивает из меня иглу и отдаёт мне ватку. Я не успеваю обрадоваться, как медсестра говорит, глядя в бумажку:
- Ой, не уходи. Я кое-что перепутала, прости. Надо взять кровь заново.
Девушка втыкает мне иголку уже в другую руку, и хотя из меня забирают кровь, я вдруг ощущаю невыносимую тяжесть, будто в меня наоборот вливают что-то лишнее. Шея больше не может держать вес головы; сердце становится тяжелее и бьётся медленнее; веки наливаются свинцом, и я не могу открыть глаза.
Я прихожу в себя в своей палате. Рядом сидит Катя и протягивает мне стакан воды:
- Ты как, лучше себя чувствуешь? Это ничего, просто организм был не готов к такой нагрузке. Ты не переживай, в ближайшее время уже не будут брать анализы.
- Я больше вам ни капли крови не отдам, – говорю я и ставлю стакан с нетронутой водой на тумбочку.
- Кровь не отдавай, – Катя фыркает, думая, что я шучу. – Но на рентген надо сходить сейчас.
- Я не пойду. Меня не надо лечить. Разве я болею? У меня ничего не болит. Я закалённая. Занимаюсь спортом. Сегодня впервые в жизни потеряла сознание – и то из-за вас.
- Ты…пойми, – Катя трёт глаза руками. – Бывают болезни, которые долгое время не ощущаются, и из-за этого они ещё страшнее. Боль появляется в последний момент, когда человека уже спасти трудно. Тебе повезло, что выявили всё это достаточно рано, шанс ещё есть. Но мы не сможем помочь, если ты сама не будешь бороться.
- Я не хочу бороться. Я хочу гулять, купаться в море. Я сейчас должна быть в Сочи, а не в больнице, прикинь? Я хочу жить так, чтобы было что вспомнить! А из-за вас я почему-то здесь!
Катя плачет, и мне становится её жаль. Она тоже хотела бы гулять по набережной и играть в теннис, а она возится с безнадёжными больными. Я иду на рентген.
Пятница
Ко мне заглядывают мама с Удавом, но я делаю вид, что сплю.
- - Она спит, – испуганно и удивлённо вздыхает мама, словно впервые за 11 лет моей жизни видит меня спящей.
- - Давайте выйдем в коридор, – предлагает главврач.
Они выходят и плотно затворяют за собой дверь. Я соскакиваю с кровати и припадаю ухом к скважине замка.
- Прямо скажу: ситуация критическая. Операция предстоит непростая.
- Вы скажите, сколько? Мы всё соберём, – у мамы выцветший голос.
- Не в этом дело, – кашляет главврач. – Вы поймите, шанс очень маленький…
Мама издаёт странные звуки. Она не плакала с тех пор, как ушёл папа.
- Постараемся договориться о переводе в столицу. Там и оборудование лучше, и специалисты.
- Спасибо, - каким-то нечеловеческим голосом говорит мама.
Я медленно сползаю на пол. В окно, прячась за голыми ветками, издевательски подмигивает жёлтое солнце.
Суббота
Катю я не видела с того дня, как накричала на неё – было позавчера, а будто в другой жизни. Когда она приходит, я радуюсь, как после долгой разлуки:
- Прости меня. Я ошибалась, Сочи мне не нужен.
- Тебя в крайности всё бросает. На юге тоже круто. Съездишь ещё.
- Не съезжу.
- Хватит хандрить! Чудеса медицины случаются.
- Я не верю в чудеса.
- Главное, чтобы они в тебя верили, – Катя вытаскивает из кармана жёлтые яркие цветочки и протягивает мне. – Мать-и-мачеха уже цветёт. Возьми в Москву, там наверняка пока не выросла. Я тебе номер дам, напишешь мне.
Катя пишет цифры телефона на бумажке, а я верчу в руках Катин подарок и думаю о том, что нигде больше не найти таких жёлтых цветов.
Воскресенье
Мама приезжает за мной на машине, и мы едем в аэропорт, чтобы оттуда лететь в Москву, в больницу. Погода чудесная, солнце уже по-летнему тёплое, а я так давно не была на улице. Когда мы отъезжаем подальше от больницы, я прошусь погулять. Мы останавливаемся в первом попавшемся дворе. Мама порывается пойти со мной, но я хочу прогуляться в одиночестве, а во дворе как раз пустынно, ни души. В середине стоит белая берёза. На ветках ещё нет листьев и даже почек, но они не выглядят голыми, потому что усыпаны белыми голубями. Светит яркое белое солнце и берёза, и голуби, отражая солнечный свет, блестят и сияют, и сливаются в один безупречно белый силуэт. Я подбегаю к дереву и трясу его, смеясь. Голуби испуганно взлетают – почти разом, одновременно, стройной белой лентой в бесконечно синее небо, вопреки тому, что обычно голуби делают всё вразнобой.
Белая лента птиц растворяется в синем небе, как сахар в кружке чая. Голубей больше нет, только стоит в безлюдном, заспанном дворе белая берёза. И синее, безупречно синее, большое, необъятное небо остаётся. Только берёза и синее небо. Я смотрю в синеву, словно ожидаю, что из неё вынырнут голуби обратно, и продолжаю смеяться. Мама издалека, словно из другого мира, зовёт меня – я уже долго отсутствую. Перед тем как сесть в машину, я последний раз бросаю взгляд на синее небо: мне кажется, что там мелькнула белая точка. А из окна машины синего неба уже не увидишь – оно кажется тёмно-фиолетовым из-за тонированных стёкол.
А всё-таки это была отличная неделя. Я надеюсь, что через год вспомню не диагноз из сложных слов, не химический запах, не Удава, а только этих белых голубей, взлетевших с берёзы.
Дьячкова Анжелика. Двадцать шестая
-У следующей участницы нашего конкурса красивое, необычное имя... Встречайте! Янышева Лу́на! 10 «А» класс!
-Невезучей я считаю себя ещё с самого рождения. Мои романтически настроенные родители, любящие, чтобы всё было не так, как у всех, выбрали мне имя Лу́на. Если честно, так себе имечко. В детском саду это имя не принесло мне больших неприятностей, в школе же оно просто испортило мне жизнь. Лу́ной меня называли только учителя, причём многим из них, как ни странно, моё имя нравилось. Одноклассники же величали меня только Луно́й. А потом, в седьмом классе, кто-то из мальчишек пропел: "Луна словно репа, а звёзды-фасоль..." И до конца 9 класса громко и при учителях я была Луно́й, а тихо и между собой-Репой.
-А вот и видеовизитка участницы из 10 «А» класса!
- Здравствуйте! Меня зовут Янышева Лу́на...
Надо же, как красиво я умею улыбаться. Или это только на экране? А в жизни? Неужели так же?
-Я с восьми лет занимаюсь бальными танцами...
-Занимаюсь... Помню, как вышла после первого занятия в слезах, потому что никак не получалось повторить то, что показывал преподаватель. А мама: "Раз хочешь танцевать в красивых платьях с блёстками, значит, учись, старайся!" Эх, знала бы я тогда, что первое моё выступление в таком платье будет только через два года. А как я мечтала, что надену бальное платье и закружусь в танце на школьном новогоднем празднике! И все одноклассники увидят, что я-принцесса, а никакая не репа... Но классный руководитель организовывала очередное скучное чаепитие. И никто из одноклассников так и не увидел, как красиво я умею танцевать. Хотя все они знали, что два раза в неделю после уроков я спешу на занятия бальными танцами. Мама в эти дни забирала мои волосы в хвост на макушке и заплетала его в тугую косу. И после уроков в мою спешащую спину неслось из класса: "О, репа на репу (репетицию) поскакала! Затрясла ботвой! (Это они про мою раскачивающуюся в такт шагам косу).
Сколько раз я просила маму, чтобы закрутила мне пучок. Но она отвечала, что к концу уроков он расползётся, и снова сооружала мне эту "ботву". Тогда в один прекрасный день я взяла ножницы и отрезала эту ненавистную косу. Волосы, освобожденные от плена резинки, рассыпались волнистыми прядями и остановились над плечами. Мне понравилось! Мама, конечно, расстроилась. Зато слово "ботва" ушло из лексикона одноклассников.
-Я решила принять участие в конкурсе "Лицеисточка", чтобы...
- Решила... Смешно! До сих пор не могу забыть, как я "решила".
Ольга Сергеевна начала возмущаться ещё с порога: "Девочки, ну как же так? От девятых классов участницы есть, от 11 «А» и 11 «Б» тоже есть, от 10 «Б» даже две участницы! А наш 10 «А», как сказала Любовь Николаевна, играет в молчанку. Девочки, смелее! Кто хочет поучаствовать в конкурсе "Лицеисточка"?
Девчонки улыбаются, переглядываются. Я, как обычно, стараюсь быть незаметной. Плету глазами на крышке стола вологодские кружева. И вот, когда я уже почти "сплела" воротничок, к доске выходит Кирилл. Кирилл... Я училась в 5 классе, мама вечерами читала мне повесть Аркадия Гайдара "Тимур и его команда". В этой повести был мальчик Тимур. Он стал для меня идеалом, помнится, я даже в него влюбилась. Так вот Кирилл для меня - это десять таких Тимуров. Я не то, чтобы взглянуть, а даже голову в его сторону повернуть не осмеливалась. И вот этот Кирилл стал убеждать меня, что именно я должна представлять наш класс на конкурсе. А всё потому, что у меня красивое имя, потому, что я шикарно танцую. Он видел меня на соревнованиях по бальным танцам (оказалось, что он тоже «бальник»). И ещё много разных "потому" привёл.
Уши мои горели сильнее, чем в жаркой парилке бабушкиной бани. Все кружева, которые я создала взглядом на столе, распустились, так как мой взгляд забыл про них и зацепился за взгляд Кирилла. И я поняла, что не смогу сказать ему: "Нет, я не буду участвовать".
А затем начались репетиции. Я каждый раз мысленно ругала себя за то, что согласилась, ожидала какого-то подвоха. Но на репетициях всё было хорошо.
-Я учусь в лицее первый год. Поступить сюда мне посоветовала...
-Да я была готова поступить куда угодно, лишь бы сменить обстановку. Прежняя школа была "не моя", и класс тоже. Я там ощущала себя приёмышем. После уроков всегда хотелось сразу домой. А дома- закутаться в пушистый свитер оверсайз, забраться с ногами в любимое кресло и уткнуться в книгу. Или так же, как наш котёнок, который любит на моих коленях клубочиться и мурчать от удовольствия, приласкаться к маме. Мама одной рукой обнимает, другой - гладит по голове, а я ей рассказываю, как день прошёл. Только хорошее рассказываю, чтобы не расстраивать. А про плохое стараюсь забыть. Жалко мне на плохое память переводить, а слова-тем более.
-Конкурс "Лицеисточка" подходит к концу. Члены жюри продолжают оценивать творчество групп поддержки наших прекрасных участниц. Смотрим, что приготовила группа поддержки Янышевой Лу́ны!
-Стою на сцене. Зал затемнён. А я - в ярком пятне у всех на виду. Одна. Прожектор слепит. Не вижу в зале знакомых лиц, вообще никаких лиц не вижу. Темнота и тишина. В висках начинает биться мысль: "Вот он, этот подвох, который ожидала. Дура! Зачем согласилась? Вот и стой одна. Никто не пришёл поддержать. И Кирилл куда-то пропал. Дура! Дура!"
Прожектор погас. Теперь везде темнота. Может, пройти на ощупь за кулисы и спрятаться? Спрятаться ото всех.
Опоздала. Включились два ярких прожектора и светят в зал. На первых рядах можно разглядеть лица зрителей. Смотрят на меня, улыбаются. Ну, смотрите, радуйтесь моему позору. На глазах навернулись слёзы... Какие-то белые пятна видны в середине зала. Нет, это не пятна. Это... Это мои одноклассники, все в белоснежных толстовках, встают и машут мне руками! Весь класс пришел! Слышу: "Раз, два, три!" Повернулись. На белых спинах малиновые буквы: ЛУ́НА, ТЫ САМАЯ ЛУЧШАЯ! И снова: "Раз, два, три!" Повернулись и хором на весь зал:
Лу́на, ты в классе двадцать шестая!
Мы, все двадцать пять, тебя обожаем!
И говорим опять и опять:
Мы тебя любим!
Твои двадцать пять!
Мои двадцать пять, двадцать пять одноклассников! Пришли все и зажгли звёзды радости в моих глазах! И я чувствую, как эти горячие звёзды катятся по моим щекам, подбородку, шее и исчезают в кружеве платья. А вместе с ними исчезают все мои обиды, страх, боль, неуверенность. Я подхожу к микрофону и говорю: "Я вас тоже люблю, мои двадцать пять!"
-У следующей участницы нашего конкурса красивое, необычное имя... Встречайте! Янышева Лу́на! 10 «А» класс!
-Невезучей я считаю себя ещё с самого рождения. Мои романтически настроенные родители, любящие, чтобы всё было не так, как у всех, выбрали мне имя Лу́на. Если честно, так себе имечко. В детском саду это имя не принесло мне больших неприятностей, в школе же оно просто испортило мне жизнь. Лу́ной меня называли только учителя, причём многим из них, как ни странно, моё имя нравилось. Одноклассники же величали меня только Луно́й. А потом, в седьмом классе, кто-то из мальчишек пропел: "Луна словно репа, а звёзды-фасоль..." И до конца 9 класса громко и при учителях я была Луно́й, а тихо и между собой-Репой.
-А вот и видеовизитка участницы из 10 «А» класса!
- Здравствуйте! Меня зовут Янышева Лу́на...
Надо же, как красиво я умею улыбаться. Или это только на экране? А в жизни? Неужели так же?
-Я с восьми лет занимаюсь бальными танцами...
-Занимаюсь... Помню, как вышла после первого занятия в слезах, потому что никак не получалось повторить то, что показывал преподаватель. А мама: "Раз хочешь танцевать в красивых платьях с блёстками, значит, учись, старайся!" Эх, знала бы я тогда, что первое моё выступление в таком платье будет только через два года. А как я мечтала, что надену бальное платье и закружусь в танце на школьном новогоднем празднике! И все одноклассники увидят, что я-принцесса, а никакая не репа... Но классный руководитель организовывала очередное скучное чаепитие. И никто из одноклассников так и не увидел, как красиво я умею танцевать. Хотя все они знали, что два раза в неделю после уроков я спешу на занятия бальными танцами. Мама в эти дни забирала мои волосы в хвост на макушке и заплетала его в тугую косу. И после уроков в мою спешащую спину неслось из класса: "О, репа на репу (репетицию) поскакала! Затрясла ботвой! (Это они про мою раскачивающуюся в такт шагам косу).
Сколько раз я просила маму, чтобы закрутила мне пучок. Но она отвечала, что к концу уроков он расползётся, и снова сооружала мне эту "ботву". Тогда в один прекрасный день я взяла ножницы и отрезала эту ненавистную косу. Волосы, освобожденные от плена резинки, рассыпались волнистыми прядями и остановились над плечами. Мне понравилось! Мама, конечно, расстроилась. Зато слово "ботва" ушло из лексикона одноклассников.
-Я решила принять участие в конкурсе "Лицеисточка", чтобы...
- Решила... Смешно! До сих пор не могу забыть, как я "решила".
Ольга Сергеевна начала возмущаться ещё с порога: "Девочки, ну как же так? От девятых классов участницы есть, от 11 «А» и 11 «Б» тоже есть, от 10 «Б» даже две участницы! А наш 10 «А», как сказала Любовь Николаевна, играет в молчанку. Девочки, смелее! Кто хочет поучаствовать в конкурсе "Лицеисточка"?
Девчонки улыбаются, переглядываются. Я, как обычно, стараюсь быть незаметной. Плету глазами на крышке стола вологодские кружева. И вот, когда я уже почти "сплела" воротничок, к доске выходит Кирилл. Кирилл... Я училась в 5 классе, мама вечерами читала мне повесть Аркадия Гайдара "Тимур и его команда". В этой повести был мальчик Тимур. Он стал для меня идеалом, помнится, я даже в него влюбилась. Так вот Кирилл для меня - это десять таких Тимуров. Я не то, чтобы взглянуть, а даже голову в его сторону повернуть не осмеливалась. И вот этот Кирилл стал убеждать меня, что именно я должна представлять наш класс на конкурсе. А всё потому, что у меня красивое имя, потому, что я шикарно танцую. Он видел меня на соревнованиях по бальным танцам (оказалось, что он тоже «бальник»). И ещё много разных "потому" привёл.
Уши мои горели сильнее, чем в жаркой парилке бабушкиной бани. Все кружева, которые я создала взглядом на столе, распустились, так как мой взгляд забыл про них и зацепился за взгляд Кирилла. И я поняла, что не смогу сказать ему: "Нет, я не буду участвовать".
А затем начались репетиции. Я каждый раз мысленно ругала себя за то, что согласилась, ожидала какого-то подвоха. Но на репетициях всё было хорошо.
-Я учусь в лицее первый год. Поступить сюда мне посоветовала...
-Да я была готова поступить куда угодно, лишь бы сменить обстановку. Прежняя школа была "не моя", и класс тоже. Я там ощущала себя приёмышем. После уроков всегда хотелось сразу домой. А дома- закутаться в пушистый свитер оверсайз, забраться с ногами в любимое кресло и уткнуться в книгу. Или так же, как наш котёнок, который любит на моих коленях клубочиться и мурчать от удовольствия, приласкаться к маме. Мама одной рукой обнимает, другой - гладит по голове, а я ей рассказываю, как день прошёл. Только хорошее рассказываю, чтобы не расстраивать. А про плохое стараюсь забыть. Жалко мне на плохое память переводить, а слова-тем более.
-Конкурс "Лицеисточка" подходит к концу. Члены жюри продолжают оценивать творчество групп поддержки наших прекрасных участниц. Смотрим, что приготовила группа поддержки Янышевой Лу́ны!
-Стою на сцене. Зал затемнён. А я - в ярком пятне у всех на виду. Одна. Прожектор слепит. Не вижу в зале знакомых лиц, вообще никаких лиц не вижу. Темнота и тишина. В висках начинает биться мысль: "Вот он, этот подвох, который ожидала. Дура! Зачем согласилась? Вот и стой одна. Никто не пришёл поддержать. И Кирилл куда-то пропал. Дура! Дура!"
Прожектор погас. Теперь везде темнота. Может, пройти на ощупь за кулисы и спрятаться? Спрятаться ото всех.
Опоздала. Включились два ярких прожектора и светят в зал. На первых рядах можно разглядеть лица зрителей. Смотрят на меня, улыбаются. Ну, смотрите, радуйтесь моему позору. На глазах навернулись слёзы... Какие-то белые пятна видны в середине зала. Нет, это не пятна. Это... Это мои одноклассники, все в белоснежных толстовках, встают и машут мне руками! Весь класс пришел! Слышу: "Раз, два, три!" Повернулись. На белых спинах малиновые буквы: ЛУ́НА, ТЫ САМАЯ ЛУЧШАЯ! И снова: "Раз, два, три!" Повернулись и хором на весь зал:
Лу́на, ты в классе двадцать шестая!
Мы, все двадцать пять, тебя обожаем!
И говорим опять и опять:
Мы тебя любим!
Твои двадцать пять!
Мои двадцать пять, двадцать пять одноклассников! Пришли все и зажгли звёзды радости в моих глазах! И я чувствую, как эти горячие звёзды катятся по моим щекам, подбородку, шее и исчезают в кружеве платья. А вместе с ними исчезают все мои обиды, страх, боль, неуверенность. Я подхожу к микрофону и говорю: "Я вас тоже люблю, мои двадцать пять!"
Никитина Татьяна. История одного памятника
Подходила к концу моя командировка в провинциальный городок К., где недавно открылся новый филиал нашей фирмы. Всё намеченное было выполнено, работа налажена, я был доволен результатом. До отъезда оставалось ещё полдня, и я решил прогуляться по тихим улочкам.
Наслаждаясь непривычным для меня неспешным ритмом жизни, зелёными ухоженными улочками городка, я свернул в уютный сквер, окружённый высокими деревьями и клумбами с яркими цветами. Здесь было немноголюдно и тихо. Прогуливались мамочки с колясками, пенсионеры, расположившись на скамейках, вели между собой негромкие беседы и читали свежую прессу.
В глубине сквера я увидел небольшую скульптурную композицию, подошёл, чтобы рассмотреть детали. На невысоком основании установлены две бронзовые фигуры: мальчика лет двенадцати и девочки лет десяти. Дети держатся за руки, и оба прижимают к груди по маленькому щенку. Образ девочки наполнен нежностью и заботой, она с любовью смотрит на крохотный спящий комочек, пригревшийся на её груди. Образ мальчика, стремительно шагнувшего вперёд с гордо поднятой головой, полон решимости спасти маленькие жизни и защитить от всех опасностей. И его маленький питомец навострил ушки, готовый поддержать своего храброго хозяина. Такой настрой героев я почувствовал, рассматривая эту необычную композицию.
Мне захотелось узнать, какая история связана с этим памятником. Почему он установлен в этом городе, на этом месте? Я присел на близ стоящую скамейку, где седовласый мужчина лет семидесяти в лёгком светлом костюме читал газету. Он производил впечатление образованного интеллигентного человека, и я надеялся с его помощью удовлетворить своё любопытство относительно заинтересовавшей меня скульптурной композиции. Обратившись к нему с приветствием и извинениями в том, что отвлекаю его от чтения, я задал моему собеседнику интересующий меня вопрос относительно этого памятника. И Семён Николаевич поведал мне удивительную историю, случившуюся в их городке много-много лет назад.
- Герои этого памятника – наши, местные ребята. Мальчика звали Коля Иванов, было ему тогда тринадцать лет. А девочка – Маша Петрова, десяти лет. Случилось это в самом начале Великой Отечественной войны, когда фашистские самолёты начали совершать налёты на советские города. Вот и нашему городку тогда досталось. Первый авианалёт был совсем неожиданным. Стоял ясный июльский день, ребятишки все на улице, у взрослых свои дела, тогда жители ещё не ощутили всех ужасов войны. И вдруг мирное небо прорезал гул моторов вражеских самолётов и свист сбрасываемых ими бомб. Взрывы, грохот, пожары, люди в панике бегут кто куда, крик, плач, кругом раненые, убитые… Самолёты пролетели и оставили после себя разруху, горе, вздыбленную землю и поломанные судьбы.
Я подумал, что даже представить такое страшно, не то, что пережить. А мой рассказчик продолжал:
- Мальчишки на речке были. Туда тоже бомба прилетела, не все уцелели. А в городе суета, выжившие пытаются пожары тушить, помогать раненым. Пробираясь сквозь руины к своему дому, Коля заметил девочку, сжавшуюся в комок у стены полуразрушенного дома, а кругом – только тела погибших. Он – к ней. «Не бойся,- говорит, - я тебе помогу. Тебя как зовут?» «Маша, - подняла девочка испачканное личико с большими испуганными глазами. - Меня мама за молоком в магазин послала, а тут такое…» Девочка неуверенно поднялась на ноги, растерянно осматриваясь вокруг. Тут мальчик заметил, что Маша крепко сжимает побелевшими пальчиками авоську, в которой покачивается уцелевшая во время бомбёжки стеклянная бутылка молока. Коля удивлённо хмыкнул. «Ну, ты хозяюшка»,- улыбнувшись, похвалил он девочку. «Конечно, ведь я мамина помощница, мне уже десять лет»,- более уверенно заговорила она. «А где твоя мама?» - спросил её Николай. «Мама – дома, а дом…» Маша стала оглядываться по сторонам, пытаясь сориентироваться в разрушенном окружении. Неуверенно она показала рукой в сторону огромной дымящейся груды, ещё совсем недавно бывшей каменной трёхэтажкой. «Найдём потом твою маму, - попытался успокоить он начавшую тихонько хныкать девочку. – А сейчас надо до моего дома дойти. Давай я понесу молоко». Он крепко взял Машу за руку, чувствуя ответственность за неё. Ребята пошли вместе.
Колин дом тоже не уцелел. Мальчик понял это ещё на подходе. Остановился в растерянности перед руинами, решая, что делать дальше. Вдруг среди шума дети уловили новый звук: то ли тоненький плач, то ли писк. Стали искать. Под рухнувшим соседским забором Коля увидел сломанную будку, в которой жила собака его одноклассника Петьки Попова, обыкновенная дворняжка по кличке Каштанка, как у Чехова, небольшая, рыжая, сообразительная и жизнерадостная, всеобщая любимица.
Примерно месяц назад у Каштанки появились щенки. Их было два, такие же рыженькие. Обычно новоиспечённая мать почти не покидала будку, заботясь о своих малышах. Сейчас, услышав писк, Коля бросился к будке, точнее, к тому, что от неё осталось. Он увидел придавленную обломками Каштанку, которая уже не дышала, но как будто смотрела на мальчика немигающими застывшими глазами. Щенки не отходили от неё, поскуливали, пытаясь получить привычную заботу.
Коля просунул руку в узкое пространство между досками развалившейся будки, одного за другим вытащил малышей и быстрым шагом направился к Маше, бережно прижимая щенков к груди. Боясь, что девочка увидит бедную Каштанку, он отвёл Машу в сторону. Она во все глаза смотрела на поскуливавших щенков. «Они же совсем малыши, - задумчиво произнесла девочка и стала оглядываться. – Где же их мама? Как же они без неё?» «Похоже, теперь мы их и мама, и папа», - серьёзно сказал Коля. – Вот и молоко пригодилось». Дети покормили щенков. И весь оставшийся день носили их с собой на руках…
Неожиданно мой рассказчик замолчал, мысленно погрузившись в непростую историю. Я тоже сидел тихо, боясь проявить бестактность. Но всё же вскоре не выдержал и тихо спросил:
- Семён Николаевич, а что было дальше с Колей и Машей? Вы знаете, как сложилась их жизнь, и какова судьба спасённых ими щенков Каштанки?
Мой собеседник проговорил, сначала слегка рассеянно:
- Да, да… Коля и Маша…
Затем продолжил более уверенно, окончательно вернув себе присутствие духа:
- Тогда всех детей, оставшихся без крова, собрали в здании школы, чудом уцелевшей в тот первый авианалёт. Потом выяснилось, что родители и Коли, и Маши погибли в тот страшный день. Через несколько дней детей вместе с другими сиротами отправили на поезде в эвакуацию. Всё это время ребята держались вместе, не отпускали от себя и щенков. Колинова щенка назвали Вулканом, потому что он был шустрый и боевой, а щенка Маши – Лавой, которая хоть и не была быстрой и ловкой, но обладала повышенным любопытством и везде настойчиво лезла. В пути, ещё до места назначения, эвакопоезд встретили родственники, сначала – Маши, потом – Коли. Узнав о случившейся трагедии, и те, и другие выяснили местонахождение детей и забрали их в свои семьи. Перед расставанием Коля и Маша, столько пережившие вместе, обещали друг другу встретиться потом в родном городе.
- Неужели встретились? – удивлённо воскликнул я, чем вызвал лёгкую улыбку у моего рассказчика.
- Встретились, только через десять лет на этом самом месте, где когда-то нашли щенков Каштанки. Тогда они уже были взрослыми людьми: Маше было двадцать лет, Коле – двадцать три. Родной город отстроили, и Коля принимал в этом непосредственное участие. Он, кстати, не смог отсиживаться у родной тёти, считая, что тоже должен воевать с фашистами как все настоящие мужчины – защитники своей Родины. Но его из-за возраста на фронт, конечно, не брали. Через год он всё-таки сбежал от тётки, пробрался в партизанский отряд, где вместе с боевыми товарищами приближал нашу победу. Потом вернулся в родной город, чтобы налаживать здесь мирную жизнь.
Маша, когда подросла, окончила школу и выучилась на медсестру, тогда смогла вернуться сюда. Вот тут-то они все и встретились снова через десять лет: Коля, Маша и их уже очень повзрослевшие Вулкан и Лава, прошедшие рядом со своими хозяевами все жизненные испытания. Больше Николай и Мария не расставались, создав крепкую счастливую семью. Коля выучился на архитектора, Маша стала врачом. Всю жизнь они работали на благо родного города. Здесь их очень уважали, многие горожане знали их лично. Большинство зданий в нашем городе построено по проекту Николая Степановича Иванова. А Мария Сергеевна была грамотным и отзывчивым врачом, всегда заботилась о здоровье своих пациентов, никому не отказывала в помощи в любое время.
Я, восхищённый таким удивительным рассказом о судьбе простых жителей этого городка, вдруг опомнился:
- Откуда же вы, Семён Николаевич, так хорошо знаете все подробности жизни этих людей?
- Всё очень просто, - улыбнувшись, ответил мой собеседник. – Я сын Николая и Марии Ивановых. Когда-то об этом, уже очень давно, они рассказывали мне, а теперь я – своим детям и внукам. Как и отец, я стал архитектором. Когда десять лет назад встал вопрос о благоустройстве этой территории, так тесно связанной с историей нашей семьи, тогда-то я и предложил проект этого сквера с такой скульптурной композицией. Мою идею поддержали и администрация, и горожане. Все понимали, что судьба Коли и Маши – это судьба всех детей войны, испытавших на себе её тяготы, рано повзрослевших, ставших опорой для младших и беззащитных.
Мы оба молчали, погружённые в свои мысли, когда к нам, улыбаясь, подошла милая женщина. Семён Николаевич представил мне свою жену Ольгу Сергеевну, с которой я учтиво раскланялся. Тут же, заливаясь звонким лаем, подбежали две маленькие рыжие собачки, весело играя друг с другом. Супруги пригласили меня к ним на ужин, но я учтиво отказался, ссылаясь на скорый отъезд. Мы любезно распрощались.
Почтенная чета, взявшись за руки, направилась к выходу из сквера в сопровождении своих весёлых питомцев. Я невольно перевёл взгляд на удивительный памятник…
Подходила к концу моя командировка в провинциальный городок К., где недавно открылся новый филиал нашей фирмы. Всё намеченное было выполнено, работа налажена, я был доволен результатом. До отъезда оставалось ещё полдня, и я решил прогуляться по тихим улочкам.
Наслаждаясь непривычным для меня неспешным ритмом жизни, зелёными ухоженными улочками городка, я свернул в уютный сквер, окружённый высокими деревьями и клумбами с яркими цветами. Здесь было немноголюдно и тихо. Прогуливались мамочки с колясками, пенсионеры, расположившись на скамейках, вели между собой негромкие беседы и читали свежую прессу.
В глубине сквера я увидел небольшую скульптурную композицию, подошёл, чтобы рассмотреть детали. На невысоком основании установлены две бронзовые фигуры: мальчика лет двенадцати и девочки лет десяти. Дети держатся за руки, и оба прижимают к груди по маленькому щенку. Образ девочки наполнен нежностью и заботой, она с любовью смотрит на крохотный спящий комочек, пригревшийся на её груди. Образ мальчика, стремительно шагнувшего вперёд с гордо поднятой головой, полон решимости спасти маленькие жизни и защитить от всех опасностей. И его маленький питомец навострил ушки, готовый поддержать своего храброго хозяина. Такой настрой героев я почувствовал, рассматривая эту необычную композицию.
Мне захотелось узнать, какая история связана с этим памятником. Почему он установлен в этом городе, на этом месте? Я присел на близ стоящую скамейку, где седовласый мужчина лет семидесяти в лёгком светлом костюме читал газету. Он производил впечатление образованного интеллигентного человека, и я надеялся с его помощью удовлетворить своё любопытство относительно заинтересовавшей меня скульптурной композиции. Обратившись к нему с приветствием и извинениями в том, что отвлекаю его от чтения, я задал моему собеседнику интересующий меня вопрос относительно этого памятника. И Семён Николаевич поведал мне удивительную историю, случившуюся в их городке много-много лет назад.
- Герои этого памятника – наши, местные ребята. Мальчика звали Коля Иванов, было ему тогда тринадцать лет. А девочка – Маша Петрова, десяти лет. Случилось это в самом начале Великой Отечественной войны, когда фашистские самолёты начали совершать налёты на советские города. Вот и нашему городку тогда досталось. Первый авианалёт был совсем неожиданным. Стоял ясный июльский день, ребятишки все на улице, у взрослых свои дела, тогда жители ещё не ощутили всех ужасов войны. И вдруг мирное небо прорезал гул моторов вражеских самолётов и свист сбрасываемых ими бомб. Взрывы, грохот, пожары, люди в панике бегут кто куда, крик, плач, кругом раненые, убитые… Самолёты пролетели и оставили после себя разруху, горе, вздыбленную землю и поломанные судьбы.
Я подумал, что даже представить такое страшно, не то, что пережить. А мой рассказчик продолжал:
- Мальчишки на речке были. Туда тоже бомба прилетела, не все уцелели. А в городе суета, выжившие пытаются пожары тушить, помогать раненым. Пробираясь сквозь руины к своему дому, Коля заметил девочку, сжавшуюся в комок у стены полуразрушенного дома, а кругом – только тела погибших. Он – к ней. «Не бойся,- говорит, - я тебе помогу. Тебя как зовут?» «Маша, - подняла девочка испачканное личико с большими испуганными глазами. - Меня мама за молоком в магазин послала, а тут такое…» Девочка неуверенно поднялась на ноги, растерянно осматриваясь вокруг. Тут мальчик заметил, что Маша крепко сжимает побелевшими пальчиками авоську, в которой покачивается уцелевшая во время бомбёжки стеклянная бутылка молока. Коля удивлённо хмыкнул. «Ну, ты хозяюшка»,- улыбнувшись, похвалил он девочку. «Конечно, ведь я мамина помощница, мне уже десять лет»,- более уверенно заговорила она. «А где твоя мама?» - спросил её Николай. «Мама – дома, а дом…» Маша стала оглядываться по сторонам, пытаясь сориентироваться в разрушенном окружении. Неуверенно она показала рукой в сторону огромной дымящейся груды, ещё совсем недавно бывшей каменной трёхэтажкой. «Найдём потом твою маму, - попытался успокоить он начавшую тихонько хныкать девочку. – А сейчас надо до моего дома дойти. Давай я понесу молоко». Он крепко взял Машу за руку, чувствуя ответственность за неё. Ребята пошли вместе.
Колин дом тоже не уцелел. Мальчик понял это ещё на подходе. Остановился в растерянности перед руинами, решая, что делать дальше. Вдруг среди шума дети уловили новый звук: то ли тоненький плач, то ли писк. Стали искать. Под рухнувшим соседским забором Коля увидел сломанную будку, в которой жила собака его одноклассника Петьки Попова, обыкновенная дворняжка по кличке Каштанка, как у Чехова, небольшая, рыжая, сообразительная и жизнерадостная, всеобщая любимица.
Примерно месяц назад у Каштанки появились щенки. Их было два, такие же рыженькие. Обычно новоиспечённая мать почти не покидала будку, заботясь о своих малышах. Сейчас, услышав писк, Коля бросился к будке, точнее, к тому, что от неё осталось. Он увидел придавленную обломками Каштанку, которая уже не дышала, но как будто смотрела на мальчика немигающими застывшими глазами. Щенки не отходили от неё, поскуливали, пытаясь получить привычную заботу.
Коля просунул руку в узкое пространство между досками развалившейся будки, одного за другим вытащил малышей и быстрым шагом направился к Маше, бережно прижимая щенков к груди. Боясь, что девочка увидит бедную Каштанку, он отвёл Машу в сторону. Она во все глаза смотрела на поскуливавших щенков. «Они же совсем малыши, - задумчиво произнесла девочка и стала оглядываться. – Где же их мама? Как же они без неё?» «Похоже, теперь мы их и мама, и папа», - серьёзно сказал Коля. – Вот и молоко пригодилось». Дети покормили щенков. И весь оставшийся день носили их с собой на руках…
Неожиданно мой рассказчик замолчал, мысленно погрузившись в непростую историю. Я тоже сидел тихо, боясь проявить бестактность. Но всё же вскоре не выдержал и тихо спросил:
- Семён Николаевич, а что было дальше с Колей и Машей? Вы знаете, как сложилась их жизнь, и какова судьба спасённых ими щенков Каштанки?
Мой собеседник проговорил, сначала слегка рассеянно:
- Да, да… Коля и Маша…
Затем продолжил более уверенно, окончательно вернув себе присутствие духа:
- Тогда всех детей, оставшихся без крова, собрали в здании школы, чудом уцелевшей в тот первый авианалёт. Потом выяснилось, что родители и Коли, и Маши погибли в тот страшный день. Через несколько дней детей вместе с другими сиротами отправили на поезде в эвакуацию. Всё это время ребята держались вместе, не отпускали от себя и щенков. Колинова щенка назвали Вулканом, потому что он был шустрый и боевой, а щенка Маши – Лавой, которая хоть и не была быстрой и ловкой, но обладала повышенным любопытством и везде настойчиво лезла. В пути, ещё до места назначения, эвакопоезд встретили родственники, сначала – Маши, потом – Коли. Узнав о случившейся трагедии, и те, и другие выяснили местонахождение детей и забрали их в свои семьи. Перед расставанием Коля и Маша, столько пережившие вместе, обещали друг другу встретиться потом в родном городе.
- Неужели встретились? – удивлённо воскликнул я, чем вызвал лёгкую улыбку у моего рассказчика.
- Встретились, только через десять лет на этом самом месте, где когда-то нашли щенков Каштанки. Тогда они уже были взрослыми людьми: Маше было двадцать лет, Коле – двадцать три. Родной город отстроили, и Коля принимал в этом непосредственное участие. Он, кстати, не смог отсиживаться у родной тёти, считая, что тоже должен воевать с фашистами как все настоящие мужчины – защитники своей Родины. Но его из-за возраста на фронт, конечно, не брали. Через год он всё-таки сбежал от тётки, пробрался в партизанский отряд, где вместе с боевыми товарищами приближал нашу победу. Потом вернулся в родной город, чтобы налаживать здесь мирную жизнь.
Маша, когда подросла, окончила школу и выучилась на медсестру, тогда смогла вернуться сюда. Вот тут-то они все и встретились снова через десять лет: Коля, Маша и их уже очень повзрослевшие Вулкан и Лава, прошедшие рядом со своими хозяевами все жизненные испытания. Больше Николай и Мария не расставались, создав крепкую счастливую семью. Коля выучился на архитектора, Маша стала врачом. Всю жизнь они работали на благо родного города. Здесь их очень уважали, многие горожане знали их лично. Большинство зданий в нашем городе построено по проекту Николая Степановича Иванова. А Мария Сергеевна была грамотным и отзывчивым врачом, всегда заботилась о здоровье своих пациентов, никому не отказывала в помощи в любое время.
Я, восхищённый таким удивительным рассказом о судьбе простых жителей этого городка, вдруг опомнился:
- Откуда же вы, Семён Николаевич, так хорошо знаете все подробности жизни этих людей?
- Всё очень просто, - улыбнувшись, ответил мой собеседник. – Я сын Николая и Марии Ивановых. Когда-то об этом, уже очень давно, они рассказывали мне, а теперь я – своим детям и внукам. Как и отец, я стал архитектором. Когда десять лет назад встал вопрос о благоустройстве этой территории, так тесно связанной с историей нашей семьи, тогда-то я и предложил проект этого сквера с такой скульптурной композицией. Мою идею поддержали и администрация, и горожане. Все понимали, что судьба Коли и Маши – это судьба всех детей войны, испытавших на себе её тяготы, рано повзрослевших, ставших опорой для младших и беззащитных.
Мы оба молчали, погружённые в свои мысли, когда к нам, улыбаясь, подошла милая женщина. Семён Николаевич представил мне свою жену Ольгу Сергеевну, с которой я учтиво раскланялся. Тут же, заливаясь звонким лаем, подбежали две маленькие рыжие собачки, весело играя друг с другом. Супруги пригласили меня к ним на ужин, но я учтиво отказался, ссылаясь на скорый отъезд. Мы любезно распрощались.
Почтенная чета, взявшись за руки, направилась к выходу из сквера в сопровождении своих весёлых питомцев. Я невольно перевёл взгляд на удивительный памятник…
Машичева Елизавета. Ключ к семье
Звук громко хлопнувшей двери заставляет меня снять наушники: слышу щелчок замка. Родители закрылись в комнате. Голос мамы. Я подхожу к стене, прислушиваюсь, понимая лишь отдельные фразы: "Ты не слышишь… почему… разве сложно… ты эгоист…" Молчание. Еще какие-то неразличимые слова. "…Развод…" В последнее время родители часто ругаются, но не так. Темнота в глазах заставляет схватиться за стеллаж.
Слышу стук. Сердце бьется в ненормально быстром темпе. Не дождавшись ответа, папа заходит. Вообще, своего отца я знаю не особо хорошо. Его часто нет дома - он работает дальнобойщиком. По натуре суров и молчалив. Посмотрев на меня, отец хмурит брови и просто выходит из комнаты, как всегда не закрыв дверь. Я с трудом отрываюсь от стеллажа, делаю немыслимое, когда спокойно закрываю дверь, дохожу до кровати и без сил падаю в объятия Морфея.
Мелодия будильника постепенно возвращает меня в реальный мир.
"Стоит ли вмешиваться в дела взрослых? Почему же так вышло?" - сразу посыпались вопросы, но ответов нет.
Лучики снежинок хрустят под ногами, мирно шелестят развешанные на столбах объявления. Я поверхностно оглядываю их, и внезапно мой взгляд привлекает листовка с яркими отрывными бумажками, на которой детским почерком написано: "ВАЗЬМИ ШАРИК НА УДАЧУ". Я аккуратно оторвал один, зеленый в фиолетовую полоску. Или, может, фиолетовый в зеленую… Наверное, это сейчас не так важно. А что же тогда важно?
Школа. Захожу в класс. Мой друг, с которым я сижу уже два года подряд, пересел к новенькому, у которого оказались такие же мемы в ленте. Если вчера в этой проблеме я находил плюсы, то сейчас мне это даже проблемой не кажется. Видимо, правду говорят, клин клином вышибают. Такой оптимизм сейчас как раз кстати.
"И вправду, может, человек и не обязан чему-либо радоваться, к чему-то стремиться, не должен надеяться и верить, но ведь без этого его поглотит отчаяние. Значит, действие - единственный выход," - понял я.
Всё оказалось на поверхности. Конечно же надо действовать!
По приходе домой достал тетрадку, написал на первой странице:
"План по сбору сложного пазла "Семья". Начало положено, первый, маленький шаг к помощи беспомощным взрослым. На следующей странице я рисую маму и папу деталями пазла сложной формы. Внизу целый пазл - "Цель". Обрисовав себе ситуацию, принимаюсь расписывать план.
«Итак, во-первых, надо узнать причину. Распишем все возможные варианты, потом определим источник», - размышляю я. Сегодня решаю выполнить первый пункт. Начнем с мамы. Из её объяснений вывожу следующее: "Невнимательность папы к желаниям мамы, а также сами её желания».
Теперь папа. Захожу к нему без стука. Отец смотрит на меня вопросительно и, услышав бормотание в ответ, просит зайти попозже. Он оказался не таким сговорчивым, что я тоже записал. Полагаю, что я нашел корень зла: "Ослабление семейных ценностей и недостаток внимания".
Первый пункт выполнен! За оставшийся вечер я постарался дописать остальные пункты плана. Наверное, самое сложное - придумать решение. Этим я займусь завтра.
Началось вчерашнее "завтра", к 11 утра я готов к труду и обороне семьи. Какие есть варианты?
"Так-с, их нужно убедить. Как? Семейные фотографии, статьи психологов…"
Господи, этим же никого не убедишь! Да что это такое? Мне невероятно сложно признаться себе, но…
"Нет, я и без этого справлюсь", - внушаю я себе.
Решаю почитать статьи. На середине четвертой понял, что уже не вникаю в текст. Кинул телефон на кровать. Все-таки следует признать. Но ведь это покажет, что я не способен на что-то дельное. Нет! Это ничего не значит!
- Мне нужна помощь, - тихо говорю я.
Это стоило мне невероятных усилий, но я смог. От кого мне получить помощь? Долго думать не пришлось. Бабуня. Позвонил ей, сказав, что скоро приеду. И вот я стучу в дверь. Бабушка открывает её и хитро улыбается, увидев у меня в руках наше любимое печенье.
- Привет, солнце, залетай, - весело говорит бабушка.
- Доброе утречко, - я послушно залетаю, крепко обняв бабуню.
Я её обожаю. Она такая мудрая, проницательная, а еще самый жизнерадостный и классный человек, которого я знаю. Искренняя улыбка всегда украшает ее лицо. Она - единственная, кому я по-настоящему доверяю. Бабуня предложила пойти на кухню.
Мы пили чудесный чай с чабрецом, заедая его нашим любимым печеньем с шоколадной крошкой, играли в слова и прекрасно проводили время. И тут я вспоминаю о проблеме. Бабуня замечает мою тревогу:
- Что тебя волнует? - спрашивает бабушка. Она видит меня насквозь.
- Тебе родители ничего не рассказывали? - неуверенно начинаю я.
- Вроде ничего, что могло бы тебя так тревожить, - хмуря брови, отвечает бабуня.
- В общем… я слышал, что они хотят развестись! - выпалил я.
- Хм, вот как! - бабушка о чём-то задумывается и потом спрашивает. - Что ты чувствуешь?
- Отчаяние, пустоту… Я хотел помочь родителям, я уже составил план и выполнил первый пункт из него, но мне чего-то не хватает, чтобы понять, как это всё воплотить. Я чувствую себя ничтожеством, я не понимаю, нужно ли это вообще кому-то… - я говорю и говорю, выплескивая захлестнувшие меня эмоции.
- Так, ну, для начала - выдохни, - я послушно постарался перевести дыхание. - Во-первых, ты уже начал. Ты смог сделать шаг в сторону помощи родителям. Во-вторых, ты смог признать, что тебе нужна помощь. А зная твой характер, признание тебе далось непросто.
- Бабунь, а я могу их убедить? - задаю я терзающий меня вопрос.
- Можешь, конечно можешь. Кстати, ты говорил, что не понимаешь, нужно ли это кому-то. Если это нужно тебе, то иди вперед, достигай свою цель. Тебе это нужно?
Я понял. Главное, что это нужно мне, я готов довести дело до конца!
Мы сидели за столом, бабушка рассказывала, что семья - это не только общее счастье, это также общие проблемы. Семья - умение уступать, это давать другим возможность сделать что-то для тебя, это терпение. Если разрушать семью из-за недопонимания, зачем тогда вообще создавать ее?
Я решил остаться у бабушки до воскресенья.
Просыпаюсь от невероятного запаха. Встав, первым делом заглядываю на кухню. Бабушка достает из духовки манник со сливой, который я обожаю. Помню, в первый раз, когда я попробовал обычный манник, мне он не понравился. Тогда бабуня сказала: "А если со сливой?"
И вот такой манник я люблю до сих пор. Воспоминания. Внутри что-то шевельнулось, но я тут же потерял мысль, и, как не силился, не мог вспомнить. Мы с бабуней сидим за столом, пьем какао с нотками корицы и едим чудесный манник, из которого я уже успел выковырять несколько слив.
- Давай пойдём гулять после завтрака? - предлагает бабуня.
Я не люблю гулять, максимум - хожу пешком в школу и обратно. Первое мое желание было отказаться, но тут я вспомнил слова бабушки: "Семья - это не всегда делать то, что тебе нужно или нравится в данный момент. Это делать приятно другому, через свое "не хочу". Пересилив себя, отвечаю согласием.
В комнате, которую бабуня сделала специально для меня когда-то давно, стоит кровать со вторым ярусом, под которым мой рабочий стол с нашими с бабушкой фотографиями. И снова проскальзывает какая-то мысль, которую я опять не успеваю схватить. Да что же это такое? Я иду к шкафу, открываю дверцы, замечаю упавшую одежду. Нечто лиственно-зеленого цвета внезапно привлекло мое внимание, тяну и вытаскиваю на свет толстовку.
«Неужели, это она», - думаю я, с восторгом глядя на вещь. Да, это она, моя любимая толстовка с нарисованным на ней ключом. Я помню, как бабушка подарила мне её на день рождения, на тот момент на ней не было рисунка. С толстовкой бабушка подарила мне краски по ткани, и мы все вместе - я, мама, папа, бабушка - разукрашивали вещь. Я тогда решил, что хочу, чтобы в центре был ключ.
"Воспоминания, - я наконец поймал улетавшую сегодня раз за разом мысль, - вот же он - ключ!"
Я понял. Понял. Я нашёл ключ к проблеме. Зашла бабуня и, увидев мои светящиеся глаза и ту самую толстовку, по-доброму мне улыбнулась.
- Ба, я нашел, я придумал! - радостно говорю я.
- Я так понимаю, прогулка откладывается. Рассказывай, - бабуня с интересом смотрит на меня, присаживаясь в кресло.
Я попытался донести свою идею о том, что можно помирить родителей через общие воспоминания. После одобрения бабуни мы с ней начали расписывать мое выступление. Может, я и не знаю, что такое настоящее счастье, но, думаю, это оно и есть.
И вот день выступления. Я еще раз просматриваю подготовленную мной презентацию. Заранее спросил папу, сможет ли он приехать в этот день. На его вопрос "зачем" ответил, что кое-что нужно срочно починить. Хорошо, что он не спросил, что именно, ведь не скажешь же, что надо чинить семью.
Бабуня тоже пришла. Она понимала, что мне нужна будет поддержка. И вот я надеваю толстовку лиственно-зеленого цвета и смотрю в зеркало.
- Ни пуха ни пера, - шепчу себе успокаивающе.
Я стою у двери в гостиную. Там сидят мои родители и бабушка. Я ещё раз пересматриваю слайды и инфографику, перечитываю аргументы. Пора, куда уж тянуть. Тихо захожу, подключаю мини-проектор к ноутбуку, раскладываю материал. Когда высвечивается первый слайд с надписью "Сбор сложного пазла "Семья", мама встает с дивана и хочет уйти, но внезапно натыкается на мой взгляд, который пронзил ее, обрубая желание к отступлению. Она села обратно. Я начинаю. Меня сковывает страх, что ничего не получится. Но тут я вспоминаю еще одну бабушкину фразу: «Не надо глубоко задумываться об итоге, делай все на максимум и с кайфом, достигая цели… Иди вперед!"
Я смотрю бабушке в глаза. Она подбадривающе кивает и показывает свои скрещенные на удачу пальцы. Моя речь становится ярче, увереннее. И вот моя любимая часть - воспоминания. Я с упоением рассказываю, или, скорее, напоминаю родителям о наших походах, о том, как я когда-то упал на роликах в парке, чем жутко напугал папу, о том самом дне рождения…
Вот последний слайд. Последние слова. Вот и все. Я выжидающе смотрю на всех. Отец встает, подходит ко мне и молча протягивает руку. Я хочу пожать ее, но вдруг сам протягиваю обе руки и обнимаю его. Вскоре к нам присоединились мама и бабушка, мы так и стояли в гостиной, все вместе, одной семьей.
Звук громко хлопнувшей двери заставляет меня снять наушники: слышу щелчок замка. Родители закрылись в комнате. Голос мамы. Я подхожу к стене, прислушиваюсь, понимая лишь отдельные фразы: "Ты не слышишь… почему… разве сложно… ты эгоист…" Молчание. Еще какие-то неразличимые слова. "…Развод…" В последнее время родители часто ругаются, но не так. Темнота в глазах заставляет схватиться за стеллаж.
Слышу стук. Сердце бьется в ненормально быстром темпе. Не дождавшись ответа, папа заходит. Вообще, своего отца я знаю не особо хорошо. Его часто нет дома - он работает дальнобойщиком. По натуре суров и молчалив. Посмотрев на меня, отец хмурит брови и просто выходит из комнаты, как всегда не закрыв дверь. Я с трудом отрываюсь от стеллажа, делаю немыслимое, когда спокойно закрываю дверь, дохожу до кровати и без сил падаю в объятия Морфея.
Мелодия будильника постепенно возвращает меня в реальный мир.
"Стоит ли вмешиваться в дела взрослых? Почему же так вышло?" - сразу посыпались вопросы, но ответов нет.
Лучики снежинок хрустят под ногами, мирно шелестят развешанные на столбах объявления. Я поверхностно оглядываю их, и внезапно мой взгляд привлекает листовка с яркими отрывными бумажками, на которой детским почерком написано: "ВАЗЬМИ ШАРИК НА УДАЧУ". Я аккуратно оторвал один, зеленый в фиолетовую полоску. Или, может, фиолетовый в зеленую… Наверное, это сейчас не так важно. А что же тогда важно?
Школа. Захожу в класс. Мой друг, с которым я сижу уже два года подряд, пересел к новенькому, у которого оказались такие же мемы в ленте. Если вчера в этой проблеме я находил плюсы, то сейчас мне это даже проблемой не кажется. Видимо, правду говорят, клин клином вышибают. Такой оптимизм сейчас как раз кстати.
"И вправду, может, человек и не обязан чему-либо радоваться, к чему-то стремиться, не должен надеяться и верить, но ведь без этого его поглотит отчаяние. Значит, действие - единственный выход," - понял я.
Всё оказалось на поверхности. Конечно же надо действовать!
По приходе домой достал тетрадку, написал на первой странице:
"План по сбору сложного пазла "Семья". Начало положено, первый, маленький шаг к помощи беспомощным взрослым. На следующей странице я рисую маму и папу деталями пазла сложной формы. Внизу целый пазл - "Цель". Обрисовав себе ситуацию, принимаюсь расписывать план.
«Итак, во-первых, надо узнать причину. Распишем все возможные варианты, потом определим источник», - размышляю я. Сегодня решаю выполнить первый пункт. Начнем с мамы. Из её объяснений вывожу следующее: "Невнимательность папы к желаниям мамы, а также сами её желания».
Теперь папа. Захожу к нему без стука. Отец смотрит на меня вопросительно и, услышав бормотание в ответ, просит зайти попозже. Он оказался не таким сговорчивым, что я тоже записал. Полагаю, что я нашел корень зла: "Ослабление семейных ценностей и недостаток внимания".
Первый пункт выполнен! За оставшийся вечер я постарался дописать остальные пункты плана. Наверное, самое сложное - придумать решение. Этим я займусь завтра.
Началось вчерашнее "завтра", к 11 утра я готов к труду и обороне семьи. Какие есть варианты?
"Так-с, их нужно убедить. Как? Семейные фотографии, статьи психологов…"
Господи, этим же никого не убедишь! Да что это такое? Мне невероятно сложно признаться себе, но…
"Нет, я и без этого справлюсь", - внушаю я себе.
Решаю почитать статьи. На середине четвертой понял, что уже не вникаю в текст. Кинул телефон на кровать. Все-таки следует признать. Но ведь это покажет, что я не способен на что-то дельное. Нет! Это ничего не значит!
- Мне нужна помощь, - тихо говорю я.
Это стоило мне невероятных усилий, но я смог. От кого мне получить помощь? Долго думать не пришлось. Бабуня. Позвонил ей, сказав, что скоро приеду. И вот я стучу в дверь. Бабушка открывает её и хитро улыбается, увидев у меня в руках наше любимое печенье.
- Привет, солнце, залетай, - весело говорит бабушка.
- Доброе утречко, - я послушно залетаю, крепко обняв бабуню.
Я её обожаю. Она такая мудрая, проницательная, а еще самый жизнерадостный и классный человек, которого я знаю. Искренняя улыбка всегда украшает ее лицо. Она - единственная, кому я по-настоящему доверяю. Бабуня предложила пойти на кухню.
Мы пили чудесный чай с чабрецом, заедая его нашим любимым печеньем с шоколадной крошкой, играли в слова и прекрасно проводили время. И тут я вспоминаю о проблеме. Бабуня замечает мою тревогу:
- Что тебя волнует? - спрашивает бабушка. Она видит меня насквозь.
- Тебе родители ничего не рассказывали? - неуверенно начинаю я.
- Вроде ничего, что могло бы тебя так тревожить, - хмуря брови, отвечает бабуня.
- В общем… я слышал, что они хотят развестись! - выпалил я.
- Хм, вот как! - бабушка о чём-то задумывается и потом спрашивает. - Что ты чувствуешь?
- Отчаяние, пустоту… Я хотел помочь родителям, я уже составил план и выполнил первый пункт из него, но мне чего-то не хватает, чтобы понять, как это всё воплотить. Я чувствую себя ничтожеством, я не понимаю, нужно ли это вообще кому-то… - я говорю и говорю, выплескивая захлестнувшие меня эмоции.
- Так, ну, для начала - выдохни, - я послушно постарался перевести дыхание. - Во-первых, ты уже начал. Ты смог сделать шаг в сторону помощи родителям. Во-вторых, ты смог признать, что тебе нужна помощь. А зная твой характер, признание тебе далось непросто.
- Бабунь, а я могу их убедить? - задаю я терзающий меня вопрос.
- Можешь, конечно можешь. Кстати, ты говорил, что не понимаешь, нужно ли это кому-то. Если это нужно тебе, то иди вперед, достигай свою цель. Тебе это нужно?
Я понял. Главное, что это нужно мне, я готов довести дело до конца!
Мы сидели за столом, бабушка рассказывала, что семья - это не только общее счастье, это также общие проблемы. Семья - умение уступать, это давать другим возможность сделать что-то для тебя, это терпение. Если разрушать семью из-за недопонимания, зачем тогда вообще создавать ее?
Я решил остаться у бабушки до воскресенья.
Просыпаюсь от невероятного запаха. Встав, первым делом заглядываю на кухню. Бабушка достает из духовки манник со сливой, который я обожаю. Помню, в первый раз, когда я попробовал обычный манник, мне он не понравился. Тогда бабуня сказала: "А если со сливой?"
И вот такой манник я люблю до сих пор. Воспоминания. Внутри что-то шевельнулось, но я тут же потерял мысль, и, как не силился, не мог вспомнить. Мы с бабуней сидим за столом, пьем какао с нотками корицы и едим чудесный манник, из которого я уже успел выковырять несколько слив.
- Давай пойдём гулять после завтрака? - предлагает бабуня.
Я не люблю гулять, максимум - хожу пешком в школу и обратно. Первое мое желание было отказаться, но тут я вспомнил слова бабушки: "Семья - это не всегда делать то, что тебе нужно или нравится в данный момент. Это делать приятно другому, через свое "не хочу". Пересилив себя, отвечаю согласием.
В комнате, которую бабуня сделала специально для меня когда-то давно, стоит кровать со вторым ярусом, под которым мой рабочий стол с нашими с бабушкой фотографиями. И снова проскальзывает какая-то мысль, которую я опять не успеваю схватить. Да что же это такое? Я иду к шкафу, открываю дверцы, замечаю упавшую одежду. Нечто лиственно-зеленого цвета внезапно привлекло мое внимание, тяну и вытаскиваю на свет толстовку.
«Неужели, это она», - думаю я, с восторгом глядя на вещь. Да, это она, моя любимая толстовка с нарисованным на ней ключом. Я помню, как бабушка подарила мне её на день рождения, на тот момент на ней не было рисунка. С толстовкой бабушка подарила мне краски по ткани, и мы все вместе - я, мама, папа, бабушка - разукрашивали вещь. Я тогда решил, что хочу, чтобы в центре был ключ.
"Воспоминания, - я наконец поймал улетавшую сегодня раз за разом мысль, - вот же он - ключ!"
Я понял. Понял. Я нашёл ключ к проблеме. Зашла бабуня и, увидев мои светящиеся глаза и ту самую толстовку, по-доброму мне улыбнулась.
- Ба, я нашел, я придумал! - радостно говорю я.
- Я так понимаю, прогулка откладывается. Рассказывай, - бабуня с интересом смотрит на меня, присаживаясь в кресло.
Я попытался донести свою идею о том, что можно помирить родителей через общие воспоминания. После одобрения бабуни мы с ней начали расписывать мое выступление. Может, я и не знаю, что такое настоящее счастье, но, думаю, это оно и есть.
И вот день выступления. Я еще раз просматриваю подготовленную мной презентацию. Заранее спросил папу, сможет ли он приехать в этот день. На его вопрос "зачем" ответил, что кое-что нужно срочно починить. Хорошо, что он не спросил, что именно, ведь не скажешь же, что надо чинить семью.
Бабуня тоже пришла. Она понимала, что мне нужна будет поддержка. И вот я надеваю толстовку лиственно-зеленого цвета и смотрю в зеркало.
- Ни пуха ни пера, - шепчу себе успокаивающе.
Я стою у двери в гостиную. Там сидят мои родители и бабушка. Я ещё раз пересматриваю слайды и инфографику, перечитываю аргументы. Пора, куда уж тянуть. Тихо захожу, подключаю мини-проектор к ноутбуку, раскладываю материал. Когда высвечивается первый слайд с надписью "Сбор сложного пазла "Семья", мама встает с дивана и хочет уйти, но внезапно натыкается на мой взгляд, который пронзил ее, обрубая желание к отступлению. Она села обратно. Я начинаю. Меня сковывает страх, что ничего не получится. Но тут я вспоминаю еще одну бабушкину фразу: «Не надо глубоко задумываться об итоге, делай все на максимум и с кайфом, достигая цели… Иди вперед!"
Я смотрю бабушке в глаза. Она подбадривающе кивает и показывает свои скрещенные на удачу пальцы. Моя речь становится ярче, увереннее. И вот моя любимая часть - воспоминания. Я с упоением рассказываю, или, скорее, напоминаю родителям о наших походах, о том, как я когда-то упал на роликах в парке, чем жутко напугал папу, о том самом дне рождения…
Вот последний слайд. Последние слова. Вот и все. Я выжидающе смотрю на всех. Отец встает, подходит ко мне и молча протягивает руку. Я хочу пожать ее, но вдруг сам протягиваю обе руки и обнимаю его. Вскоре к нам присоединились мама и бабушка, мы так и стояли в гостиной, все вместе, одной семьей.
Цветков Кирилл. Кошачья жизнь или приключения Доси
Первое, что я почувствовал, было тепло. Материнское тепло. Как сейчас вспоминаю, трепетное её дыхание, как полизывала она меня по головке своим маленьким, но острым язычком. Я тогда не видел её, да и не мог видеть (ведь мы слепыми сначала рождаемся), но заботу я уже ощущал всеми фибрами своего крохотного сердца. Подсознательно я подтянулся к брюху моей родительницы и стал высасывать молоко. И понемногу стал крепнуть.
На десятый день я стал немного видеть. Новая, доселе неведомая способность, открылась мне. Вот оглянулся: слева и справа спит моя беззаботная родня. Сопит толстенький рыжий барчонок, дремлет тощая чернявая сестричка…
Оторвав взор от спящей семьи, я начал осматривать комнату: стены с причудливым узором, большая коричневая глыба, а вот - глыба поменьше. В самом углу находилась совсем уж непонятная мне штука, похожая на бурое пятнышко. Иногда это пятно пропадало, и выходило из него несуразное чудовище. Всё полностью лысое, кроме головы, а вместо шерсти нацеплены были на нём какие-то цветные лоскутки. А как он передвигался!? Ужас сплошной! На двух ногах! Это же как можно было додуматься до такого дикого способа передвижения!?
Однако же он особо нас не тревожил, а если и приходил, то для того, чтобы дать матери корм да нас погладить. И хотя на вид этот громила был страшный, но ласку от него принимали все, даже я. Вы даже чувства этого представить себе не можете! Но вот громила ушёл, и пятно снова стало бурым.
Вскоре, ко второй неделе своей жизни, я не только начал видеть лучше, но и стал ходить. После этого все ближайшие окрестности были полностью мной изучены и обнюханы. А бурое пятно, через которое выходило кожаное чудовище, оказалось ничем иным, как порталом в другие комнаты.
Однажды, когда этот страшила не до конца закрыл дверь, я тихонько пробрался наружу. Оказалось, что комната, в которой мы все находились, была лишь небольшим клочком, по сравнению с остальным.
Всё пространство соединял длинный коридор, который вёл в три большие комнаты. На полу расстилалась какая-то вещь. Поточив об неё когти, я устремился к самой крайней комнатке.
Оказалось, в ней сидел Кожаный, и держа в лапах какой-то предмет, ел его. Вдруг часть этой вещи упало прямо на пол. Я украдкой приблизился к ней. На вид она была круглой и розовой. Я понюхал. О, какой чудесный аромат! Инстинкты подталкивали меня это попробовать. Я лизнул, потом ещё и уже не в силах был остановиться. Вдруг меня заметил Кожаный. Он посмотрел на меня с чрезвычайным удивлением, через секунду вырвал у меня из-под носа вещь и раздражённым голосом произнёс: «Не есть мою колбасу!»
Так вот что это за штука! Кол-ба-са. Колбаса. Думаю, надо запомнить это словечко. Но не успел я опомниться, как Кожаный взял меня за шкирку и вернул обратно в комнату, при этом заперев дверь. Вот так и закончилась моя первая вылазка.
Было бы не справедливо, если бы я не рассказал о семейке своей. Всего нас было шестеро, включая маму. Кожаный дал нам клички, и, хоть по мне они не были благозвучны, впредь будем использовать их.
Меня назвали Домиником, рыжего барчука - Джеймсом, другого мальчугана - Дантэсом, чернявую окрестили Дэззи, последнюю назвали Дэллой.
Мы росли дружно. Вместе играли, озорничали. Однако больше всех я сошёлся с Дэззи. Очень спокойная не по годам сестрица, хоть и играла с нами в салки и прочие шалости, большую часть времени она лежала на подоконнике и смотрела на нашу возню.
Однажды я залез к ней на подоконник и уселся рядом. Мы обнюхались. Я тронул её тихонько лапкой, повёл хвостом влево-вправо и отправился к двери. Дэззи поняла команду: она встала и последовала за мной.
Кожаный снова не усмотрел и оставил дверь слегка открытой, а потому можно было легко проскользнуть в неё, что мы благополучно и сделали. Для Дэззи выход за пределы комнаты был первым, и она очень сильно удивилась новой обстановке. Я показал ей всё то, что увидел во время своей первой экспедиции. Хотел сводить её на кухню, но предполагая, что там может оказаться Кожаный, отказался от этой затеи. Вместо этого мы пошли в другую комнату, в которой находился огромный лежак Кожаного. Дэззи незамедлительно улеглась на него. По выражению её мордочки было видно: она утомилась. Вслед за ней на лежак прыгнул и я. Не прошло и двух минут, как послышался цокот когтей. К нам пришёл Джим. Он, видно, заметил, как мы вышли из комнаты и решил проследить за нами. Но братец пришёл не один. За ним вошли Дантэс с Дэллой. И вот уже эта троица лежит около нас. Тихо и неспеша пришла и наша мама. Грациозно прыгнув на кровать, она улеглась в самый центр между всеми нами. Всю нашу семейку окутал сладкий сон.
Но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Когда мне было месяцев пять, я заметил, что к Кожаному стало приходить много гостей. Незнакомцы смотрели на нас, гладили, чесали, а потом уходили, предварительно что-то буркнув хозяину. Сначала я счёл это забавным и чем-то даже весёлым. Но как же я ошибался!
В один из дней, пока мы спали, Кожаный взял Дэллу на руки и вышел с ней в коридор. Моё чутьё почувствовало беду, и я проснулся. Вышел в коридор и увидел страшную картину: Дэлла лежала в маленьком переносном вольерчике. Наш Кожаный болтал с незнакомцами, а потом те дали ему какие-то цветные бумажки. Дэлла не спала. Она вся тряслась от страха. Вдруг она заметила меня. Я подбежал к ней. Мы обнюхались. Тут гости заметили меня:
-Ой, какой милый малый! Брат её?
-Естественно, - пробормотал Кожаный. - Домиником звать.
-Было б больше денег, и его бы взяли. Думаете она выдержит одна?
-Несомненно. Они хорошо переносят одиночество.
Что значит одиночество?! Кожаный, ты что наделал?! Ты Дэллу отдаёшь?! Ах ты мерзавец, подлец, негодяй! Я яростно зашипел, зрачки мои увеличились, я хотел растерзать его в клочья. Вдруг через вольер меня коснулась лапка Дэллы. Я обернулся. Она взглянула на меня с упрёком. Но почему?! Я же хотел вызволить её из плена! Или это всё-таки от чего-то другого.
Напоследок я помахал Дэлле хвостом и удалился. Незнакомцы же попрощались с нашим кожаным и ушли, забрав с собой вольерчик с Дэллой.
Где-то через три дня пропал Джеймс, ещё через три - Дантэс, а затем похитили… меня!
Я спал, свернувшись калачиком, мне снился сон. Но сон очень дурной. Мне чудилось, будто Дэллу, Джеймса и Дантэса унесли в кошачий ад. Там нет поглаживаний, почёсываний, а самое главное – колбасы!
Пока я спал, Кожаный подкрался ко мне и взял на руки. Он понёс меня, как и предыдущих моих родственников, по длинному коридору. Я ужасно испугался: вдруг это сбывается мой страшный сон?
Я начал с остервенением брыкаться в руках кожаного, один раз дальше больно укусил его. Но он лишь сильнее стиснул меня. Теперь я даже не мог пошевелиться.
Кожаный поместил меня в вольер, и закрыл его на щеколду. У меня в меня в голове будто что-то щёлкнуло. Я перестал брыкаться и стал лишь смиренно ждать.
Тут из-за угла я увидел Дэззи. Она подбежала ко мне. Мы обнюхались. Увидев меня в таком бедственном положении и увидев обидчика моего, она стала шипеть на Кожаного с невообразимой силой. Но, вместо одобрения, она получила лишь мой упрекающий взгляд. О, как я теперь понимаю Дэллу!
Горестно думать, что я вижу её в последний раз. Хотелось плакать, но слёзы как будто нарочно не шли из глаз.
Через пять минут пришли незнакомцы, взяли переноску, и я навсегда покинул свой дом.
Следующий день стал для меня настоящим открытием. С момента ухода из квартиры начались чудеса. Сначала мы были в маленькой комнатёнке, которая издавала скрипы и кряки и с чудовищной скоростью двигалась вниз. «Должно быть, и правда ад»- подумал я. Но в действительности, всё оказалось совсем иначе.
Незнакомцы отворили железную дверь, и на меня подул свежий прохладный ветерок. Вид был необыкновенен: громадные коричневые столбы с зелёными тряпочками, высокая пластиковая башня, переполненная мелкими Кожаными, странные пернатые создания с клювами. Все предположения про кошачий ад быстро испарились, и всю оставшуюся поездку я чувствовал лишь восторг.
Незнакомцы положили вольерчик со мной в непонятный железный драндулет на заднее сиденье. Сами же уселись на сиденья впереди. Один из них вставил куда-то маленький ключик. Стальное нечто сразу забуркало, защёлкало, затрещало. Затем людишки что-то переговорили, оба кивнули, и вдруг клетка, которая держала меня, открылась!
Я незамедлительно вылетел из тесной переноски и прыгнул на первый ряд сидений, к захватчикам.
Первым похитителем был мужчина, а второй оказалась девушка: очень красивая, с веснушками. А ещё она восхитительна пахла. Может, даже лучше, чем колбаса. Но с этим можно поспорить.
Оба кожаных посмотрели на меня и залились от смеха:
-О, какой ты важный, – захохотал мужчина, - смотри, Вера, какая осанка-то, осанка-то.
Да-а-а, будто председательствует на важном совещании, - засмеялась она.
Я смутился. Вид у меня был очень важный, не спорю, но зачем его осмеивать? Я повернулся к ним спиной, хотел уже было спрыгнуть, но тут девушка схватила меня, подтянула к себе, поцеловала и стала почёсывать мою спинку. Я сразу растёкся на её коленях и стал усиленно мурчать.
Машина тронулась. Колёса стучали. Мотор ревел. Мужчина изредка ругался на проезжающие мимо автомобили. Но мне было без разницы. Меня гладила рука очень доброго человека, и от этого становилась только приятнее. Спокойствие усыпило меня, я уж не помню, сколько мы миль проехали. Разбудила меня всё та же рука. Девушка сказала своим нежным голоском:
-Дось, просыпайся, мы приехали. Вот твой новый дом!
Новый дом! Оказывается, это не ад наступает, а новая жизнь! А если новая жизнь, то новые приключения, друзья и истории! А что может быть лучше, чем новые истории? Ну если только колбаса. Но опустим это. Теперь наступает другая эпоха- невероятная эпоха! И чтобы всё прошло в ней гладко, надо ухватить её за цепкие лапки. Надо стать во главе! Надо председательствовать!
Да, именно так. Теперь председательствует кот!
Первое, что я почувствовал, было тепло. Материнское тепло. Как сейчас вспоминаю, трепетное её дыхание, как полизывала она меня по головке своим маленьким, но острым язычком. Я тогда не видел её, да и не мог видеть (ведь мы слепыми сначала рождаемся), но заботу я уже ощущал всеми фибрами своего крохотного сердца. Подсознательно я подтянулся к брюху моей родительницы и стал высасывать молоко. И понемногу стал крепнуть.
На десятый день я стал немного видеть. Новая, доселе неведомая способность, открылась мне. Вот оглянулся: слева и справа спит моя беззаботная родня. Сопит толстенький рыжий барчонок, дремлет тощая чернявая сестричка…
Оторвав взор от спящей семьи, я начал осматривать комнату: стены с причудливым узором, большая коричневая глыба, а вот - глыба поменьше. В самом углу находилась совсем уж непонятная мне штука, похожая на бурое пятнышко. Иногда это пятно пропадало, и выходило из него несуразное чудовище. Всё полностью лысое, кроме головы, а вместо шерсти нацеплены были на нём какие-то цветные лоскутки. А как он передвигался!? Ужас сплошной! На двух ногах! Это же как можно было додуматься до такого дикого способа передвижения!?
Однако же он особо нас не тревожил, а если и приходил, то для того, чтобы дать матери корм да нас погладить. И хотя на вид этот громила был страшный, но ласку от него принимали все, даже я. Вы даже чувства этого представить себе не можете! Но вот громила ушёл, и пятно снова стало бурым.
Вскоре, ко второй неделе своей жизни, я не только начал видеть лучше, но и стал ходить. После этого все ближайшие окрестности были полностью мной изучены и обнюханы. А бурое пятно, через которое выходило кожаное чудовище, оказалось ничем иным, как порталом в другие комнаты.
Однажды, когда этот страшила не до конца закрыл дверь, я тихонько пробрался наружу. Оказалось, что комната, в которой мы все находились, была лишь небольшим клочком, по сравнению с остальным.
Всё пространство соединял длинный коридор, который вёл в три большие комнаты. На полу расстилалась какая-то вещь. Поточив об неё когти, я устремился к самой крайней комнатке.
Оказалось, в ней сидел Кожаный, и держа в лапах какой-то предмет, ел его. Вдруг часть этой вещи упало прямо на пол. Я украдкой приблизился к ней. На вид она была круглой и розовой. Я понюхал. О, какой чудесный аромат! Инстинкты подталкивали меня это попробовать. Я лизнул, потом ещё и уже не в силах был остановиться. Вдруг меня заметил Кожаный. Он посмотрел на меня с чрезвычайным удивлением, через секунду вырвал у меня из-под носа вещь и раздражённым голосом произнёс: «Не есть мою колбасу!»
Так вот что это за штука! Кол-ба-са. Колбаса. Думаю, надо запомнить это словечко. Но не успел я опомниться, как Кожаный взял меня за шкирку и вернул обратно в комнату, при этом заперев дверь. Вот так и закончилась моя первая вылазка.
Было бы не справедливо, если бы я не рассказал о семейке своей. Всего нас было шестеро, включая маму. Кожаный дал нам клички, и, хоть по мне они не были благозвучны, впредь будем использовать их.
Меня назвали Домиником, рыжего барчука - Джеймсом, другого мальчугана - Дантэсом, чернявую окрестили Дэззи, последнюю назвали Дэллой.
Мы росли дружно. Вместе играли, озорничали. Однако больше всех я сошёлся с Дэззи. Очень спокойная не по годам сестрица, хоть и играла с нами в салки и прочие шалости, большую часть времени она лежала на подоконнике и смотрела на нашу возню.
Однажды я залез к ней на подоконник и уселся рядом. Мы обнюхались. Я тронул её тихонько лапкой, повёл хвостом влево-вправо и отправился к двери. Дэззи поняла команду: она встала и последовала за мной.
Кожаный снова не усмотрел и оставил дверь слегка открытой, а потому можно было легко проскользнуть в неё, что мы благополучно и сделали. Для Дэззи выход за пределы комнаты был первым, и она очень сильно удивилась новой обстановке. Я показал ей всё то, что увидел во время своей первой экспедиции. Хотел сводить её на кухню, но предполагая, что там может оказаться Кожаный, отказался от этой затеи. Вместо этого мы пошли в другую комнату, в которой находился огромный лежак Кожаного. Дэззи незамедлительно улеглась на него. По выражению её мордочки было видно: она утомилась. Вслед за ней на лежак прыгнул и я. Не прошло и двух минут, как послышался цокот когтей. К нам пришёл Джим. Он, видно, заметил, как мы вышли из комнаты и решил проследить за нами. Но братец пришёл не один. За ним вошли Дантэс с Дэллой. И вот уже эта троица лежит около нас. Тихо и неспеша пришла и наша мама. Грациозно прыгнув на кровать, она улеглась в самый центр между всеми нами. Всю нашу семейку окутал сладкий сон.
Но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Когда мне было месяцев пять, я заметил, что к Кожаному стало приходить много гостей. Незнакомцы смотрели на нас, гладили, чесали, а потом уходили, предварительно что-то буркнув хозяину. Сначала я счёл это забавным и чем-то даже весёлым. Но как же я ошибался!
В один из дней, пока мы спали, Кожаный взял Дэллу на руки и вышел с ней в коридор. Моё чутьё почувствовало беду, и я проснулся. Вышел в коридор и увидел страшную картину: Дэлла лежала в маленьком переносном вольерчике. Наш Кожаный болтал с незнакомцами, а потом те дали ему какие-то цветные бумажки. Дэлла не спала. Она вся тряслась от страха. Вдруг она заметила меня. Я подбежал к ней. Мы обнюхались. Тут гости заметили меня:
-Ой, какой милый малый! Брат её?
-Естественно, - пробормотал Кожаный. - Домиником звать.
-Было б больше денег, и его бы взяли. Думаете она выдержит одна?
-Несомненно. Они хорошо переносят одиночество.
Что значит одиночество?! Кожаный, ты что наделал?! Ты Дэллу отдаёшь?! Ах ты мерзавец, подлец, негодяй! Я яростно зашипел, зрачки мои увеличились, я хотел растерзать его в клочья. Вдруг через вольер меня коснулась лапка Дэллы. Я обернулся. Она взглянула на меня с упрёком. Но почему?! Я же хотел вызволить её из плена! Или это всё-таки от чего-то другого.
Напоследок я помахал Дэлле хвостом и удалился. Незнакомцы же попрощались с нашим кожаным и ушли, забрав с собой вольерчик с Дэллой.
Где-то через три дня пропал Джеймс, ещё через три - Дантэс, а затем похитили… меня!
Я спал, свернувшись калачиком, мне снился сон. Но сон очень дурной. Мне чудилось, будто Дэллу, Джеймса и Дантэса унесли в кошачий ад. Там нет поглаживаний, почёсываний, а самое главное – колбасы!
Пока я спал, Кожаный подкрался ко мне и взял на руки. Он понёс меня, как и предыдущих моих родственников, по длинному коридору. Я ужасно испугался: вдруг это сбывается мой страшный сон?
Я начал с остервенением брыкаться в руках кожаного, один раз дальше больно укусил его. Но он лишь сильнее стиснул меня. Теперь я даже не мог пошевелиться.
Кожаный поместил меня в вольер, и закрыл его на щеколду. У меня в меня в голове будто что-то щёлкнуло. Я перестал брыкаться и стал лишь смиренно ждать.
Тут из-за угла я увидел Дэззи. Она подбежала ко мне. Мы обнюхались. Увидев меня в таком бедственном положении и увидев обидчика моего, она стала шипеть на Кожаного с невообразимой силой. Но, вместо одобрения, она получила лишь мой упрекающий взгляд. О, как я теперь понимаю Дэллу!
Горестно думать, что я вижу её в последний раз. Хотелось плакать, но слёзы как будто нарочно не шли из глаз.
Через пять минут пришли незнакомцы, взяли переноску, и я навсегда покинул свой дом.
Следующий день стал для меня настоящим открытием. С момента ухода из квартиры начались чудеса. Сначала мы были в маленькой комнатёнке, которая издавала скрипы и кряки и с чудовищной скоростью двигалась вниз. «Должно быть, и правда ад»- подумал я. Но в действительности, всё оказалось совсем иначе.
Незнакомцы отворили железную дверь, и на меня подул свежий прохладный ветерок. Вид был необыкновенен: громадные коричневые столбы с зелёными тряпочками, высокая пластиковая башня, переполненная мелкими Кожаными, странные пернатые создания с клювами. Все предположения про кошачий ад быстро испарились, и всю оставшуюся поездку я чувствовал лишь восторг.
Незнакомцы положили вольерчик со мной в непонятный железный драндулет на заднее сиденье. Сами же уселись на сиденья впереди. Один из них вставил куда-то маленький ключик. Стальное нечто сразу забуркало, защёлкало, затрещало. Затем людишки что-то переговорили, оба кивнули, и вдруг клетка, которая держала меня, открылась!
Я незамедлительно вылетел из тесной переноски и прыгнул на первый ряд сидений, к захватчикам.
Первым похитителем был мужчина, а второй оказалась девушка: очень красивая, с веснушками. А ещё она восхитительна пахла. Может, даже лучше, чем колбаса. Но с этим можно поспорить.
Оба кожаных посмотрели на меня и залились от смеха:
-О, какой ты важный, – захохотал мужчина, - смотри, Вера, какая осанка-то, осанка-то.
Да-а-а, будто председательствует на важном совещании, - засмеялась она.
Я смутился. Вид у меня был очень важный, не спорю, но зачем его осмеивать? Я повернулся к ним спиной, хотел уже было спрыгнуть, но тут девушка схватила меня, подтянула к себе, поцеловала и стала почёсывать мою спинку. Я сразу растёкся на её коленях и стал усиленно мурчать.
Машина тронулась. Колёса стучали. Мотор ревел. Мужчина изредка ругался на проезжающие мимо автомобили. Но мне было без разницы. Меня гладила рука очень доброго человека, и от этого становилась только приятнее. Спокойствие усыпило меня, я уж не помню, сколько мы миль проехали. Разбудила меня всё та же рука. Девушка сказала своим нежным голоском:
-Дось, просыпайся, мы приехали. Вот твой новый дом!
Новый дом! Оказывается, это не ад наступает, а новая жизнь! А если новая жизнь, то новые приключения, друзья и истории! А что может быть лучше, чем новые истории? Ну если только колбаса. Но опустим это. Теперь наступает другая эпоха- невероятная эпоха! И чтобы всё прошло в ней гладко, надо ухватить её за цепкие лапки. Надо стать во главе! Надо председательствовать!
Да, именно так. Теперь председательствует кот!
Шиненкова Александра. Причинение добра
Теплым летним днём к дому № 8 по улице Смородиновой подъехала машина, пассажиры которой явно ехали с дачи домой. Откуда же ещё могли они возвращаться, если из раскрытого окна виднелась весёлая морда пса, у заднего стекла примостился пушистый рыжий кот, а в руках у одного из пассажиров находилась клетка с попугаем?
За рулём сидел глава семьи Сметаниных - папа Серёжа, рядом с ним - его жена Аня, на заднем сидении – их десятилетняя дочь Лиза. В машине также находились собака по кличке Вжик, кот Сократ и попугай Леонид Дмитриевич, птица умная и рассудительная.
Каждый год летом семья Сметаниных ездила в деревню к бабушке. Папа Серёжа пропадал на рыбалке, мама Аня отдыхала от городской суеты и помогала бабушке, Лиза играла с друзьями, Вжик носился по деревне, везде тыча свой любопытный нос, Сократ большую часть времени проводил в раздумьях, лежа на подоконнике, а Леонид Дмитриевич с переменным успехом брал уроки пения у местных птичек.
Но приближалась школьная пора, и нужно было возвращаться.
И вот Сметанины дома. Поужинав, все дружно сели перед телевизором, чтобы посмотреть любимый фильм про Гарри Поттера. Вжик вертелся у ног Лизы, Леонид Дмитриевич в приятной полудрёме сидел на спинке дивана, а кот лежал на своём любимом пуфике рядом.
Почему-то этим вечером кот размышлял о природе благодарности. И вдруг одна идея ворвалась в его рыжую голову: «Почему я никогда не благодарил наших хозяев? Они обо мне так хорошо заботятся. И об остальных тоже!» Он замер и долго обдумывал что-то.
Вечером Сократ созвал на совет пса и попугая. Озвучив свои мысли, он получил полное одобрение от собравшихся. На обсуждение был вынесен вопрос о том, как они будут благодарить людей.
– Давайте приготовим сюрприз? – предложил кот. - Я, например, могу помочь с ремонтом спальни мамы Ани и папы Серёжи. Ты, Леонид Дмитриевич, умная голова, можешь помочь хозяину в его работе. Вон у него на рабочем столе лежит недоделанный отчёт.
Идея кота всех устроила. Только Вжику пока не придумали дела. Совет разошёлся, чтобы ранним утром снова собраться и окончательно утвердить план действий.
На следующий день Сметанины уехали по магазинам с длинным списком покупок. Как только за людьми закрылась дверь, домашние питомцы активизировались. Каждый знал, что нужно делать. Вжик со всех лап помчался зачем-то в спальню Лизы. Леонид Дмитриевич полетел в гостиную и сел на письменный стол папы Серёжи. Сократ же уверенно отправился в спальню родителей.
Ремонт там затеяли ещё до отпуска. Пока успели только поклеить стены идеально белыми обоями. Мама Аня говорила, что на белом "прекрасно заиграют яркие акценты милых мелочей". Сократ, чувствуя себя неплохим дизайнером, смело приступил к делу. Ему необходимы были Лизины краски. Позвав на помощь пса, кот обеспечил себя ими. Прямо около дверей в комнату стояла миска с водой для Вжика. Кот приноровился и смог дотолкать миску до стены в спальне.
Теперь пришло время творить! Всё уже было обдумано заранее. Кот хотел нарисовать на стене всю семью. С большим напряжением сил, зажмурив глаза, он окунул лапу в воду. Бррррр! Сократ так её не любил. Но придётся идти на жертвы!
Вскоре кошачью лапку уж нельзя было назвать чистой. Она была вся в ярко-рыжей краске. Ведь первым делом Сократ хотел нарисовать себя! Работа закипела. Но вместо четкого рисунка выходили лишь какие-то странные круги и палки. «Но это же с любовью!» - утешал себя кот. Закончив, он критически изучил рисунок и подумал, что у него некоторые детали не получились. Тогда в ход пошла чёрная краска. Он хотел замазать те места, которые ему особенно не понравились. А самые неудачные элементы надо было стереть водой. Сократ тщательно вымыл лапу и начал ей водить по рисунку. Все цвета смешались и получился такой странный цвет, что кот удивлённо застыл. И тут его опять осенила гениальная мысль:
- Я открыл новый цвет! Ну что за оттенок! Приятно же посмотреть!
Он посчитал себя отличным художником и остался очень доволен своей работой. Сполоснув лапу ещё раз в воде и встряхнув ею около стены, кот нанёс чудесные тёмные точки, которые только добавили красоты шедевру.
Теперь можно было идти к Вжику. Чем же занимался в спальне Лизы пёс? Ночью кот сразу придумал, как порадовать Лизу и какое задание дать Вжику. Сократ часто слышал, что Лиза просит маму купить ей какую-нибудь модную обновку, "как у девочки из ТикТока". Мама Аня часто покупала дочке одежду, но не на все модные вещи соглашалась. Недавно мама отказала Лизе в покупке рваных джинсов, посчитав их некрасивыми. Кот тогда подумал, что люди ужасно недогадливые - можно взять целые джинсы и наделать на них дырок. Какие проблемы? Сейчас Вжик должен был неплохо воплощать в жизнь эту идею.
Когда кот вошёл в комнату, пёс был занят захватывающим творческим процессом. Первыми были усовершенствованы Лизины школьные брюки. После них в ход пошли любимые джинсы девочки. Сначала штаны никак не хотели поддаваться, но как только, благодаря крепким зубам пса, появилась маленькая дырочка, дело пошло. Вжик рвал джинсы с большим энтузиазмом. Дырка появлялась за дыркой.
Сократ, наблюдая за трудами Вжика, тоже воодушевился. Дизайнер в нём проснулся вновь и придумал ослепительную идею - сделать шортоштаны! Вжику очень понравилась эта задумка, и он принялся за её реализацию. Один раструб джинсов получился намного короче другой. Пёс поэкспериментировал с ещё парочкой штанов. Он так увлёкся работой, что не заметил, как порвал ярко-розовую кофточку Лизы, а одни штаны вообще разорвал в клочья.
Сократ предложил товарищу красиво разложить сюрпризы для Лизы на её кровати и отправился к Леониду Дмитриевичу, которому в это время было очень нелегко.
С удивительной выдержкой попугай пытался взять ручку со стола то клювом, то лапами, но это у него никак не получалось. Кот тут же пришёл на помощь товарищу и предложил попугаю краски, которые услужливо принёс Вжик из спальни родителей. Сам же Сократ отправился толкать свою миску с чистой водой из кухни в гостиную.
Когда все нужные вещи наконец оказались на месте, Леонид Дмитриевич смог приступить к своей важной и ответственной работе. Попугай окунул клюв в воду, потом погрузил его в синюю краску, чтобы выглядело, как будто писали ручкой. И тут Леонид Дмитриевич задумался:
- Что же такого написать в этом отчёте? Ну вот о чём может быть важный отчёт? Наверняка, о том как мы провели лето! Да, да! Я напишу именно про это. Но начну, пожалуй, с того, как я учился петь у скворцов...
Клюв птицы уверенно коснулся бумаги, и из-под него начали появляться разные замысловатые линии и узоры.
Сократ с удивлением и восхищением наблюдал за работой сосредоточенного Леонида Дмитриевича. Он взобрался на свой пуфик, чтобы не мешать процессу. Кот очень уважал своего пернатого соседа, был уверен в его широкой эрудиции и поэтому даже не стал спрашивать, что тот пишет.
А тем временем попугай оторвался от бумаги и осмотрел разложенные перед ним листы. Очень не нравились ему цифры, которыми они все были покрыты. Почувствовав непреодолимое желание разбавить их тёплыми словами, Леонид Дмитриевич решил написать «Папа Серёжа, мы тебя любим». Вместо букв почему-то выходили кляксы и непонятные символы. Наверное, потому что он не умел писать, а только внимательно изучал, как делают это другие.
- Жалко, что не получилось идеального почерка. Надо бы попросить у папы Сережи несколько уроков письма! - решил для себя попугай.
Вечером, весёлые люди вошли в дом с большими пакетами, в которых лежала одежда, школьные канцтовары, продукты и всё необходимое для ремонта. Животные мигом оказались у двери.
Лиза тут же схватила свои покупки и побежала к себе, чтобы ещё раз рассмотреть обновки. Звери замерли в ожидании восхищённых восклицаний, но воздух разрезал дикий визг.
Родители вбежали в комнату, где плачущая навзрыд Лиза перебирала на кровати свою "модную" одежду. Они тоже не испытали восторга от увиденного.
- Кажется, ей не понравилось! - с сожалением проворчал Вжик и уныло пошёл на балкон.
Мама Аня бросила в прихожую злобный взгляд, прижимая к себе горько плачущую дочь. Сократ и Леонид Дмитриевич решили покинуть прихожую и спрятаться в укромных местах.
Папа Сережа, оставив своих девочек к комнате, отправился разобрать сумки и, видимо, обдумать план мщения. Он никогда ничего не делал сгоряча. Всё что было куплено для ремонта, хозяин понёс в свою спальню. Животные напряглись и чутко прислушивались к тем звукам, что доносились оттуда. Сначала что-то зашуршало, потом стукнулось об пол, но вдруг все обитатели квартиры услышали, как всегда спокойный глава семьи разразился ругательствами. Мама Аня стремительно вошла в свою спальню и, схватившись за сердце, прижалась к косяку. Она потеряла дар речи и только расширенные глаза говорили о её чувствах.
Затем женщина медленно прошла в гостиную, чтобы сесть на диван и немного успокоиться. Она случайно повернула голову, и её взгляд остановился на рабочем столе мужа.
- Серёжа! - слабо вскрикнула она, не в силах подняться с дивана.
Хозяин квартиры вбежал в комнату и с ужасом уставился на стол, где красовался его отчёт, весь заляпанный синей краской.
Если бы кто-нибудь мог заглянуть в окно их пятого этажа, то увидел бы немую сцену: мужчину, застывшего с перекошенным лицом около стола, несчастную женщину, замершую на диване, и заплаканную девочку в дверях.
Этот вечер всей семье запомнился надолго. Ох и досталось «помогателям»! Их так не ругали никогда да ещё и оставили надолго без любимых лакомств.
С тех пор в комнату с ремонтом всегда запиралась дверь, краски, одежда и важные отчёты убирались подальше, а шкафы и ящики закрывались плотнее.
Сколько раз после этого кот, собака и птица собирали свой Совет, но так и не смогли понять, где же они ошиблись.
Кот Сократ в конце встреч каждый раз говорил:
- Вот и делай сюрпризы этим людям! Ничего не понимают в любви своих питомцев!
Теплым летним днём к дому № 8 по улице Смородиновой подъехала машина, пассажиры которой явно ехали с дачи домой. Откуда же ещё могли они возвращаться, если из раскрытого окна виднелась весёлая морда пса, у заднего стекла примостился пушистый рыжий кот, а в руках у одного из пассажиров находилась клетка с попугаем?
За рулём сидел глава семьи Сметаниных - папа Серёжа, рядом с ним - его жена Аня, на заднем сидении – их десятилетняя дочь Лиза. В машине также находились собака по кличке Вжик, кот Сократ и попугай Леонид Дмитриевич, птица умная и рассудительная.
Каждый год летом семья Сметаниных ездила в деревню к бабушке. Папа Серёжа пропадал на рыбалке, мама Аня отдыхала от городской суеты и помогала бабушке, Лиза играла с друзьями, Вжик носился по деревне, везде тыча свой любопытный нос, Сократ большую часть времени проводил в раздумьях, лежа на подоконнике, а Леонид Дмитриевич с переменным успехом брал уроки пения у местных птичек.
Но приближалась школьная пора, и нужно было возвращаться.
И вот Сметанины дома. Поужинав, все дружно сели перед телевизором, чтобы посмотреть любимый фильм про Гарри Поттера. Вжик вертелся у ног Лизы, Леонид Дмитриевич в приятной полудрёме сидел на спинке дивана, а кот лежал на своём любимом пуфике рядом.
Почему-то этим вечером кот размышлял о природе благодарности. И вдруг одна идея ворвалась в его рыжую голову: «Почему я никогда не благодарил наших хозяев? Они обо мне так хорошо заботятся. И об остальных тоже!» Он замер и долго обдумывал что-то.
Вечером Сократ созвал на совет пса и попугая. Озвучив свои мысли, он получил полное одобрение от собравшихся. На обсуждение был вынесен вопрос о том, как они будут благодарить людей.
– Давайте приготовим сюрприз? – предложил кот. - Я, например, могу помочь с ремонтом спальни мамы Ани и папы Серёжи. Ты, Леонид Дмитриевич, умная голова, можешь помочь хозяину в его работе. Вон у него на рабочем столе лежит недоделанный отчёт.
Идея кота всех устроила. Только Вжику пока не придумали дела. Совет разошёлся, чтобы ранним утром снова собраться и окончательно утвердить план действий.
На следующий день Сметанины уехали по магазинам с длинным списком покупок. Как только за людьми закрылась дверь, домашние питомцы активизировались. Каждый знал, что нужно делать. Вжик со всех лап помчался зачем-то в спальню Лизы. Леонид Дмитриевич полетел в гостиную и сел на письменный стол папы Серёжи. Сократ же уверенно отправился в спальню родителей.
Ремонт там затеяли ещё до отпуска. Пока успели только поклеить стены идеально белыми обоями. Мама Аня говорила, что на белом "прекрасно заиграют яркие акценты милых мелочей". Сократ, чувствуя себя неплохим дизайнером, смело приступил к делу. Ему необходимы были Лизины краски. Позвав на помощь пса, кот обеспечил себя ими. Прямо около дверей в комнату стояла миска с водой для Вжика. Кот приноровился и смог дотолкать миску до стены в спальне.
Теперь пришло время творить! Всё уже было обдумано заранее. Кот хотел нарисовать на стене всю семью. С большим напряжением сил, зажмурив глаза, он окунул лапу в воду. Бррррр! Сократ так её не любил. Но придётся идти на жертвы!
Вскоре кошачью лапку уж нельзя было назвать чистой. Она была вся в ярко-рыжей краске. Ведь первым делом Сократ хотел нарисовать себя! Работа закипела. Но вместо четкого рисунка выходили лишь какие-то странные круги и палки. «Но это же с любовью!» - утешал себя кот. Закончив, он критически изучил рисунок и подумал, что у него некоторые детали не получились. Тогда в ход пошла чёрная краска. Он хотел замазать те места, которые ему особенно не понравились. А самые неудачные элементы надо было стереть водой. Сократ тщательно вымыл лапу и начал ей водить по рисунку. Все цвета смешались и получился такой странный цвет, что кот удивлённо застыл. И тут его опять осенила гениальная мысль:
- Я открыл новый цвет! Ну что за оттенок! Приятно же посмотреть!
Он посчитал себя отличным художником и остался очень доволен своей работой. Сполоснув лапу ещё раз в воде и встряхнув ею около стены, кот нанёс чудесные тёмные точки, которые только добавили красоты шедевру.
Теперь можно было идти к Вжику. Чем же занимался в спальне Лизы пёс? Ночью кот сразу придумал, как порадовать Лизу и какое задание дать Вжику. Сократ часто слышал, что Лиза просит маму купить ей какую-нибудь модную обновку, "как у девочки из ТикТока". Мама Аня часто покупала дочке одежду, но не на все модные вещи соглашалась. Недавно мама отказала Лизе в покупке рваных джинсов, посчитав их некрасивыми. Кот тогда подумал, что люди ужасно недогадливые - можно взять целые джинсы и наделать на них дырок. Какие проблемы? Сейчас Вжик должен был неплохо воплощать в жизнь эту идею.
Когда кот вошёл в комнату, пёс был занят захватывающим творческим процессом. Первыми были усовершенствованы Лизины школьные брюки. После них в ход пошли любимые джинсы девочки. Сначала штаны никак не хотели поддаваться, но как только, благодаря крепким зубам пса, появилась маленькая дырочка, дело пошло. Вжик рвал джинсы с большим энтузиазмом. Дырка появлялась за дыркой.
Сократ, наблюдая за трудами Вжика, тоже воодушевился. Дизайнер в нём проснулся вновь и придумал ослепительную идею - сделать шортоштаны! Вжику очень понравилась эта задумка, и он принялся за её реализацию. Один раструб джинсов получился намного короче другой. Пёс поэкспериментировал с ещё парочкой штанов. Он так увлёкся работой, что не заметил, как порвал ярко-розовую кофточку Лизы, а одни штаны вообще разорвал в клочья.
Сократ предложил товарищу красиво разложить сюрпризы для Лизы на её кровати и отправился к Леониду Дмитриевичу, которому в это время было очень нелегко.
С удивительной выдержкой попугай пытался взять ручку со стола то клювом, то лапами, но это у него никак не получалось. Кот тут же пришёл на помощь товарищу и предложил попугаю краски, которые услужливо принёс Вжик из спальни родителей. Сам же Сократ отправился толкать свою миску с чистой водой из кухни в гостиную.
Когда все нужные вещи наконец оказались на месте, Леонид Дмитриевич смог приступить к своей важной и ответственной работе. Попугай окунул клюв в воду, потом погрузил его в синюю краску, чтобы выглядело, как будто писали ручкой. И тут Леонид Дмитриевич задумался:
- Что же такого написать в этом отчёте? Ну вот о чём может быть важный отчёт? Наверняка, о том как мы провели лето! Да, да! Я напишу именно про это. Но начну, пожалуй, с того, как я учился петь у скворцов...
Клюв птицы уверенно коснулся бумаги, и из-под него начали появляться разные замысловатые линии и узоры.
Сократ с удивлением и восхищением наблюдал за работой сосредоточенного Леонида Дмитриевича. Он взобрался на свой пуфик, чтобы не мешать процессу. Кот очень уважал своего пернатого соседа, был уверен в его широкой эрудиции и поэтому даже не стал спрашивать, что тот пишет.
А тем временем попугай оторвался от бумаги и осмотрел разложенные перед ним листы. Очень не нравились ему цифры, которыми они все были покрыты. Почувствовав непреодолимое желание разбавить их тёплыми словами, Леонид Дмитриевич решил написать «Папа Серёжа, мы тебя любим». Вместо букв почему-то выходили кляксы и непонятные символы. Наверное, потому что он не умел писать, а только внимательно изучал, как делают это другие.
- Жалко, что не получилось идеального почерка. Надо бы попросить у папы Сережи несколько уроков письма! - решил для себя попугай.
Вечером, весёлые люди вошли в дом с большими пакетами, в которых лежала одежда, школьные канцтовары, продукты и всё необходимое для ремонта. Животные мигом оказались у двери.
Лиза тут же схватила свои покупки и побежала к себе, чтобы ещё раз рассмотреть обновки. Звери замерли в ожидании восхищённых восклицаний, но воздух разрезал дикий визг.
Родители вбежали в комнату, где плачущая навзрыд Лиза перебирала на кровати свою "модную" одежду. Они тоже не испытали восторга от увиденного.
- Кажется, ей не понравилось! - с сожалением проворчал Вжик и уныло пошёл на балкон.
Мама Аня бросила в прихожую злобный взгляд, прижимая к себе горько плачущую дочь. Сократ и Леонид Дмитриевич решили покинуть прихожую и спрятаться в укромных местах.
Папа Сережа, оставив своих девочек к комнате, отправился разобрать сумки и, видимо, обдумать план мщения. Он никогда ничего не делал сгоряча. Всё что было куплено для ремонта, хозяин понёс в свою спальню. Животные напряглись и чутко прислушивались к тем звукам, что доносились оттуда. Сначала что-то зашуршало, потом стукнулось об пол, но вдруг все обитатели квартиры услышали, как всегда спокойный глава семьи разразился ругательствами. Мама Аня стремительно вошла в свою спальню и, схватившись за сердце, прижалась к косяку. Она потеряла дар речи и только расширенные глаза говорили о её чувствах.
Затем женщина медленно прошла в гостиную, чтобы сесть на диван и немного успокоиться. Она случайно повернула голову, и её взгляд остановился на рабочем столе мужа.
- Серёжа! - слабо вскрикнула она, не в силах подняться с дивана.
Хозяин квартиры вбежал в комнату и с ужасом уставился на стол, где красовался его отчёт, весь заляпанный синей краской.
Если бы кто-нибудь мог заглянуть в окно их пятого этажа, то увидел бы немую сцену: мужчину, застывшего с перекошенным лицом около стола, несчастную женщину, замершую на диване, и заплаканную девочку в дверях.
Этот вечер всей семье запомнился надолго. Ох и досталось «помогателям»! Их так не ругали никогда да ещё и оставили надолго без любимых лакомств.
С тех пор в комнату с ремонтом всегда запиралась дверь, краски, одежда и важные отчёты убирались подальше, а шкафы и ящики закрывались плотнее.
Сколько раз после этого кот, собака и птица собирали свой Совет, но так и не смогли понять, где же они ошиблись.
Кот Сократ в конце встреч каждый раз говорил:
- Вот и делай сюрпризы этим людям! Ничего не понимают в любви своих питомцев!
Богданова Диана. Ты будешь моим другом?
УОО! – восклицает малышка, выбегая на улицу. После переезда и разбора вещей она наконец-то смогла выйти на свежий воздух. Девочка огляделась по сторонам, рассматривая площадку прямо перед собой. Горки, карусели, крутящиеся со скоростью ученика, опаздывающего в школу… Девочка начала радостно наблюдать за огромной кучей детей, бегающих по всей площадке, словно муравьи. Она точно сможет завести много замечательных друзей! Это будет прекрасная неделя!
Малышка осмотрелась. Ее внимание привлекла группа девочек, крутящих скакалку. Скакалка, большая и такая веселая, опускалась вверх-вниз. Девочка подбежала к ним:
- А можно с вами? Я тоже хочу с вами делать «пры-прыг-данг»!
Девочки посмотрели на малышку. Померив ее взглядом, они помотали головой и сказали, что она еще маленькая. Девочки вернулись к игре, а малышка направилась дальше. Она не теряла надежды, что сможет найти здесь друзей. Пройдя мимо лавок, малышка остановилась около большой песочницы, в которой дети что-то лепили. Все были заняты и не обращали на нее внимания. Взгляд девочки остановился на мальчике, который сидел немного в стороне и чем-то увлеченно занимался. Может, он захочет стать ее другом? Малышка направилась к нему.
- Привет! Я…
Девочка остановилась, наблюдая за ним. Мальчик старательно пытался изобразить что-то в своем блокноте. Она заглянула к нему через плечо и увидела удивительную картину. И это-то в маленьком блокноте!! Снеговик стоял посреди поля с колосьями, пока маленькие кролики веселились в небе. Девочка прилипла к мальчику вплотную, радостно щебеча:
- Это так красиво! Мне нравятся кролики, бегающие по небу!
- Здесь нет ничего красивого, одни лишь кривые линии, – мальчик недовольно отпихнул от себя девочку, добавив: – и то, что ты называешь «кроликами» - это звезды!
- Значит, звезды на небе - это кролики, которые устали от земной жизни и решили отдохнуть там?
- Звезды это звезды, а кролики это кролики! – мальчик встал, хмурясь, и пошел в сторону дома.
- Ты куда? – малышка удивленно пошлепала за ним. Мальчик подошел к мусорке и резко выдернул листок из блокнота. Снеговик протяжно выдохнул, поле взволнованно зашелестело, а звезды-зайчики начали барахтаться, беспорядочно врезаясь друг в друга.
- Стой, ты что делаешь? – малышка кинулась к мальчику, пытаясь спасти листок. Тот поднял рисунок выше, чтобы она не смогла до него достать.
- Тебе какое дело?
- Отдай рисунок! Зайчики уже плачут от того, как сильно ты их помял!
- Они нарисованные, они не могут плакать! Вдобавок это звезды, где ты видела, чтоб звезды плакали?
- Все равно отдай, если тебе не надо!
Мальчик стоял какое-то время, наблюдая за ее попытками отобрать листок. Он раздраженно выдохнул и всунул ей в руки свое неудавшееся творчество. Затем развернулся и ушел.
Девочка рассматривала рисунок. Поле успокоилось, снеговик благодарно смотрел на малышку, а зайчики радостно играли друг с дружкой, бегая по небу. Только смятый угол напоминал о том, что это произведение искусства могло оказаться в мусорном ведре. Глаза девочки радостно светились и бегали по рисунку, изучая все его мельчайшие детали. Она бережно прижала его к себе и направилась домой.
Вещи в комнате малышки уже были разобраны и разложены по местам. Встав на стул, девочка аккуратно приклеила листочек на окно так, чтобы зайчики могли видеть всю улицу.
- Чем занимаешься, солнце? – ее папа заглянул в комнату
- Хочу, чтобы все люди, проходящие мимо окна, видели моё сокровище! Представляешь, художник, нарисовавший этот рисунок, хотел выкинуть его!
- Получается это сокровище не только твое?
- Нет, но ведь художник не ценил этого рисунка!! Поэтому я и забрала его себе. Что мне оставалось делать?
-Ты правильно поступила, милая, – мужчина подошел к малышке, помогая спуститься со стула. – Не все сразу понимают ценность их сокровища, кому-то может понадобиться время для этого.
Девочка одобрительно кивнула на слова папы и начала радостно носиться по комнате. Мужчина посмеялся.
- Вижу, ты полна энергии, но в дневное время малышам полагается отдых…
- Неееет! Я хотела еще кое-что поделать! – девочка начала недовольно прыгать на месте, папа вздохнул:
- Тогда предлагаю тебе немножко поделать то, что ты хотела, и после лечь спать, идет?
Малышка кивнула. Выходя из комнаты, отец улыбнулся девочке. Стоило двери закрыться, как она достала с полки альбом и карандаши. Девочка радостно плюхнулась на диван и принялась творить. Она нарисовала крышу, а на ней изобразила себя с поднятой вверх рукой, сжимающей большущую кисть. Но картинка выглядела несбалансированно, казалось, будто такая большая кисточка упадет, если девочка будет держать ее одна. Немного подумав, малышка добавила того мальчика-художника рядом, теперь они держали кисточку вместе.
Девочка, довольная собой, изучала свою работу, думая, что еще добавить.
- Достаточно странный выбор цветов… - пробормотал над ухом чей-то голос. Она резко повернулась и увидела незнакомца рядом с собой. Это был странный парень в прямоугольных очках. Он поправил их, глядя на изумленную девочку.
- Ты кто? И как пробрался сюда в комнату, балкон и входная дверь ведь закрыты!
- Не важно, я просто обычный наблюдатель. Меня заинтересовал твой рисунок. А пришел я сюда, увидев снеговика, – парень показал в сторону окна с приклеенным рисунком.
Девочка встала, внимательно рассматривая юношу. Она так увлеклась, что, сделав шаг назад, случайно врезалась в мольберт, установленный посреди комнаты, и он упал на пол.
- Ого! Этих вещей здесь не было раньше! – девочка поставила мольберт обратно и принялась рассматривать кучу красок на полу вокруг него. – Это ты все принес?
- Нет, все было тут с самого начала, просто ты это не сразу заметила.
- Получается, мольберт и краски твои?
Парень, немного подумав о чем-то, кивнул. Девочка запрыгала на месте.
- Так, значит, тебе нравится рисовать?
- Верно, я с детства любил это занятие.
- Почему же ты тогда прекратил этим заниматься?
- Я сдался. Ни один из рисунков не удавался, и с каждой новой линией он превращался в круговорот из каши. – Парень вздохнул. – Ты первая, кто обратила на меня внимание и заговорила со мной... Я бы хотел нарисовать тебя, но…- юноша выставил руку вперед, и она прошла сквозь мольберт. Он грустно улыбнулся, закрыв глаза.
- Как по мне, – девочка подошла к холсту вплотную, проводя по нему пальцами, - с нового листа начинается новая жизнь. Так мой папа говорит. Что будем делать?
- Начнем с эскиза, возьми простой карандаш.
Малышка вытряхнула на пол все карандаши, которые у нее были, пытаясь найти среди них нужный.
- Вон, у твоей ноги…
Девочка посмотрела вниз и точно, около нее лежал маленький, остро заточенный карандашик. Она взяла его и села за стул, начав рисовать. Призрак принялся ходить вокруг нее с важным видом, постоянно поправляя ее.
- Веди линию аккуратнее, почему твоя косичка так криво уходит вверх? Тут глаза в разные стороны, постарайся это исправить… Смести рисунок вправо, слишком много свободного пространства оставляешь.
Малышка не всегда понимала, что он говорит, но послушно старалась выводить каждую линию. Постепенно на белом листе появилось странное лицо, очень отдаленно похожее на саму девочку. Призрак внимательно уставился на него и мягко улыбнулся:
- Что ж, вышло достаточно хорошо, давай раскрашивать.
Девочка радостно запрыгала на стульчике и начала активно открывать краски. Призрак немного посмеялся, наблюдая за ней:
- Не торопись так, для начала возьми зеленую, раскрасим твою кофту.
Девочка подскочила, активно копошась в тюбиках, достала нужный цвет и уже собиралась наносить его на рисунок, как перед ней появилась рука призрака.
- Подожди, почему ты взяла этот цвет?
- Ты сказал взять зеленый…
- Но это оранжевый!
- Да? Удивительно! Оказывается, у одного цвета может быть столько названий! – девочка повернулась к остальным краскам и, указывая на них пальчиком, продолжила – а эти цвета тоже оранжевые или они все зеленые?
Парень помолчал какое-то время, затем присел на корточки рядом с ней.
- Я буду показывать тебе, какие брать краски, а ты продолжай рисовать.
Девочка кивнула, даря призраку самую теплую улыбку, которую она при себе имела. Вместе с ним она смогла нарисовать целую картину, прямо как тот художник! Девочка восхищенно повернулась к призраку:
- У меня есть один друг-художник…
- Друг?
- Ну, мы еще пока что не друзья, но я надеюсь, что мы станем! Он рисует так же потрясающе, как я под твою диктовку! Как ты думаешь, я смогу рисовать так же красиво, как он, только сама?
- Я думаю, что ты уже чудесно рисуешь!
- Правда? – девочка обрадовалась и попыталась обнять своего учителя, но прошла насквозь, чуть не уронив мольберт. Призрак слегка улыбнулся, наблюдая за ней, и посоветовал ей быть аккуратнее. Малышка сонно потерла глаза и снова посмотрела на свою картину:
- Ты будешь моим другом?
- Почему бы и нет?
Девочка лежала на диване, заботливо укрытая одеялом. В руках она держала рисунок и рассматривала его. Все-таки, он получился хорошим, и теперь на нем всего хватает. Кажется, это произошло из-за нарисованного силуэта позади малышки. Она не помнит, чтобы рисовала его, но, тем не менее, он выглядит на рисунке вполне себе уместно, поэтому девочка решила оставить его.
Ближе к вечеру она начала собираться на улицу. Ведь ее цель не завершена, и она хотела продолжить делать шаги к ее выполнению. Открывая дверь, она громко сказала:
- Я ухожу гулять! – и выбежала во двор. На этот раз детей было меньше, так как уже вечерело. Оно и к лучшему, может теперь она сможет найти…
Ее мысли прервал чей-то крик. Малышка повернулась. К ней бежал тот самый мальчик-художник с блокнотом в руке. Приблизившись, он оперся на коленки, тяжело дыша, и, выпрямившись, вручил этот блокнот ей. Девочка аккуратно взяла его и увидела на листе себя. Правда ее косичка была немного кривой и уходила вверх, а глаза будто смотрели в разные стороны, но, тем не менее, малышка смогла узнать себя. Рисунок ей очень понравился. На секунду этот рисунок показался ей очень знакомым, она четко могла представить, как именно он рисовался. Но, наверное, это не важно, и девочка повернулась к мальчику:
- Ты будешь моим другом?
- Почему бы и нет?
УОО! – восклицает малышка, выбегая на улицу. После переезда и разбора вещей она наконец-то смогла выйти на свежий воздух. Девочка огляделась по сторонам, рассматривая площадку прямо перед собой. Горки, карусели, крутящиеся со скоростью ученика, опаздывающего в школу… Девочка начала радостно наблюдать за огромной кучей детей, бегающих по всей площадке, словно муравьи. Она точно сможет завести много замечательных друзей! Это будет прекрасная неделя!
Малышка осмотрелась. Ее внимание привлекла группа девочек, крутящих скакалку. Скакалка, большая и такая веселая, опускалась вверх-вниз. Девочка подбежала к ним:
- А можно с вами? Я тоже хочу с вами делать «пры-прыг-данг»!
Девочки посмотрели на малышку. Померив ее взглядом, они помотали головой и сказали, что она еще маленькая. Девочки вернулись к игре, а малышка направилась дальше. Она не теряла надежды, что сможет найти здесь друзей. Пройдя мимо лавок, малышка остановилась около большой песочницы, в которой дети что-то лепили. Все были заняты и не обращали на нее внимания. Взгляд девочки остановился на мальчике, который сидел немного в стороне и чем-то увлеченно занимался. Может, он захочет стать ее другом? Малышка направилась к нему.
- Привет! Я…
Девочка остановилась, наблюдая за ним. Мальчик старательно пытался изобразить что-то в своем блокноте. Она заглянула к нему через плечо и увидела удивительную картину. И это-то в маленьком блокноте!! Снеговик стоял посреди поля с колосьями, пока маленькие кролики веселились в небе. Девочка прилипла к мальчику вплотную, радостно щебеча:
- Это так красиво! Мне нравятся кролики, бегающие по небу!
- Здесь нет ничего красивого, одни лишь кривые линии, – мальчик недовольно отпихнул от себя девочку, добавив: – и то, что ты называешь «кроликами» - это звезды!
- Значит, звезды на небе - это кролики, которые устали от земной жизни и решили отдохнуть там?
- Звезды это звезды, а кролики это кролики! – мальчик встал, хмурясь, и пошел в сторону дома.
- Ты куда? – малышка удивленно пошлепала за ним. Мальчик подошел к мусорке и резко выдернул листок из блокнота. Снеговик протяжно выдохнул, поле взволнованно зашелестело, а звезды-зайчики начали барахтаться, беспорядочно врезаясь друг в друга.
- Стой, ты что делаешь? – малышка кинулась к мальчику, пытаясь спасти листок. Тот поднял рисунок выше, чтобы она не смогла до него достать.
- Тебе какое дело?
- Отдай рисунок! Зайчики уже плачут от того, как сильно ты их помял!
- Они нарисованные, они не могут плакать! Вдобавок это звезды, где ты видела, чтоб звезды плакали?
- Все равно отдай, если тебе не надо!
Мальчик стоял какое-то время, наблюдая за ее попытками отобрать листок. Он раздраженно выдохнул и всунул ей в руки свое неудавшееся творчество. Затем развернулся и ушел.
Девочка рассматривала рисунок. Поле успокоилось, снеговик благодарно смотрел на малышку, а зайчики радостно играли друг с дружкой, бегая по небу. Только смятый угол напоминал о том, что это произведение искусства могло оказаться в мусорном ведре. Глаза девочки радостно светились и бегали по рисунку, изучая все его мельчайшие детали. Она бережно прижала его к себе и направилась домой.
Вещи в комнате малышки уже были разобраны и разложены по местам. Встав на стул, девочка аккуратно приклеила листочек на окно так, чтобы зайчики могли видеть всю улицу.
- Чем занимаешься, солнце? – ее папа заглянул в комнату
- Хочу, чтобы все люди, проходящие мимо окна, видели моё сокровище! Представляешь, художник, нарисовавший этот рисунок, хотел выкинуть его!
- Получается это сокровище не только твое?
- Нет, но ведь художник не ценил этого рисунка!! Поэтому я и забрала его себе. Что мне оставалось делать?
-Ты правильно поступила, милая, – мужчина подошел к малышке, помогая спуститься со стула. – Не все сразу понимают ценность их сокровища, кому-то может понадобиться время для этого.
Девочка одобрительно кивнула на слова папы и начала радостно носиться по комнате. Мужчина посмеялся.
- Вижу, ты полна энергии, но в дневное время малышам полагается отдых…
- Неееет! Я хотела еще кое-что поделать! – девочка начала недовольно прыгать на месте, папа вздохнул:
- Тогда предлагаю тебе немножко поделать то, что ты хотела, и после лечь спать, идет?
Малышка кивнула. Выходя из комнаты, отец улыбнулся девочке. Стоило двери закрыться, как она достала с полки альбом и карандаши. Девочка радостно плюхнулась на диван и принялась творить. Она нарисовала крышу, а на ней изобразила себя с поднятой вверх рукой, сжимающей большущую кисть. Но картинка выглядела несбалансированно, казалось, будто такая большая кисточка упадет, если девочка будет держать ее одна. Немного подумав, малышка добавила того мальчика-художника рядом, теперь они держали кисточку вместе.
Девочка, довольная собой, изучала свою работу, думая, что еще добавить.
- Достаточно странный выбор цветов… - пробормотал над ухом чей-то голос. Она резко повернулась и увидела незнакомца рядом с собой. Это был странный парень в прямоугольных очках. Он поправил их, глядя на изумленную девочку.
- Ты кто? И как пробрался сюда в комнату, балкон и входная дверь ведь закрыты!
- Не важно, я просто обычный наблюдатель. Меня заинтересовал твой рисунок. А пришел я сюда, увидев снеговика, – парень показал в сторону окна с приклеенным рисунком.
Девочка встала, внимательно рассматривая юношу. Она так увлеклась, что, сделав шаг назад, случайно врезалась в мольберт, установленный посреди комнаты, и он упал на пол.
- Ого! Этих вещей здесь не было раньше! – девочка поставила мольберт обратно и принялась рассматривать кучу красок на полу вокруг него. – Это ты все принес?
- Нет, все было тут с самого начала, просто ты это не сразу заметила.
- Получается, мольберт и краски твои?
Парень, немного подумав о чем-то, кивнул. Девочка запрыгала на месте.
- Так, значит, тебе нравится рисовать?
- Верно, я с детства любил это занятие.
- Почему же ты тогда прекратил этим заниматься?
- Я сдался. Ни один из рисунков не удавался, и с каждой новой линией он превращался в круговорот из каши. – Парень вздохнул. – Ты первая, кто обратила на меня внимание и заговорила со мной... Я бы хотел нарисовать тебя, но…- юноша выставил руку вперед, и она прошла сквозь мольберт. Он грустно улыбнулся, закрыв глаза.
- Как по мне, – девочка подошла к холсту вплотную, проводя по нему пальцами, - с нового листа начинается новая жизнь. Так мой папа говорит. Что будем делать?
- Начнем с эскиза, возьми простой карандаш.
Малышка вытряхнула на пол все карандаши, которые у нее были, пытаясь найти среди них нужный.
- Вон, у твоей ноги…
Девочка посмотрела вниз и точно, около нее лежал маленький, остро заточенный карандашик. Она взяла его и села за стул, начав рисовать. Призрак принялся ходить вокруг нее с важным видом, постоянно поправляя ее.
- Веди линию аккуратнее, почему твоя косичка так криво уходит вверх? Тут глаза в разные стороны, постарайся это исправить… Смести рисунок вправо, слишком много свободного пространства оставляешь.
Малышка не всегда понимала, что он говорит, но послушно старалась выводить каждую линию. Постепенно на белом листе появилось странное лицо, очень отдаленно похожее на саму девочку. Призрак внимательно уставился на него и мягко улыбнулся:
- Что ж, вышло достаточно хорошо, давай раскрашивать.
Девочка радостно запрыгала на стульчике и начала активно открывать краски. Призрак немного посмеялся, наблюдая за ней:
- Не торопись так, для начала возьми зеленую, раскрасим твою кофту.
Девочка подскочила, активно копошась в тюбиках, достала нужный цвет и уже собиралась наносить его на рисунок, как перед ней появилась рука призрака.
- Подожди, почему ты взяла этот цвет?
- Ты сказал взять зеленый…
- Но это оранжевый!
- Да? Удивительно! Оказывается, у одного цвета может быть столько названий! – девочка повернулась к остальным краскам и, указывая на них пальчиком, продолжила – а эти цвета тоже оранжевые или они все зеленые?
Парень помолчал какое-то время, затем присел на корточки рядом с ней.
- Я буду показывать тебе, какие брать краски, а ты продолжай рисовать.
Девочка кивнула, даря призраку самую теплую улыбку, которую она при себе имела. Вместе с ним она смогла нарисовать целую картину, прямо как тот художник! Девочка восхищенно повернулась к призраку:
- У меня есть один друг-художник…
- Друг?
- Ну, мы еще пока что не друзья, но я надеюсь, что мы станем! Он рисует так же потрясающе, как я под твою диктовку! Как ты думаешь, я смогу рисовать так же красиво, как он, только сама?
- Я думаю, что ты уже чудесно рисуешь!
- Правда? – девочка обрадовалась и попыталась обнять своего учителя, но прошла насквозь, чуть не уронив мольберт. Призрак слегка улыбнулся, наблюдая за ней, и посоветовал ей быть аккуратнее. Малышка сонно потерла глаза и снова посмотрела на свою картину:
- Ты будешь моим другом?
- Почему бы и нет?
Девочка лежала на диване, заботливо укрытая одеялом. В руках она держала рисунок и рассматривала его. Все-таки, он получился хорошим, и теперь на нем всего хватает. Кажется, это произошло из-за нарисованного силуэта позади малышки. Она не помнит, чтобы рисовала его, но, тем не менее, он выглядит на рисунке вполне себе уместно, поэтому девочка решила оставить его.
Ближе к вечеру она начала собираться на улицу. Ведь ее цель не завершена, и она хотела продолжить делать шаги к ее выполнению. Открывая дверь, она громко сказала:
- Я ухожу гулять! – и выбежала во двор. На этот раз детей было меньше, так как уже вечерело. Оно и к лучшему, может теперь она сможет найти…
Ее мысли прервал чей-то крик. Малышка повернулась. К ней бежал тот самый мальчик-художник с блокнотом в руке. Приблизившись, он оперся на коленки, тяжело дыша, и, выпрямившись, вручил этот блокнот ей. Девочка аккуратно взяла его и увидела на листе себя. Правда ее косичка была немного кривой и уходила вверх, а глаза будто смотрели в разные стороны, но, тем не менее, малышка смогла узнать себя. Рисунок ей очень понравился. На секунду этот рисунок показался ей очень знакомым, она четко могла представить, как именно он рисовался. Но, наверное, это не важно, и девочка повернулась к мальчику:
- Ты будешь моим другом?
- Почему бы и нет?
Михайлова Полина. Я больше не боюсь
– Сколько ещё? Минута? Пять? Не больше! – живот скрутила резкая судорога. – Я должен успеть!
За окном неяркое весеннее солнце мучительно пыталось выбраться из плена сгустившихся туч.
Холодные щупальца вновь зашевелились где-то внутри, мерзкие, противные. Саня ненавидел и презирал себя за эту слабость. Он не боялся никаких монстров из киношных хорроров, не пугали его и «заброшки», куда он частенько наведывался с другими мальчишками. Зато до жути, до отчаяния страшился не успеть. Куда не успеть? Чего не успеть? Он и сам не знал. И от этого страх усиливался стократно. Он, как омерзительный холодный червяк, заползал внутрь Саньки и лишал того способности мыслить, соображать, иногда даже двигаться и говорить…Вот и сейчас он чувствовал эту скользкую тварь где-то в животе. Когда чудовище доберется до головы, придет тьма, пустая и спасительная… Скорей бы…Скорей…
Звонок оглушил и спас. Саня вздрогнул, приходя в себя. Он рассеянно посмотрел на тетрадный листок.
– Ну, вот и не успел, – разочарованно, но уже без всякого ужаса констатировал мальчик. На этот раз он легко отделался. А контрольная? На самом деле, она его мало волновала, как и все остальное. После того, как три года назад он очутился в детском доме, причем с абсолютно стерильной памятью, Сане все было безразлично.
– Санёк, ты с нами? – прозвучал над ухом голос Витька. – Мы же в лес собирались! Говорят, во время войны тут бои были…
– Ну, раз собирались, значит, пойдем, – твердо сказал Саня.
После обеда немного потеплело. Солнце, наконец-то вырвавшееся из облачного плена, грело ласково, даже нежно. Настроение у ребят тоже было самое лучезарное. Они шутили, смеялись, устаивали дружеские потасовки, даже в догонялки попытались играть. Однако чавкающая снежная грязь очень быстро охладила их пыл.
– Ребята! Там дом какой-то! – крикнул кто-то.
Домик уютно устроился среди деревьев, в низинке. Он был небольшой, аккуратный, ухоженный. Из трубы шел дым. Значит, дом обитаем.
Мальчишки окружили жилище, подбираясь к нему с крайней осторожностью, словно тот был живым существом, с любопытством наблюдавшим за незваными гостями.
Когда ребятня была уже совсем близко, дверь внезапно распахнулась и на пороге появилась женщина, точнее, старушка, из той категории, которую принято именовать «божьими одуванчиками». Она и внешне чем-то напоминала этот неприхотливый цветок: невысокая, крепенькая, с пушистыми седыми волосами, которые она постоянно приглаживала, но они упорно топорщились в разные стороны.
– Совсем как у меня, – мелькнуло в голове у Сани.
– Ребятушки, вы откуда? Заблудились? Проходите в дом, согреетесь, перекусите, – старушка так ласково смотрела на детдомовских пацанов, что у многих защипало в глазах. Смутившись, они гуськом проследовали в дом.
Внутри тоже было тепло, уютно и пахло чем-то непередаваемо вкусным, домашним.
– Располагайтесь, сынки, – бабушка обвела комнату рукой, – сейчас блинками вас угощу, с вареньицем.
Внезапно Саня почувствовал непреодолимое желание пойти вслед за доброй женщиной. Он оказался в комнатке намного меньше той, где разместились его приятели. Старушка обернулась на шум, увидела влетевшего внутрь лохматого мальчишку и ласково улыбнулась:
– Входи, входи, внучек! Поможешь мне.
– Бабушка, – Саня будто впервые попробовал на вкус это слово, – бабушка… Горло перехватил спазм, и мальчик не смог больше произнести ни слова.
Хозяйка подошла к нему и с нежностью коснулась щеки, волос:
– Внучек, вы как забрели-то сюда? Ко мне ведь и не ходит никто…
– Как же вы здесь совсем одна! – невольно вырвалось у Сани.
– Да вот так получилось, – грустно произнесла женщина. – Пережила я всех своих.
И, не желая говорить о грустном, вручила Саньке поднос, второй взяла сама. Мальчишки радостно приветствовали их появление и набросились на еду.
Только Саня не мог есть, украдкой он бросал взгляд на хозяйку. Случалось, что их глаза встречались, тогда мальчик быстро и смущенно отворачивался.
Наевшись, пацаны засобирались обратно.
Уже на пороге, Саня обернулся:
– Можно я еще к вам приду…
– Конечно, внучек. Я буду ждать тебя.
Когда домишко почти скрылся из виду, Санька оглянулся: она все еще стояла в дверях, почему-то прижав руку к губам. «Я сюда еще вернусь», – решил про себя мальчик. В это время последний луч заходящего солнца вырвался из-за горизонта, коснулся головы женщины, дотянулся до Саньки, а затем вновь вернулся к светилу. Круг замкнулся, соединив всех троих подобием клятвы.
Не прошло и дня, как Саня вновь спешил в лес. День снова выдался пасмурным, низкие густые облака цеплялись за костлявые руки деревьев. Женщина будто ждала его, открыв дверь ровно тогда, когда Саня вошел в калитку.
И вот уже они непринужденно беседуют, сидя на кухне.
– Так значит ты тоже совсем один? – участливо спрашивает женщина Саню после того, как он рассказал ей о себе.
– Честно, не знаю. Я ведь не помню ничего, все в темноте будто.
– Ну, раз так… ты один, я одна… Зови меня бабой Катей, – она положила свою старческую ладонь на его еще совсем детскую, вздрогнувшую от теплого прикосновения. Неожиданно для самого себя он резко наклонился и прикоснулся губами к шершавой коже ее руки. А затем, словно испугавшись своего порыва, намеренно грубым голосом произнес:
– Может, по хозяйству чем помочь? Я могу.
Баба Катя подыграла, тоже сделав вид, что ничего не произошло:
– У меня крыша в сенях протекает. Посмотришь?
– Показывайте, хозяйка!
С того дня мальчик бывал у бабы Кати почти каждый день. И однажды она рассказала ему свою печальную историю:
– Ехал мой сынок со своей семьей на отдых, на море… Что уж там на самом деле произошло, одному богу известно, только слетели они с дороги… Потом взрыв… Опознавать нечего было. Да сомнений никаких: трое их было… сыночек мой, жена его да внучек… Вот так в один миг и осиротела я! Болела долго, а потом поняла, что не могу жить там, где каждая мелочь напоминала о дорогих людях. Так и оказалась здесь, вдали от цивилизованного мира.
Саня слушал, и сердце сжималось от сострадания. Как же это, наверное, тяжело: каждый день переживать боль утраты. И впервые за долгое время он подумал, что ему повезло, потому он о своих родных не помнил ничего.
Незаметно весна полностью вступила в свои права, окутав зеленоватой дымкой корявые сучья, спрятав от глаз людских их уродливые искривленья, смягчив резкость и угловатость. И в душе мальчика тоже что-то распрямилось, сгладилось. Уже очень давно не испытывал он тревожащего чувства страха, казалось, все это осталось в прошлом.
И вот однажды, придя к бабушке, он обратил внимание, что она словно бы напряжена. Женщина старательно скрывала свою обеспокоенность, но в конце концов Саня не выдержал:
– Бабушка, что-то случилось?
– Нет, милый, все хорошо… – голос предательски дрогнул.
– Рассказывайте! – твердо произнес мальчик.
Оказывается, на бабушкин домик положили глаз некие предприимчивые люди. Они предлагали ей деньги, а теперь предупредили, что с хозяйкой может и беда приключиться. Саня предложил остаться, но баба Катя категорически отказалась.
С тяжелым сердцем Саня покидал этот маленький домик, ставший почти родным.
Среди ночи он внезапно проснулся и понял: с бабушкой – беда. Через миг он уже мчался к лесу. Одна мысль билась в голове: «Успеть!»
Уже издали он увидел зарево и понял: горит домик бабы Кати!
Выскочив на пригорок, Саня понял, что дом не спасти. Он огляделся: бабушки нигде не было. Санька совсем не боялся погибнуть, он страшился только не успеть спасти ту, кто стал ему родным человеком, кто заполнил пустоту его существования, кто спас его от одиночества.
Санька рванулся сквозь огонь… Бабушка лежала в сенях, почти у самого выхода. Очевидно, она пыталась выбраться, но сил не хватило. Удушливый дым лез в глаза, невыносимый жар обжигал горло и легкие. Саня подхватил бабу Катю, но поднять не смог. От собственной беспомощности слезы отчаяния и злости текли по его щекам. Тогда он решил просто вытянуть женщину на безопасное расстояние. Мальчик понимал, что счет идет на минуты: еще чуть-чуть, и либо крыша рухнет, похоронив их обоих, либо они просто задохнутся. И в том и в другом случае исход один – смерть.
Рывок, еще один, еще… он почувствовал, что может сделать вдох. Воздух спасал и причинял боль. Но думать об этом было некогда, останавливаться нельзя. Вдруг страшная мысль вновь пронзила все существо ребенка: «Я опоздал! Она умерла!» Это было неправильно, нечестно! Он упал на землю, хриплые, лающие звуки вырвались из обожженного горла.
– Бабушка… – Сане казалось, что он кричит, но голоса почти не было слышно.
И все же его услышали:
– Внучек, милый, успокойся, ты успел…
Саня поднял глаза к небу, и вдруг в языках пламени явственно проступила другая картина: машина… В ней три человека: папа, мама и он, Санька… Они смеются, им хорошо, они счастливы… Вот на обочине голосует мальчишка, Санькин ровесник, рядом с ним огромная корзина грибов… Папа останавливается… Их четверо, мальчик рассказывает что-то, от чего им всем радостно… Их обгоняет машина, большая, темная… Тень от нее словно окутывает все мраком… Скрежет железа… Визг тормозов… Падение… Долгое, долгое…Удар… Мокрая трава щекочет нос… Санька поднимает голову… Папа тянет маму из машины… Огонь… Много огня… Силуэты людей растворяются в пламени… Санька кричит… Тьма… Пустота… Провал…
Что-то мокрое, горячее капает на лицо мальчика. Он открывает глаза – над ним склонилось смутно знакомое лицо:
– Мальчик мой, родненький, ты же спас меня, спас! Понимаешь?!
Опять в сознании Саньки затанцевали цветные фрагменты, их становится все больше, они заполняют темноту, и, наконец, складываются в единое целое.
– Бабушка, ты говорила, что потеряла всех своих в аварии, – мальчик торопится, он боится, что пазл опять рассыплется, и тогда вернется тьма беспамятства.
– Да, говорила, – женщина пристально смотрит ему в глаза. – Мне всегда казалось…Ты…
– Это ты – и правда, бабушка! Я должен был успеть спасти тебя! И я успел!
– Да, родной, успел! Успел…
Возле затухающего пожарища, на земле, сидят двое. Они, не отрываясь, смотрят друг на друга. Глаза их сияют от счастья: бабушка Катя больше не одна, Саня ничего на свете не боится.
– Сколько ещё? Минута? Пять? Не больше! – живот скрутила резкая судорога. – Я должен успеть!
За окном неяркое весеннее солнце мучительно пыталось выбраться из плена сгустившихся туч.
Холодные щупальца вновь зашевелились где-то внутри, мерзкие, противные. Саня ненавидел и презирал себя за эту слабость. Он не боялся никаких монстров из киношных хорроров, не пугали его и «заброшки», куда он частенько наведывался с другими мальчишками. Зато до жути, до отчаяния страшился не успеть. Куда не успеть? Чего не успеть? Он и сам не знал. И от этого страх усиливался стократно. Он, как омерзительный холодный червяк, заползал внутрь Саньки и лишал того способности мыслить, соображать, иногда даже двигаться и говорить…Вот и сейчас он чувствовал эту скользкую тварь где-то в животе. Когда чудовище доберется до головы, придет тьма, пустая и спасительная… Скорей бы…Скорей…
Звонок оглушил и спас. Саня вздрогнул, приходя в себя. Он рассеянно посмотрел на тетрадный листок.
– Ну, вот и не успел, – разочарованно, но уже без всякого ужаса констатировал мальчик. На этот раз он легко отделался. А контрольная? На самом деле, она его мало волновала, как и все остальное. После того, как три года назад он очутился в детском доме, причем с абсолютно стерильной памятью, Сане все было безразлично.
– Санёк, ты с нами? – прозвучал над ухом голос Витька. – Мы же в лес собирались! Говорят, во время войны тут бои были…
– Ну, раз собирались, значит, пойдем, – твердо сказал Саня.
После обеда немного потеплело. Солнце, наконец-то вырвавшееся из облачного плена, грело ласково, даже нежно. Настроение у ребят тоже было самое лучезарное. Они шутили, смеялись, устаивали дружеские потасовки, даже в догонялки попытались играть. Однако чавкающая снежная грязь очень быстро охладила их пыл.
– Ребята! Там дом какой-то! – крикнул кто-то.
Домик уютно устроился среди деревьев, в низинке. Он был небольшой, аккуратный, ухоженный. Из трубы шел дым. Значит, дом обитаем.
Мальчишки окружили жилище, подбираясь к нему с крайней осторожностью, словно тот был живым существом, с любопытством наблюдавшим за незваными гостями.
Когда ребятня была уже совсем близко, дверь внезапно распахнулась и на пороге появилась женщина, точнее, старушка, из той категории, которую принято именовать «божьими одуванчиками». Она и внешне чем-то напоминала этот неприхотливый цветок: невысокая, крепенькая, с пушистыми седыми волосами, которые она постоянно приглаживала, но они упорно топорщились в разные стороны.
– Совсем как у меня, – мелькнуло в голове у Сани.
– Ребятушки, вы откуда? Заблудились? Проходите в дом, согреетесь, перекусите, – старушка так ласково смотрела на детдомовских пацанов, что у многих защипало в глазах. Смутившись, они гуськом проследовали в дом.
Внутри тоже было тепло, уютно и пахло чем-то непередаваемо вкусным, домашним.
– Располагайтесь, сынки, – бабушка обвела комнату рукой, – сейчас блинками вас угощу, с вареньицем.
Внезапно Саня почувствовал непреодолимое желание пойти вслед за доброй женщиной. Он оказался в комнатке намного меньше той, где разместились его приятели. Старушка обернулась на шум, увидела влетевшего внутрь лохматого мальчишку и ласково улыбнулась:
– Входи, входи, внучек! Поможешь мне.
– Бабушка, – Саня будто впервые попробовал на вкус это слово, – бабушка… Горло перехватил спазм, и мальчик не смог больше произнести ни слова.
Хозяйка подошла к нему и с нежностью коснулась щеки, волос:
– Внучек, вы как забрели-то сюда? Ко мне ведь и не ходит никто…
– Как же вы здесь совсем одна! – невольно вырвалось у Сани.
– Да вот так получилось, – грустно произнесла женщина. – Пережила я всех своих.
И, не желая говорить о грустном, вручила Саньке поднос, второй взяла сама. Мальчишки радостно приветствовали их появление и набросились на еду.
Только Саня не мог есть, украдкой он бросал взгляд на хозяйку. Случалось, что их глаза встречались, тогда мальчик быстро и смущенно отворачивался.
Наевшись, пацаны засобирались обратно.
Уже на пороге, Саня обернулся:
– Можно я еще к вам приду…
– Конечно, внучек. Я буду ждать тебя.
Когда домишко почти скрылся из виду, Санька оглянулся: она все еще стояла в дверях, почему-то прижав руку к губам. «Я сюда еще вернусь», – решил про себя мальчик. В это время последний луч заходящего солнца вырвался из-за горизонта, коснулся головы женщины, дотянулся до Саньки, а затем вновь вернулся к светилу. Круг замкнулся, соединив всех троих подобием клятвы.
Не прошло и дня, как Саня вновь спешил в лес. День снова выдался пасмурным, низкие густые облака цеплялись за костлявые руки деревьев. Женщина будто ждала его, открыв дверь ровно тогда, когда Саня вошел в калитку.
И вот уже они непринужденно беседуют, сидя на кухне.
– Так значит ты тоже совсем один? – участливо спрашивает женщина Саню после того, как он рассказал ей о себе.
– Честно, не знаю. Я ведь не помню ничего, все в темноте будто.
– Ну, раз так… ты один, я одна… Зови меня бабой Катей, – она положила свою старческую ладонь на его еще совсем детскую, вздрогнувшую от теплого прикосновения. Неожиданно для самого себя он резко наклонился и прикоснулся губами к шершавой коже ее руки. А затем, словно испугавшись своего порыва, намеренно грубым голосом произнес:
– Может, по хозяйству чем помочь? Я могу.
Баба Катя подыграла, тоже сделав вид, что ничего не произошло:
– У меня крыша в сенях протекает. Посмотришь?
– Показывайте, хозяйка!
С того дня мальчик бывал у бабы Кати почти каждый день. И однажды она рассказала ему свою печальную историю:
– Ехал мой сынок со своей семьей на отдых, на море… Что уж там на самом деле произошло, одному богу известно, только слетели они с дороги… Потом взрыв… Опознавать нечего было. Да сомнений никаких: трое их было… сыночек мой, жена его да внучек… Вот так в один миг и осиротела я! Болела долго, а потом поняла, что не могу жить там, где каждая мелочь напоминала о дорогих людях. Так и оказалась здесь, вдали от цивилизованного мира.
Саня слушал, и сердце сжималось от сострадания. Как же это, наверное, тяжело: каждый день переживать боль утраты. И впервые за долгое время он подумал, что ему повезло, потому он о своих родных не помнил ничего.
Незаметно весна полностью вступила в свои права, окутав зеленоватой дымкой корявые сучья, спрятав от глаз людских их уродливые искривленья, смягчив резкость и угловатость. И в душе мальчика тоже что-то распрямилось, сгладилось. Уже очень давно не испытывал он тревожащего чувства страха, казалось, все это осталось в прошлом.
И вот однажды, придя к бабушке, он обратил внимание, что она словно бы напряжена. Женщина старательно скрывала свою обеспокоенность, но в конце концов Саня не выдержал:
– Бабушка, что-то случилось?
– Нет, милый, все хорошо… – голос предательски дрогнул.
– Рассказывайте! – твердо произнес мальчик.
Оказывается, на бабушкин домик положили глаз некие предприимчивые люди. Они предлагали ей деньги, а теперь предупредили, что с хозяйкой может и беда приключиться. Саня предложил остаться, но баба Катя категорически отказалась.
С тяжелым сердцем Саня покидал этот маленький домик, ставший почти родным.
Среди ночи он внезапно проснулся и понял: с бабушкой – беда. Через миг он уже мчался к лесу. Одна мысль билась в голове: «Успеть!»
Уже издали он увидел зарево и понял: горит домик бабы Кати!
Выскочив на пригорок, Саня понял, что дом не спасти. Он огляделся: бабушки нигде не было. Санька совсем не боялся погибнуть, он страшился только не успеть спасти ту, кто стал ему родным человеком, кто заполнил пустоту его существования, кто спас его от одиночества.
Санька рванулся сквозь огонь… Бабушка лежала в сенях, почти у самого выхода. Очевидно, она пыталась выбраться, но сил не хватило. Удушливый дым лез в глаза, невыносимый жар обжигал горло и легкие. Саня подхватил бабу Катю, но поднять не смог. От собственной беспомощности слезы отчаяния и злости текли по его щекам. Тогда он решил просто вытянуть женщину на безопасное расстояние. Мальчик понимал, что счет идет на минуты: еще чуть-чуть, и либо крыша рухнет, похоронив их обоих, либо они просто задохнутся. И в том и в другом случае исход один – смерть.
Рывок, еще один, еще… он почувствовал, что может сделать вдох. Воздух спасал и причинял боль. Но думать об этом было некогда, останавливаться нельзя. Вдруг страшная мысль вновь пронзила все существо ребенка: «Я опоздал! Она умерла!» Это было неправильно, нечестно! Он упал на землю, хриплые, лающие звуки вырвались из обожженного горла.
– Бабушка… – Сане казалось, что он кричит, но голоса почти не было слышно.
И все же его услышали:
– Внучек, милый, успокойся, ты успел…
Саня поднял глаза к небу, и вдруг в языках пламени явственно проступила другая картина: машина… В ней три человека: папа, мама и он, Санька… Они смеются, им хорошо, они счастливы… Вот на обочине голосует мальчишка, Санькин ровесник, рядом с ним огромная корзина грибов… Папа останавливается… Их четверо, мальчик рассказывает что-то, от чего им всем радостно… Их обгоняет машина, большая, темная… Тень от нее словно окутывает все мраком… Скрежет железа… Визг тормозов… Падение… Долгое, долгое…Удар… Мокрая трава щекочет нос… Санька поднимает голову… Папа тянет маму из машины… Огонь… Много огня… Силуэты людей растворяются в пламени… Санька кричит… Тьма… Пустота… Провал…
Что-то мокрое, горячее капает на лицо мальчика. Он открывает глаза – над ним склонилось смутно знакомое лицо:
– Мальчик мой, родненький, ты же спас меня, спас! Понимаешь?!
Опять в сознании Саньки затанцевали цветные фрагменты, их становится все больше, они заполняют темноту, и, наконец, складываются в единое целое.
– Бабушка, ты говорила, что потеряла всех своих в аварии, – мальчик торопится, он боится, что пазл опять рассыплется, и тогда вернется тьма беспамятства.
– Да, говорила, – женщина пристально смотрит ему в глаза. – Мне всегда казалось…Ты…
– Это ты – и правда, бабушка! Я должен был успеть спасти тебя! И я успел!
– Да, родной, успел! Успел…
Возле затухающего пожарища, на земле, сидят двое. Они, не отрываясь, смотрят друг на друга. Глаза их сияют от счастья: бабушка Катя больше не одна, Саня ничего на свете не боится.
Худяков Матвей. Родовое гнездо
Стояло теплое, насыщенное ароматами молодой зелени и бодрящей весенней свежести майское утро. Ох, как же я люблю праздники! Особенно дни рождения. Вчера мама до поздней ночи возилась на кухне, по дому разлетались манящие запахи выпечки, шум воды и позвякивание кастрюлек. Привычный предпраздничный фон, под который всегда так приятно засыпать.
— С днем рождения, сынок! — едва дождавшись семи утра, в комнату влетела мама и крепко обняла. Я счастливо вдохнул аромат ее волос, пронизанный пряностями корицы, ванили и меда.
— Ну, расти большой, не будь лапшой, — как всегда, пошутил папа. Ты, это, давай не тяни резину, Иван. Собирайся, едем.
Наконец, наступил тот момент, когда отец должен был взять меня с собой на рыбалку. Настоящую, не с мостков у городской речки–гадючки, а на большом озере в семидесяти километрах от города. От восторга я чуть не забыл развернуть подарки. Быстро собрался и уже через пять минут стоял возле двери с рюкзачком и новым спиннингом в руке.
— Обижусь, мальчишки, — всплеснула руками мама, — я полдня вчера готовила, чтобы если не ужин, то хоть завтрак праздничный вам устроить, а вы…. Эх!
— Да, нехорошо получилось, — кашлянув в кулак, сказал отец, — Олюшка, прости, конечно, мы уже садимся. Никуда наши сомики с щукарями не денутся. Ванек, бегом за стол. Ты куда столько наготовила? Роту солдат накормить можно, — потирая руки, заявил отец и отправил в рот вилку со своим любимым салатом.
— Ешьте, ешьте, гурманы, — счастливо вздохнула мама, — я вам там с собой на два дня всего собрала. И тортик с пирогами тоже, — предвосхитив мой вопрос, улыбнулась мама.
Десять лет! Я чувствовал себя совсем взрослым. Даже долгую дорогу перенес, как настоящий мужчина, ни разу не попросил отца остановиться.
И вот она - деревня. Именно такой я ее себе и представлял. Едва выйдя из машины, чуть не наступил на петуха, который тут же меня обругал и понесся дальше по своим, видимо, очень важным и неотложным делам. Вокруг все цвело, деревянные домишки утопали в зелени и палитре красок душистой сирени. Окружающее двигалось, жило, крякало, мычало, кудахтало и лаяло. Откуда–то доносился звук топора и скрип колодезной цепи. И все это, столь отличное от города совершенство, пронизывали теплые золотые лучики солнца, которое, казалось, тоже светило здесь как–то по–особенному. Навстречу нам со старенькой скамейки поднялся седовласый старик. Опираясь на массивную палку, приблизился.
— Дождался, сынок, думал и не увижу тебя боле. А это кто у нас такой? Неужели Ванютка?
— Иван, здравствуйте, — по–взрослому представился я.
— Десять лет, Федорыч, дорогой, — дрогнул голос отца.
Отец крепко обнял старика. Мы прошли в дом. Там было бедно, но очень чисто и самобытно. Накрыли на стол мамины яства. Дед Федорыч принес из погреба кувшин с ледяным компотом. Меня поздравили, жену Федорыча и моих дедов и бабушек помянули. Сидели, вспоминали былое. Оказалось, что в этой деревне родился мой отец, потом он поступил в институт в городе, да так там и остался жить. К отцу в деревню наведывался, по хозяйству помогал. А буквально за месяц до моего рождения, пришла беда. У дедушки остановилось сердце. Отец даже попрощаться не успел. Меня назвали в честь деда. А дом отец продал в сердцах. Правда, спустя месяц пожалел об этом, хотел выкупить обратно, но новые хозяева отказались. Тогда же отец и загадал свое желание…
— Ванька, сгоняй на чердак, там сундук найдешь, красный такой, старый. В нем военный планшет. Бери и неси сюда, — скомандовал отец.
На чердаке было пыльно и почему–то пахло еловой смолой и еще чем–то мне не известным, но очень приятным. Мне показалось, что именно так пахнет история. Сундук найти труда не составило.
— Открывай планшет, там записка, читай, сын, — сглотнув комок, попросил отец.
— «Сын, я пишу это письмо тебе, нашему Ивану Второму. Сегодня тебе исполнилось десять лет. Я даю обещание. Нет, я постараюсь сделать все возможное, чтобы ты этот день встретил здесь, со мной, в деревне. А на нашем участке, который мне так хочется скорее уже вернуть в нашу собственность, мы с тобой заложим новый сад, в тени деревьев,, среди раскидистых веток яблони, построим открытую беседку, будем вечерами пить чай, а утром убегать на рыбалку через низенький забор, выкрашенный в веселый оранжевый цвет. Я ведь только сейчас понял, что это то место, где мне хочется жить. Поздно, правда, но мечты же должны сбываться? Пусть и моя сбудется!»
— Да, сынок, делай выводы. Я хочу, чтобы ты не повторял моих ошибок. Как же я пожалел о своем поступке. Мужчина, как бы ему не было больно, не должен поддаваться эмоциям. А то, что он должен, так это чтить память предков, свою историю и хранить родовое гнездо. Все эти годы я не упускал из вида судьбу нашего дома. За это время он поменял уже трех хозяев. Поразительно, но дом будто не принимал чужих, а ждал нас. Знаешь, почему? Думаю, что он живой и родной. Так–то. Ну, что ж… Пойдем. У меня все получилось. Он снова наш, — в глазах его, такого сильного и мужественного человека, стояли слезы.
Далеко идти не пришлось. Вот он, небольшой, с зияющим проломом на покосившемся карнизе. Ощущение, что будто голову преклонил пред нами. С каждым шагом я чувствовал какой–то не знакомый мне до этого трепет. Родовое гнездо, как сказал отец. Огромная часть, нет, правильнее будет сказать, корневище, надежный фундамент нашей семьи. Удивительно, но мне захотелось прижаться к обветшалой стойке, поддерживающей козырек над ступенями. И, как только я об этом подумал, отец крепко обнял меня одной рукой, а другой прижался к дому. Никогда еще мы с отцом не были так близки.
— Папа, посмотри, тут у нижней кладки камушками выведена дата… Тысяча девятьсот первый год! Неужели этому дому больше века? Кто его построил? Мой прапрапрапрадед?
— Да, родной. Этот дом строил еще отец твоей прапрапрабабушки, Ксении Петровны. Потом в школу местную съездим, покажу тебе доску почета. Она учительницей работала младших классов, а после директорствовала долгие годы. Ее все тут помнят. Многих достойных людей выучила, воспитала. А муж ее, наш с тобой прапрадед, ветеринаром был, а на пенсию вышел, пошел в лесничество служить. Сколько зверья спас от браконьеров приезжих да вылечил от ран, полученных от капканов и сетей, одному Богу известно. Хорошие они у нас были, настоящие! А ты, кстати, кем стать хотел бы? Не думал еще?
— Знаешь, пап, до сегодняшнего дня летчиком или капитаном корабля быть мечтал. А сейчас даже и не знаю. Сколько профессий нужных есть. И для этого необязательно быть военным, можно подвиг совершать хоть каждый день, просто помогая другим. А в медицинском очень сложно учиться? Как думаешь, выйдет из меня врач хороший?
— Выйдет, сын. Верю в тебя. И ты верь в свои силы и возможности. Без этого никак. А еще нужно очень много трудиться, учиться прилежно. И в школе, и в институте. На доктора не зря учатся дольше всех, а потом еще и всю жизнь продолжают повышать квалификацию. От него главное зависит - жизнь и здоровье.
Стоит ли говорить, что в тот раз на рыбалку мы с отцом так и не собрались. Дел было много. Порядок в доме навели, карниз починили, Федорыч саженцы яблонек принес, и мы их посадили. В одной из лунок нас ждала интересная находка, настоящий клад, зарытый первым моим дедом во время революции — шкатулка с фамильными украшениями. Среди них было удивительной красоты резное колечко с сапфиром.
— Вот такая история...
… Мы сидели на крыльце с Алёнкой, которую я впервые привез в родовое гнездо, чтобы отметить вместе свое двадцатилетие.
—И, знаешь, я ведь тоже тогда, как и отец, загадал желание и положил его в тот самый дедов планшет. Не знаю, почему я, совсем пацаном, загадал в свои десять лет именно это, но … Читай, в общем.
— «Родной дом, я обещаю тебе, что никогда не продам тебя, буду хорошо учиться и стану доктором. И что когда-нибудь, через десять, пятнадцать или двадцать пять лет, я познакомлю тебя с моей девушкой, чтобы именно здесь сделать ей предложение стать моей женой», — на последних словах листок задрожал в руках девушки, ее глаза наполнились слезами.
— Будь моей женой и хозяйкой родового гнезда, — выпалил я, стоя на колене и протягивая бархатистую коробочку с кольцом, которое мы десять лет назад нашли с отцом, сажая яблоньки.
— Я согласна, Ванечка, — прижалась ко мне Алёнка.
Зашелестела листва. Ветер наклонил ветку яблони, и от ее молодой листвы на белом фасаде дома образовался след в виде улыбки. Дом благословил нас. Начинался новый виток семейной истории.
Стояло теплое, насыщенное ароматами молодой зелени и бодрящей весенней свежести майское утро. Ох, как же я люблю праздники! Особенно дни рождения. Вчера мама до поздней ночи возилась на кухне, по дому разлетались манящие запахи выпечки, шум воды и позвякивание кастрюлек. Привычный предпраздничный фон, под который всегда так приятно засыпать.
— С днем рождения, сынок! — едва дождавшись семи утра, в комнату влетела мама и крепко обняла. Я счастливо вдохнул аромат ее волос, пронизанный пряностями корицы, ванили и меда.
— Ну, расти большой, не будь лапшой, — как всегда, пошутил папа. Ты, это, давай не тяни резину, Иван. Собирайся, едем.
Наконец, наступил тот момент, когда отец должен был взять меня с собой на рыбалку. Настоящую, не с мостков у городской речки–гадючки, а на большом озере в семидесяти километрах от города. От восторга я чуть не забыл развернуть подарки. Быстро собрался и уже через пять минут стоял возле двери с рюкзачком и новым спиннингом в руке.
— Обижусь, мальчишки, — всплеснула руками мама, — я полдня вчера готовила, чтобы если не ужин, то хоть завтрак праздничный вам устроить, а вы…. Эх!
— Да, нехорошо получилось, — кашлянув в кулак, сказал отец, — Олюшка, прости, конечно, мы уже садимся. Никуда наши сомики с щукарями не денутся. Ванек, бегом за стол. Ты куда столько наготовила? Роту солдат накормить можно, — потирая руки, заявил отец и отправил в рот вилку со своим любимым салатом.
— Ешьте, ешьте, гурманы, — счастливо вздохнула мама, — я вам там с собой на два дня всего собрала. И тортик с пирогами тоже, — предвосхитив мой вопрос, улыбнулась мама.
Десять лет! Я чувствовал себя совсем взрослым. Даже долгую дорогу перенес, как настоящий мужчина, ни разу не попросил отца остановиться.
И вот она - деревня. Именно такой я ее себе и представлял. Едва выйдя из машины, чуть не наступил на петуха, который тут же меня обругал и понесся дальше по своим, видимо, очень важным и неотложным делам. Вокруг все цвело, деревянные домишки утопали в зелени и палитре красок душистой сирени. Окружающее двигалось, жило, крякало, мычало, кудахтало и лаяло. Откуда–то доносился звук топора и скрип колодезной цепи. И все это, столь отличное от города совершенство, пронизывали теплые золотые лучики солнца, которое, казалось, тоже светило здесь как–то по–особенному. Навстречу нам со старенькой скамейки поднялся седовласый старик. Опираясь на массивную палку, приблизился.
— Дождался, сынок, думал и не увижу тебя боле. А это кто у нас такой? Неужели Ванютка?
— Иван, здравствуйте, — по–взрослому представился я.
— Десять лет, Федорыч, дорогой, — дрогнул голос отца.
Отец крепко обнял старика. Мы прошли в дом. Там было бедно, но очень чисто и самобытно. Накрыли на стол мамины яства. Дед Федорыч принес из погреба кувшин с ледяным компотом. Меня поздравили, жену Федорыча и моих дедов и бабушек помянули. Сидели, вспоминали былое. Оказалось, что в этой деревне родился мой отец, потом он поступил в институт в городе, да так там и остался жить. К отцу в деревню наведывался, по хозяйству помогал. А буквально за месяц до моего рождения, пришла беда. У дедушки остановилось сердце. Отец даже попрощаться не успел. Меня назвали в честь деда. А дом отец продал в сердцах. Правда, спустя месяц пожалел об этом, хотел выкупить обратно, но новые хозяева отказались. Тогда же отец и загадал свое желание…
— Ванька, сгоняй на чердак, там сундук найдешь, красный такой, старый. В нем военный планшет. Бери и неси сюда, — скомандовал отец.
На чердаке было пыльно и почему–то пахло еловой смолой и еще чем–то мне не известным, но очень приятным. Мне показалось, что именно так пахнет история. Сундук найти труда не составило.
— Открывай планшет, там записка, читай, сын, — сглотнув комок, попросил отец.
— «Сын, я пишу это письмо тебе, нашему Ивану Второму. Сегодня тебе исполнилось десять лет. Я даю обещание. Нет, я постараюсь сделать все возможное, чтобы ты этот день встретил здесь, со мной, в деревне. А на нашем участке, который мне так хочется скорее уже вернуть в нашу собственность, мы с тобой заложим новый сад, в тени деревьев,, среди раскидистых веток яблони, построим открытую беседку, будем вечерами пить чай, а утром убегать на рыбалку через низенький забор, выкрашенный в веселый оранжевый цвет. Я ведь только сейчас понял, что это то место, где мне хочется жить. Поздно, правда, но мечты же должны сбываться? Пусть и моя сбудется!»
— Да, сынок, делай выводы. Я хочу, чтобы ты не повторял моих ошибок. Как же я пожалел о своем поступке. Мужчина, как бы ему не было больно, не должен поддаваться эмоциям. А то, что он должен, так это чтить память предков, свою историю и хранить родовое гнездо. Все эти годы я не упускал из вида судьбу нашего дома. За это время он поменял уже трех хозяев. Поразительно, но дом будто не принимал чужих, а ждал нас. Знаешь, почему? Думаю, что он живой и родной. Так–то. Ну, что ж… Пойдем. У меня все получилось. Он снова наш, — в глазах его, такого сильного и мужественного человека, стояли слезы.
Далеко идти не пришлось. Вот он, небольшой, с зияющим проломом на покосившемся карнизе. Ощущение, что будто голову преклонил пред нами. С каждым шагом я чувствовал какой–то не знакомый мне до этого трепет. Родовое гнездо, как сказал отец. Огромная часть, нет, правильнее будет сказать, корневище, надежный фундамент нашей семьи. Удивительно, но мне захотелось прижаться к обветшалой стойке, поддерживающей козырек над ступенями. И, как только я об этом подумал, отец крепко обнял меня одной рукой, а другой прижался к дому. Никогда еще мы с отцом не были так близки.
— Папа, посмотри, тут у нижней кладки камушками выведена дата… Тысяча девятьсот первый год! Неужели этому дому больше века? Кто его построил? Мой прапрапрапрадед?
— Да, родной. Этот дом строил еще отец твоей прапрапрабабушки, Ксении Петровны. Потом в школу местную съездим, покажу тебе доску почета. Она учительницей работала младших классов, а после директорствовала долгие годы. Ее все тут помнят. Многих достойных людей выучила, воспитала. А муж ее, наш с тобой прапрадед, ветеринаром был, а на пенсию вышел, пошел в лесничество служить. Сколько зверья спас от браконьеров приезжих да вылечил от ран, полученных от капканов и сетей, одному Богу известно. Хорошие они у нас были, настоящие! А ты, кстати, кем стать хотел бы? Не думал еще?
— Знаешь, пап, до сегодняшнего дня летчиком или капитаном корабля быть мечтал. А сейчас даже и не знаю. Сколько профессий нужных есть. И для этого необязательно быть военным, можно подвиг совершать хоть каждый день, просто помогая другим. А в медицинском очень сложно учиться? Как думаешь, выйдет из меня врач хороший?
— Выйдет, сын. Верю в тебя. И ты верь в свои силы и возможности. Без этого никак. А еще нужно очень много трудиться, учиться прилежно. И в школе, и в институте. На доктора не зря учатся дольше всех, а потом еще и всю жизнь продолжают повышать квалификацию. От него главное зависит - жизнь и здоровье.
Стоит ли говорить, что в тот раз на рыбалку мы с отцом так и не собрались. Дел было много. Порядок в доме навели, карниз починили, Федорыч саженцы яблонек принес, и мы их посадили. В одной из лунок нас ждала интересная находка, настоящий клад, зарытый первым моим дедом во время революции — шкатулка с фамильными украшениями. Среди них было удивительной красоты резное колечко с сапфиром.
— Вот такая история...
… Мы сидели на крыльце с Алёнкой, которую я впервые привез в родовое гнездо, чтобы отметить вместе свое двадцатилетие.
—И, знаешь, я ведь тоже тогда, как и отец, загадал желание и положил его в тот самый дедов планшет. Не знаю, почему я, совсем пацаном, загадал в свои десять лет именно это, но … Читай, в общем.
— «Родной дом, я обещаю тебе, что никогда не продам тебя, буду хорошо учиться и стану доктором. И что когда-нибудь, через десять, пятнадцать или двадцать пять лет, я познакомлю тебя с моей девушкой, чтобы именно здесь сделать ей предложение стать моей женой», — на последних словах листок задрожал в руках девушки, ее глаза наполнились слезами.
— Будь моей женой и хозяйкой родового гнезда, — выпалил я, стоя на колене и протягивая бархатистую коробочку с кольцом, которое мы десять лет назад нашли с отцом, сажая яблоньки.
— Я согласна, Ванечка, — прижалась ко мне Алёнка.
Зашелестела листва. Ветер наклонил ветку яблони, и от ее молодой листвы на белом фасаде дома образовался след в виде улыбки. Дом благословил нас. Начинался новый виток семейной истории.
Виноградова Татьяна. Как Волков и Морозов пистолет искали, или о вреде праздников
Утром в понедельник совершенно не выспавшийся молодой человек уже стоял перед малость покосившимся участком, на всякий случай сверяясь с адресом. А не напутал ли чего?
Что же сугубо городской страж порядка забыл в этой глубинке? Безжалостно отправили, аргументируя тем, что новый опыт, новые люди. Хотя, на самом деле, по слухам, то ли тамошний участковый не слишком справлялся, то ли занемог, а там у них история такая – жуть! Преступность процветает, недавно вон пилу украли. Двуручную. Дружба. На следующий день, правда, вернули. Потому что пилила она последний раз ещё при Ленине. Точи – не точи, а всё одно. Пилит только мозги.
Станислав Волков вообще был человеком, несколько равнодушным к происшествиям. Привык, так сказать, к причудам. В городе же с чем только граждане не обращаются! То у них пёсик пропал. И не сам пропал, увели, точно увели! Вон этот с третьего этажа. Спросишь, мол, на кой ему? Так лицо больно преступное! Ну да, как будто сырок из пятёрочки свистнул. А то соседи шумные, по ночам, понимаешь ли, музыку громко слушают неподобающую. Волков с ними поговорил, так на следующий день у них исключительно Чайковский играл. Культура! И прочее, и прочее.
В общем, стоит Волков напротив участка, а сам думает, где там, собственно, дверь. Обойдя строение, победно усмехнулся – вот она, родимая.
«Так, тутошний участковый, как мне намекнули, не сахар, - подумал Стас, в нерешительности остановившись. – Следовательно, надо зарекомендовать себя… Как личность не слабовольную».
А внутри, кстати, было неплохо. В уголке расположился совсем крохотный телевизор. К слову, прямо напротив временного изолятора – ну как мило! Кресло стояло, стол, причем даже с документами какими-то. А вот кого живого, окромя как таракана в углу, увы, не наблюдалось. Волков смахнул с лица чернявые пряди и, уперев руки в бока, нахмурился. Помимо всего в участке присутствовал ещё и безбожный бардак.
Внезапно послышался грохот, недовольное шипение, а после громогласный, с хрипотцой, возглас:
- Та-ак, жульё, чего без моего ведома тут? Не проходной, чай, двор. Щас камнем кину, зря он что-ли тут дверь мне так долго подпирал.
- Не утруждайся. Камень – оружие пролетариата, - сухо резюмировал Волков и резким движением выудил фуражку, сказав при этом очень уж невесело: - Та-дам. Принимай напарника.
А про себя отметил, что этот вошедший человек-то младше значительно. Во всяком случае, с нелепо торчащими волосами цвета пшеничного, он выглядел как мальчишка какой. Ещё и веснушки. Бррр.
- Стас Волков, - кашлянув, решил представиться Станислав. – Я тут не задержусь.
- Ааа, вот оно как. Ну, Колька, - неохотно протянул явившийся, пожав руку. Рассудив, что имя – это несолидно, добавил:
- Морозов.
- Что же, Николай, больно грязно тут у тебя?
- Ха, великий чистоплюй, чего ж ты тогда не прибрался? Глядишь, пришёл бы я, а тут благодать. Как в сказке той. Только вот там царевна вроде как была, - ухмыльнулся Морозов. – Да и вообще это мера предосторожности. Ловушка. Зайдет кто-то не тот, запнётся, ну я его и добью. Вон, яблоком… Да чё ты хмурый такой?
- Работа такая. Кстати о работе. Как обстоят дела? Было что-то из ряда вон выходящее? Может, дело какое?- ввернул своё словцо Волков, по-хозяйски рассевшись на скрипучем до невозможности диване.
- Летело два ежа. Один зелёный, другой пёс. Сколько яблок росло на дубе? – Морозов невинно похлопал светлыми ресницами. Видя непонимание на лице напарника, он любезно пояснил: - Я думал мы тут нелепые вопросы задаём. Слушай, Стасик, это деревня. Чё тут случится-то?
Волков открыл было рот, чтоб возразить, но ни звука из его рта вырваться не успело.
- А где мой пистолет? – значительно бледнея, спросил Николай. – Где-е? На столе ж лежал, ну… Ты! – он яростно ткнул Стасу куда-то в центр груди и задрал голову, ибо Волкова природа-матушка ростом отнюдь не отделила. – Тут был только ты!
- А на кой чёрт мне чужое оружие? У меня свой ствол имеется, представь себе, - ложно обвиненный участковый оттолкнул чужую руку. Хотел ещё что-то сказать, оскорбительное причем, но у Морозова был такой растерянный и беспомощный вид, что где-то внутри шевельнулось чувство жалости. – Если его кто-то взял, то он выстрелит. И мы услышим. М? Может местные фильмов насмотрелись и сейчас пойдут карамельки из магазина красть?
В ответ послышалось лишь невнятное мычание.
- Слушай, а это твоё? – несколько удивлённо сказал вдруг Стас, поддев носком ботинка лежащую на полу тряпицу.
- Неа, - флегматично отозвался Морозов, уже перерывший ящички и принявшийся за разгребание завалов. – Вот почему пока ты не припёрся, все было просто замечательно?
- Но если не твоё, то чьё-то же, да?
До Николая, вероятно, дошла информация. Он свёл к переносице выгоревшие брови и начал что-то бухтеть под нос. Наконец, ему удалось выдать нечто членораздельное:
- А вдруг ствол-таки даст о себе знать?
- Я это лишь предположил. Иди пока, проветрись, а я переоденусь… Интересно, а на автобус я успею ещё? Да молчу! Мысли вслух.
Пистолет, как туманно полагал Волков, стрелять не спешил. Посему молодой человек и места себе не находил, готовясь к худшему. Надо же, только приехал, а уже по уши в проблемах. Оперативненько!
Участковые уже успели обойти пару домов, заскочить на почту. Ибо надо же было зацепки искать, да и Морозов клялся и божился, что, мол, не терял он оружие нигде. Украли! Как есть украли!
- Так, а что по тряпке? – убито спросил вдруг Николай. – Ну, нашли которую.
- В участке оставил, а что? Я и забыл о ней, - рассеянно отозвался Волков. – Хм, идея. Деревня мизерная, владельца вычислить как раз плюнуть. Потом по ситуации. Кругом! Налево! Шагом марш! Чего моргаешь…?
В почти любом поселении обязательно присутствует та самая бойкая женщина, зачастую преклонных лет, которая знает всё о всех и о всём. Это прямо справочное бюро! Именно к ней и потащил Морозов своего новообретённого напарника, захватив злополучную «улику» в виде свитера. При этом Николай твердил: «Это оно ведь тоже преступление своего рода. На родную полицию ополчились! Я ведь участок специально не запираю, одно слово – доверие… эх».
- Тамара Павловна! – окрикнул он женщину, когда они уже прибыли.
Волков недоверчиво отвёл взгляд и тут же почувствовал себя малость не в своей тарелке.
- Знаю я. Это Гришкино. Ну, из пятого дома. Во всяком случае много лет назад я его в нём видела, - авторитетно пояснила Тамара Павловна. И угрожающе спросила: - А что, откуда-эт она у вас?
Морозов с Волковым переглянулись и что-то решили помолчать. И, развернувшись почти синхронно, ретировались.
Однако оказалось, что Гришка не владелец.
- То есть? Да что ж всё так сложно-то? – возопил Николай. – Гриша, блин!
- Вы чего, ребята? Я ж его Санычу подарил. Ну, мне мал, не налезал уж. Праздник тогда был. Светлый, хороший. Ну и грех без подарка друга оставлять! А Саныч мужик толковый, да и свитер-то новёхонький ведь!
- Эта фиговина таковой была лет десять назад, - прошептал Стас, на что получил тычок от второго участкового в бок. Мол, молчи, тут всё либо новое, либо на тряпки к рабочим. Руки вытирать.
- Санычу, говоришь? А сам-то свитер что? Твой? – грозно поинтересовался Морозов.
- Нее, ребятки, мне его на работе выдали.
Уже в корень измотанные, «ребятки» направились к загадочному Санычу, которого, как выяснил Волков, зовут Михаил Авдотьев.
- О, а чего это у вас он, Володьки-механика ж вещь! – почесав затылок, хрипло резюмировал Саныч.
- Ваша, - с нажимом поправил Стас. – Во всяком случае, так сказал, эээ, Григорий.
- Ну да, он мне его отдал. Но к чему? У меня что, одёжки нет? Дак было это два года назад! Мы с ним тогда пили. Ну он расчувствовался, одарил. Хотя, знамо дело, не из лучших побуждений, а так. Выкидывать, наверно, жалко было.
Стас хлопнул рукой по лбу и выдавил что-то вроде: «Ооо-как-вы-меня-всеее».
- Понимаете, нам очень нужно узнать владельца. Нужна гарантия, - пояснил Морозов.
- Идём, Коль. Гарантии выдаёт только страховое общество, - измученно сказал Волков, оттаскивая напарника.
- А вдруг кого-то убьют? Что тогда будет? Кошмар тогда будет! – продолжал накручивать себя Морозов, уже представив, как он будет потом всё объяснять областным.
И тут история просто обязана была закончится, потому что у Стаса, человека в целом спокойного, задёргался глаз.
- О, Колян, здравия. И тебе привет, не знаю уж имени, - спокойно поприветствовал участковых Володя, выжимая тряпку.
- Слушайте, это ведь ваше, да? – кашлянув, начал было Волков, но его оборвал сам Владимир:
- Ну даёшь, Морозов. Чего вы ко мне то с этим пришли? Я у тебя его, дурень, вчерась оставил.
- Чего-о? – у Коли глаза на лоб полезли от услышанного, он аж присел на скамейку, мокрую от прошедшего давеча дождя.
- Мы с тобой вчера праздновали девятое мая у тебя в участке. Ну и я тебе УАЗик твой подлатал. Руки замарал, да и вытер тряпкой своей. Ну, свитером этим. Видать там и кинул, говорю ж.
Стас закатил глаза, а про себя усмехнулся: «Стало быть, тряпка».
Володя, вдруг что-то вспомнив, продолжил:
- А, ещё ты мне ствол отдал, типа за работу оплата. Ну а я не дурак, сейчас вот и снёс к тебе в участок.
Волков не сдержался. Послышался звук подзатыльника, а после недовольное пыхтение Морозова, - тот от неожиданности свалился с лавки.
- Спасибо, Владимир, вы помогли нам раскрыть такие дело! – официально поблагодарил Стас. – А то такая оказия произошла, вы не представляете, - он выразительно покосился на напарника и ушёл, махнув рукой на прощание.
- Но как же? – догнав Стаса у самого участка, жалобно протянул Коля.
- Хорошо отпраздновал! – Волков нервно хохотнул. На столе действительно лежал пистолет. – Я надеюсь, это самое страшное, что может тут случиться?
- Блин, Стасик, совесть грызёт, что я тебя в такую глупость втянул! – брякнул Коля.
- А ты вот зубки-то ей выбей, - любезно посоветовал Стас. – И будет она тебя облизывать, а не грызть. Хм, так что насчёт моего вопроса?
Николай втянул ноздрями отнюдь не приятный воздух участка и почти с наслаждением сказал, полностью противореча себе недавнему:
- Слушай, Стасик, это деревня. Тут много чё случается. Во поработаем, а?
Утром в понедельник совершенно не выспавшийся молодой человек уже стоял перед малость покосившимся участком, на всякий случай сверяясь с адресом. А не напутал ли чего?
Что же сугубо городской страж порядка забыл в этой глубинке? Безжалостно отправили, аргументируя тем, что новый опыт, новые люди. Хотя, на самом деле, по слухам, то ли тамошний участковый не слишком справлялся, то ли занемог, а там у них история такая – жуть! Преступность процветает, недавно вон пилу украли. Двуручную. Дружба. На следующий день, правда, вернули. Потому что пилила она последний раз ещё при Ленине. Точи – не точи, а всё одно. Пилит только мозги.
Станислав Волков вообще был человеком, несколько равнодушным к происшествиям. Привык, так сказать, к причудам. В городе же с чем только граждане не обращаются! То у них пёсик пропал. И не сам пропал, увели, точно увели! Вон этот с третьего этажа. Спросишь, мол, на кой ему? Так лицо больно преступное! Ну да, как будто сырок из пятёрочки свистнул. А то соседи шумные, по ночам, понимаешь ли, музыку громко слушают неподобающую. Волков с ними поговорил, так на следующий день у них исключительно Чайковский играл. Культура! И прочее, и прочее.
В общем, стоит Волков напротив участка, а сам думает, где там, собственно, дверь. Обойдя строение, победно усмехнулся – вот она, родимая.
«Так, тутошний участковый, как мне намекнули, не сахар, - подумал Стас, в нерешительности остановившись. – Следовательно, надо зарекомендовать себя… Как личность не слабовольную».
А внутри, кстати, было неплохо. В уголке расположился совсем крохотный телевизор. К слову, прямо напротив временного изолятора – ну как мило! Кресло стояло, стол, причем даже с документами какими-то. А вот кого живого, окромя как таракана в углу, увы, не наблюдалось. Волков смахнул с лица чернявые пряди и, уперев руки в бока, нахмурился. Помимо всего в участке присутствовал ещё и безбожный бардак.
Внезапно послышался грохот, недовольное шипение, а после громогласный, с хрипотцой, возглас:
- Та-ак, жульё, чего без моего ведома тут? Не проходной, чай, двор. Щас камнем кину, зря он что-ли тут дверь мне так долго подпирал.
- Не утруждайся. Камень – оружие пролетариата, - сухо резюмировал Волков и резким движением выудил фуражку, сказав при этом очень уж невесело: - Та-дам. Принимай напарника.
А про себя отметил, что этот вошедший человек-то младше значительно. Во всяком случае, с нелепо торчащими волосами цвета пшеничного, он выглядел как мальчишка какой. Ещё и веснушки. Бррр.
- Стас Волков, - кашлянув, решил представиться Станислав. – Я тут не задержусь.
- Ааа, вот оно как. Ну, Колька, - неохотно протянул явившийся, пожав руку. Рассудив, что имя – это несолидно, добавил:
- Морозов.
- Что же, Николай, больно грязно тут у тебя?
- Ха, великий чистоплюй, чего ж ты тогда не прибрался? Глядишь, пришёл бы я, а тут благодать. Как в сказке той. Только вот там царевна вроде как была, - ухмыльнулся Морозов. – Да и вообще это мера предосторожности. Ловушка. Зайдет кто-то не тот, запнётся, ну я его и добью. Вон, яблоком… Да чё ты хмурый такой?
- Работа такая. Кстати о работе. Как обстоят дела? Было что-то из ряда вон выходящее? Может, дело какое?- ввернул своё словцо Волков, по-хозяйски рассевшись на скрипучем до невозможности диване.
- Летело два ежа. Один зелёный, другой пёс. Сколько яблок росло на дубе? – Морозов невинно похлопал светлыми ресницами. Видя непонимание на лице напарника, он любезно пояснил: - Я думал мы тут нелепые вопросы задаём. Слушай, Стасик, это деревня. Чё тут случится-то?
Волков открыл было рот, чтоб возразить, но ни звука из его рта вырваться не успело.
- А где мой пистолет? – значительно бледнея, спросил Николай. – Где-е? На столе ж лежал, ну… Ты! – он яростно ткнул Стасу куда-то в центр груди и задрал голову, ибо Волкова природа-матушка ростом отнюдь не отделила. – Тут был только ты!
- А на кой чёрт мне чужое оружие? У меня свой ствол имеется, представь себе, - ложно обвиненный участковый оттолкнул чужую руку. Хотел ещё что-то сказать, оскорбительное причем, но у Морозова был такой растерянный и беспомощный вид, что где-то внутри шевельнулось чувство жалости. – Если его кто-то взял, то он выстрелит. И мы услышим. М? Может местные фильмов насмотрелись и сейчас пойдут карамельки из магазина красть?
В ответ послышалось лишь невнятное мычание.
- Слушай, а это твоё? – несколько удивлённо сказал вдруг Стас, поддев носком ботинка лежащую на полу тряпицу.
- Неа, - флегматично отозвался Морозов, уже перерывший ящички и принявшийся за разгребание завалов. – Вот почему пока ты не припёрся, все было просто замечательно?
- Но если не твоё, то чьё-то же, да?
До Николая, вероятно, дошла информация. Он свёл к переносице выгоревшие брови и начал что-то бухтеть под нос. Наконец, ему удалось выдать нечто членораздельное:
- А вдруг ствол-таки даст о себе знать?
- Я это лишь предположил. Иди пока, проветрись, а я переоденусь… Интересно, а на автобус я успею ещё? Да молчу! Мысли вслух.
Пистолет, как туманно полагал Волков, стрелять не спешил. Посему молодой человек и места себе не находил, готовясь к худшему. Надо же, только приехал, а уже по уши в проблемах. Оперативненько!
Участковые уже успели обойти пару домов, заскочить на почту. Ибо надо же было зацепки искать, да и Морозов клялся и божился, что, мол, не терял он оружие нигде. Украли! Как есть украли!
- Так, а что по тряпке? – убито спросил вдруг Николай. – Ну, нашли которую.
- В участке оставил, а что? Я и забыл о ней, - рассеянно отозвался Волков. – Хм, идея. Деревня мизерная, владельца вычислить как раз плюнуть. Потом по ситуации. Кругом! Налево! Шагом марш! Чего моргаешь…?
В почти любом поселении обязательно присутствует та самая бойкая женщина, зачастую преклонных лет, которая знает всё о всех и о всём. Это прямо справочное бюро! Именно к ней и потащил Морозов своего новообретённого напарника, захватив злополучную «улику» в виде свитера. При этом Николай твердил: «Это оно ведь тоже преступление своего рода. На родную полицию ополчились! Я ведь участок специально не запираю, одно слово – доверие… эх».
- Тамара Павловна! – окрикнул он женщину, когда они уже прибыли.
Волков недоверчиво отвёл взгляд и тут же почувствовал себя малость не в своей тарелке.
- Знаю я. Это Гришкино. Ну, из пятого дома. Во всяком случае много лет назад я его в нём видела, - авторитетно пояснила Тамара Павловна. И угрожающе спросила: - А что, откуда-эт она у вас?
Морозов с Волковым переглянулись и что-то решили помолчать. И, развернувшись почти синхронно, ретировались.
Однако оказалось, что Гришка не владелец.
- То есть? Да что ж всё так сложно-то? – возопил Николай. – Гриша, блин!
- Вы чего, ребята? Я ж его Санычу подарил. Ну, мне мал, не налезал уж. Праздник тогда был. Светлый, хороший. Ну и грех без подарка друга оставлять! А Саныч мужик толковый, да и свитер-то новёхонький ведь!
- Эта фиговина таковой была лет десять назад, - прошептал Стас, на что получил тычок от второго участкового в бок. Мол, молчи, тут всё либо новое, либо на тряпки к рабочим. Руки вытирать.
- Санычу, говоришь? А сам-то свитер что? Твой? – грозно поинтересовался Морозов.
- Нее, ребятки, мне его на работе выдали.
Уже в корень измотанные, «ребятки» направились к загадочному Санычу, которого, как выяснил Волков, зовут Михаил Авдотьев.
- О, а чего это у вас он, Володьки-механика ж вещь! – почесав затылок, хрипло резюмировал Саныч.
- Ваша, - с нажимом поправил Стас. – Во всяком случае, так сказал, эээ, Григорий.
- Ну да, он мне его отдал. Но к чему? У меня что, одёжки нет? Дак было это два года назад! Мы с ним тогда пили. Ну он расчувствовался, одарил. Хотя, знамо дело, не из лучших побуждений, а так. Выкидывать, наверно, жалко было.
Стас хлопнул рукой по лбу и выдавил что-то вроде: «Ооо-как-вы-меня-всеее».
- Понимаете, нам очень нужно узнать владельца. Нужна гарантия, - пояснил Морозов.
- Идём, Коль. Гарантии выдаёт только страховое общество, - измученно сказал Волков, оттаскивая напарника.
- А вдруг кого-то убьют? Что тогда будет? Кошмар тогда будет! – продолжал накручивать себя Морозов, уже представив, как он будет потом всё объяснять областным.
И тут история просто обязана была закончится, потому что у Стаса, человека в целом спокойного, задёргался глаз.
- О, Колян, здравия. И тебе привет, не знаю уж имени, - спокойно поприветствовал участковых Володя, выжимая тряпку.
- Слушайте, это ведь ваше, да? – кашлянув, начал было Волков, но его оборвал сам Владимир:
- Ну даёшь, Морозов. Чего вы ко мне то с этим пришли? Я у тебя его, дурень, вчерась оставил.
- Чего-о? – у Коли глаза на лоб полезли от услышанного, он аж присел на скамейку, мокрую от прошедшего давеча дождя.
- Мы с тобой вчера праздновали девятое мая у тебя в участке. Ну и я тебе УАЗик твой подлатал. Руки замарал, да и вытер тряпкой своей. Ну, свитером этим. Видать там и кинул, говорю ж.
Стас закатил глаза, а про себя усмехнулся: «Стало быть, тряпка».
Володя, вдруг что-то вспомнив, продолжил:
- А, ещё ты мне ствол отдал, типа за работу оплата. Ну а я не дурак, сейчас вот и снёс к тебе в участок.
Волков не сдержался. Послышался звук подзатыльника, а после недовольное пыхтение Морозова, - тот от неожиданности свалился с лавки.
- Спасибо, Владимир, вы помогли нам раскрыть такие дело! – официально поблагодарил Стас. – А то такая оказия произошла, вы не представляете, - он выразительно покосился на напарника и ушёл, махнув рукой на прощание.
- Но как же? – догнав Стаса у самого участка, жалобно протянул Коля.
- Хорошо отпраздновал! – Волков нервно хохотнул. На столе действительно лежал пистолет. – Я надеюсь, это самое страшное, что может тут случиться?
- Блин, Стасик, совесть грызёт, что я тебя в такую глупость втянул! – брякнул Коля.
- А ты вот зубки-то ей выбей, - любезно посоветовал Стас. – И будет она тебя облизывать, а не грызть. Хм, так что насчёт моего вопроса?
Николай втянул ноздрями отнюдь не приятный воздух участка и почти с наслаждением сказал, полностью противореча себе недавнему:
- Слушай, Стасик, это деревня. Тут много чё случается. Во поработаем, а?
Коленова Мария. Поэт со звездочкой
«… И о погоде. Сегодня в городе от нуля до плюс одного и ясно. Завтра утром в Череповце ожидается резкое похолодание до минус пяти. Возможен снег. Далее новости спорта», — бодро читала девушка из радиоприёмника.
— Снег землю прикроет, всяко светлее станет, — сказала мама, размешивая сахар в чае.
— Угу, — ответил папа, отщипывая влажный ломтик лимона.
Вечер заливал окна малиновым блеском. Обшарившая землю, закат наткнулся на памятник какому-то поэту у института, слепил бронзовую маску с его лица и растворился, как солнечный отблеск в чашке, давая дорогу сумеркам. Темнело рано и густо, из-за чего казалось, что наступила полярная ночь.
Хотя город наш невелик и жителей в нем наперечет, снега ждали все. Темнота, соединившаяся с тишиной улицы, дополняла ожидание чуда в виде снежного покрова, освещённого лимонными фонарями. Похудевшая и постаревшая луна, похожая на ноготь, больше не справлялась с ролью ночного светила. Должен прийти кто-то больший, а дождаться его — нелёгкая задача.
Я не люблю решать задачи. Мне больше нравится писать сочинения. Наша учительница говорит, что писать сочинение — это то же, что решать задачу. От этих слов в глазах технарей загорается родственный огонёк понимания, но на математике мне никто не позволит решать уравнения литературно, хотя в них больше букв, чем цифр.
Нам задали написать сочинение на тему «Великий поэт». Когда что-то задают — это задача, значит не нравится мне. Поэзия поэзией, но проза школьной жизни в том, что одна половина класса пишет про Лермонтова, а другая — про Пушкина.
— Пу-пу-пушкин, — повторяла я, пытаясь написать первое предложение.
«Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт» — все, что появилось в моей тетради спустя час терзаний. Я попробовала представить его в детстве. Смуглый. Кудрявый. Кареглазый. С бакенбардами. Нет, сначала появился Пушкин, потом бакенбарды. Хотя…какой Пушкин без бакенбард. Или бакенбардов? Ерунда какая-то.
— Папа, тебе в школе какой поэт нравился? — спросила я, проходя мимо кухни.
— Мне? — переспросил он, — Некрасов. А что?
— Да так, сочинение пишу, — ответила я.
— А что за тема?
— Великий поэт.
— Так пиши про него. Если хочешь, я тебе расскажу. Я и стихи наизусть помню.
Он откашлялся, расчищая путь для слов:
— Однажды, в студёную зимнюю пору…
— Пап, спасибо. Я не буду про него писать, — вздохнула я и вернулась в комнату.
Писать про Некрасова было самоубийством, потому что это любимый поэт нашей учительницы. Она обязательно заставит читать сочинение вслух.
Как-то в школе мы гадали по книгам. Это когда задумываешь вопрос и выбираешь номер страницы и строчку. Что прочитаешь — то и сбудется. Книги не врут. Решила выбрать наудачу поэта из учебника. Там их много, и все — великие.
В учебнике четыреста с лишним страниц. Нужно загадать число от пятнадцати до четырёхсот, потому что слова на первых и последних страницах не считаются.
— Мам, — крикнула я, выходя на кухню, — какой у нас номер машины?
— Триста восемьдесят девять, — ответила мама, — а зачем тебе?
— Да так, просто. А число сегодня какое?
— Восемнадцатое, — ответила мама.
— Ага, спасибо.
Замелькали страницы, имена, фотографии и годы жизни. Где-то попадались картинки. Страница триста восемьдесят семь, восемь, девять. Вот она. Теперь восемнадцатая строчка. Пусть будет сверху. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать.
Задание со звёздочкой: подготовьте сообщение о жизни и творчестве Николая Михайловича Рубцова, используя доступные ресурсы сети Интернет.
Историческая справка:
Николай Михайлович Рубцов (1936-1971) — русский поэт. Родился в селе Емецк Архангельской области. Закончил Литературный институт имени Горького. В своём творчестве воспел красоту природы Русского Севера. Умер в Вологде.
Да уж. Тридцать пять лет в пяти предложениях. Когда таланта больше не осталось, краткость назвали его сестрой и подарили автору заметки.
Я знаю, что именем Рубцова названа библиотека и улица. Больше, кажется, ничего не помню. Времени оставалось все меньше, а вопросов становилось все больше. Открыла первую вкладку по запросу «Николай Рубцов». С черно-белой фотографии на меня взглянули два глаза. Наверное, карих, насколько плёнка тогда умела передавать цвет глаз. Их обладатель имел лысину и шарф. И пальто.
Внизу появился список его стихотворений. Я нажала на слова «Звезда полей».
Звезда полей, во мгле заледенелой
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою…
Я посмотрела в окно. Шёл снег, не давая звёздам показаться. Небесный пух, заставший землю врасплох, медленно опускался, окутывая сонные улицы. Снежинка — это маленькая звезда. Наши с великим поэтом картинки почти совпали.
Пролистала ниже. У него было еще одно стихотворение о звезде.
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…
Такое тихое, как колыбельная. И светлое, как первая звезда. Возможно, звезды и загораются на небе, когда талантливые люди уходят из жизни раньше срока, и вся неизрасходованная энергия превращается в свет.
На других страницах были заметки о его биографии, повторявшие друг за другом: «поэт деревни», «певец Русского Севера», «красота природы». Жизненный путь поэта превратился в сочинение, который один сайт списывает с другого. Рубцова проходят, но не читают.
Строчки из другого стихотворения показались мне знакомыми:
Я буду долго гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов.
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Это же песня такая есть. Я помню, впервые услышала ее, когда мы еще жили в деревне. Радиоприёмник целыми днями моросил старыми песнями, но эта как будто звучала чаще. Или только она запомнилась.
Кататься на велосипеде меня учила сестра Юля. Я балансировала очень неловко. Ссадины на ногах не успевали заживать: то поверх них ложились новые, то я расчесывала корки до белых следов от ногтей на загорелой коже. Поэтому колени у меня до сих пор шершавые, как гранитные шары на набережной, хотя прошло лет десять. И эта песня отозвалась в сердце тонким рубчиком, заставляющим вздрогнуть от укола узнавания.
Я буду долго гнать велосипед. Не городской, серебряный, похожий на стрекозу, а мой старый, обрызганный грязью, с загнутыми лапками-педалями. Как сейчас помню: закат переливался через край и расползался по небу, как чайное пятно по скатерти. Вечер розово пах вереском. Ласточки стригли небосвод ножницами крыльев. От воды тянуло вечерней влагой, которая ласкала щеки. Дорога сама бежала под колеса велосипеда «Аист». Чтобы заехать в гору, приходилось слезать и катить его рядом. Педаль била под колено.
Белая колокольня стояла на своем отражении в воде, отчего была похожа на острый айсберг. Ёлки доставали до первых звезд, появлявшихся на другой стороне неба.
Тишина лопнула от удара часов на стене. И вереск, и сон, и ёлки разлетелись, как дым.
Я закрыла ноутбук и вырвала страницу с Пушкиным из тетради.
Восемнадцатое…Нет, уже девятнадцатое января. Домашняя работа. Сочинение на тему «Великой поэт».
Слова цеплялись друг за друга, толкались и бежали строчка за строчкой. Словам было тесно, а мыслям — просторно. Писать сочинение — это то же, что решать задачу, но задачу со звёздочкой: не знаешь, что должно получиться. Самое большое сочинение, которое пишет поэт — это его жизнь, а самая большая задача в ней — понять, ради чего она была. У каждого своё «ради чего». «Ради чего» даже звучит как среднее между «родимым» и «сердечным», потому что оно должно слышаться в каждом ударе сердца.
Через пару часов сочинение лежало в папке. Я смотрела с кровати, как карусельно проносились тени по стенам, когда через двор ехала большая машина. В большой машине хватит места на много людей. Хорошо, когда люди движутся в одном направлении и в комнате ненадолго становится светло от их ночной езды.
За завтраком папа спросил меня:
— Про кого все-таки сочинение написала?
— Про Рубцова, — ответила я.
— Он у вас в учебнике есть?
— Ага. Он поэт со звёздочкой.
Улица спала, укрывшись белой тишиной. Только дворник сгребал ее большой лопатой в сугробы. Потом он подошёл к памятнику, смахнул с его головы снежную шапку и продолжил расчищать площадь возле института.
Замерзшая дверь поддалась не сразу. Я вышла из дома.
Был сильный мороз.
«… И о погоде. Сегодня в городе от нуля до плюс одного и ясно. Завтра утром в Череповце ожидается резкое похолодание до минус пяти. Возможен снег. Далее новости спорта», — бодро читала девушка из радиоприёмника.
— Снег землю прикроет, всяко светлее станет, — сказала мама, размешивая сахар в чае.
— Угу, — ответил папа, отщипывая влажный ломтик лимона.
Вечер заливал окна малиновым блеском. Обшарившая землю, закат наткнулся на памятник какому-то поэту у института, слепил бронзовую маску с его лица и растворился, как солнечный отблеск в чашке, давая дорогу сумеркам. Темнело рано и густо, из-за чего казалось, что наступила полярная ночь.
Хотя город наш невелик и жителей в нем наперечет, снега ждали все. Темнота, соединившаяся с тишиной улицы, дополняла ожидание чуда в виде снежного покрова, освещённого лимонными фонарями. Похудевшая и постаревшая луна, похожая на ноготь, больше не справлялась с ролью ночного светила. Должен прийти кто-то больший, а дождаться его — нелёгкая задача.
Я не люблю решать задачи. Мне больше нравится писать сочинения. Наша учительница говорит, что писать сочинение — это то же, что решать задачу. От этих слов в глазах технарей загорается родственный огонёк понимания, но на математике мне никто не позволит решать уравнения литературно, хотя в них больше букв, чем цифр.
Нам задали написать сочинение на тему «Великий поэт». Когда что-то задают — это задача, значит не нравится мне. Поэзия поэзией, но проза школьной жизни в том, что одна половина класса пишет про Лермонтова, а другая — про Пушкина.
— Пу-пу-пушкин, — повторяла я, пытаясь написать первое предложение.
«Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт» — все, что появилось в моей тетради спустя час терзаний. Я попробовала представить его в детстве. Смуглый. Кудрявый. Кареглазый. С бакенбардами. Нет, сначала появился Пушкин, потом бакенбарды. Хотя…какой Пушкин без бакенбард. Или бакенбардов? Ерунда какая-то.
— Папа, тебе в школе какой поэт нравился? — спросила я, проходя мимо кухни.
— Мне? — переспросил он, — Некрасов. А что?
— Да так, сочинение пишу, — ответила я.
— А что за тема?
— Великий поэт.
— Так пиши про него. Если хочешь, я тебе расскажу. Я и стихи наизусть помню.
Он откашлялся, расчищая путь для слов:
— Однажды, в студёную зимнюю пору…
— Пап, спасибо. Я не буду про него писать, — вздохнула я и вернулась в комнату.
Писать про Некрасова было самоубийством, потому что это любимый поэт нашей учительницы. Она обязательно заставит читать сочинение вслух.
Как-то в школе мы гадали по книгам. Это когда задумываешь вопрос и выбираешь номер страницы и строчку. Что прочитаешь — то и сбудется. Книги не врут. Решила выбрать наудачу поэта из учебника. Там их много, и все — великие.
В учебнике четыреста с лишним страниц. Нужно загадать число от пятнадцати до четырёхсот, потому что слова на первых и последних страницах не считаются.
— Мам, — крикнула я, выходя на кухню, — какой у нас номер машины?
— Триста восемьдесят девять, — ответила мама, — а зачем тебе?
— Да так, просто. А число сегодня какое?
— Восемнадцатое, — ответила мама.
— Ага, спасибо.
Замелькали страницы, имена, фотографии и годы жизни. Где-то попадались картинки. Страница триста восемьдесят семь, восемь, девять. Вот она. Теперь восемнадцатая строчка. Пусть будет сверху. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать.
Задание со звёздочкой: подготовьте сообщение о жизни и творчестве Николая Михайловича Рубцова, используя доступные ресурсы сети Интернет.
Историческая справка:
Николай Михайлович Рубцов (1936-1971) — русский поэт. Родился в селе Емецк Архангельской области. Закончил Литературный институт имени Горького. В своём творчестве воспел красоту природы Русского Севера. Умер в Вологде.
Да уж. Тридцать пять лет в пяти предложениях. Когда таланта больше не осталось, краткость назвали его сестрой и подарили автору заметки.
Я знаю, что именем Рубцова названа библиотека и улица. Больше, кажется, ничего не помню. Времени оставалось все меньше, а вопросов становилось все больше. Открыла первую вкладку по запросу «Николай Рубцов». С черно-белой фотографии на меня взглянули два глаза. Наверное, карих, насколько плёнка тогда умела передавать цвет глаз. Их обладатель имел лысину и шарф. И пальто.
Внизу появился список его стихотворений. Я нажала на слова «Звезда полей».
Звезда полей, во мгле заледенелой
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою…
Я посмотрела в окно. Шёл снег, не давая звёздам показаться. Небесный пух, заставший землю врасплох, медленно опускался, окутывая сонные улицы. Снежинка — это маленькая звезда. Наши с великим поэтом картинки почти совпали.
Пролистала ниже. У него было еще одно стихотворение о звезде.
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…
Такое тихое, как колыбельная. И светлое, как первая звезда. Возможно, звезды и загораются на небе, когда талантливые люди уходят из жизни раньше срока, и вся неизрасходованная энергия превращается в свет.
На других страницах были заметки о его биографии, повторявшие друг за другом: «поэт деревни», «певец Русского Севера», «красота природы». Жизненный путь поэта превратился в сочинение, который один сайт списывает с другого. Рубцова проходят, но не читают.
Строчки из другого стихотворения показались мне знакомыми:
Я буду долго гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов.
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Это же песня такая есть. Я помню, впервые услышала ее, когда мы еще жили в деревне. Радиоприёмник целыми днями моросил старыми песнями, но эта как будто звучала чаще. Или только она запомнилась.
Кататься на велосипеде меня учила сестра Юля. Я балансировала очень неловко. Ссадины на ногах не успевали заживать: то поверх них ложились новые, то я расчесывала корки до белых следов от ногтей на загорелой коже. Поэтому колени у меня до сих пор шершавые, как гранитные шары на набережной, хотя прошло лет десять. И эта песня отозвалась в сердце тонким рубчиком, заставляющим вздрогнуть от укола узнавания.
Я буду долго гнать велосипед. Не городской, серебряный, похожий на стрекозу, а мой старый, обрызганный грязью, с загнутыми лапками-педалями. Как сейчас помню: закат переливался через край и расползался по небу, как чайное пятно по скатерти. Вечер розово пах вереском. Ласточки стригли небосвод ножницами крыльев. От воды тянуло вечерней влагой, которая ласкала щеки. Дорога сама бежала под колеса велосипеда «Аист». Чтобы заехать в гору, приходилось слезать и катить его рядом. Педаль била под колено.
Белая колокольня стояла на своем отражении в воде, отчего была похожа на острый айсберг. Ёлки доставали до первых звезд, появлявшихся на другой стороне неба.
Тишина лопнула от удара часов на стене. И вереск, и сон, и ёлки разлетелись, как дым.
Я закрыла ноутбук и вырвала страницу с Пушкиным из тетради.
Восемнадцатое…Нет, уже девятнадцатое января. Домашняя работа. Сочинение на тему «Великой поэт».
Слова цеплялись друг за друга, толкались и бежали строчка за строчкой. Словам было тесно, а мыслям — просторно. Писать сочинение — это то же, что решать задачу, но задачу со звёздочкой: не знаешь, что должно получиться. Самое большое сочинение, которое пишет поэт — это его жизнь, а самая большая задача в ней — понять, ради чего она была. У каждого своё «ради чего». «Ради чего» даже звучит как среднее между «родимым» и «сердечным», потому что оно должно слышаться в каждом ударе сердца.
Через пару часов сочинение лежало в папке. Я смотрела с кровати, как карусельно проносились тени по стенам, когда через двор ехала большая машина. В большой машине хватит места на много людей. Хорошо, когда люди движутся в одном направлении и в комнате ненадолго становится светло от их ночной езды.
За завтраком папа спросил меня:
— Про кого все-таки сочинение написала?
— Про Рубцова, — ответила я.
— Он у вас в учебнике есть?
— Ага. Он поэт со звёздочкой.
Улица спала, укрывшись белой тишиной. Только дворник сгребал ее большой лопатой в сугробы. Потом он подошёл к памятнику, смахнул с его головы снежную шапку и продолжил расчищать площадь возле института.
Замерзшая дверь поддалась не сразу. Я вышла из дома.
Был сильный мороз.
Грошева Евгения. Ужас
Ужас – это вещь! Это совсем не то, что страх. Страх нам хорошо знаком. Он тёплый, живой, трепещущий. Из-за него сердце барабанит беспорядочную партию и ноги становятся быстрые, лёгкие.
Вот было: ты ребенок, и приснился тебе сон. Обычный вроде, но тебе так от него стало страшно – прямо настоящий ужас.
Это было на даче. Ты увидел, будто на улице глубоко синяя ночь, а бабушка припарковала машину на грядках с клубникой. Гром загремел, молнии засверкали, пошёл дождь – и такой сильный, что машину стало затапливать. А тебя самого в этом сне нет, но ты видишь, как поднимается уровень воды, как какие-то механизмы в машине выходят из строя и моргают экранчики.И от этого –жутко!
Просыпаешься, подскакиваешь на кровати и вдруг понимаешь, что это был сон. А всё равно душу скручивает в холодной пустоте, которая образовалась внутри тебя. Если расскажешь кому – не поймут. Это надо видеть своими глазами, чтобы понять, как же это всё-таки ужасно.
Ужас – это вещь! Причём вещь совершенно другого характера, чем страх. Ужас липкий и стылый. От него волосы, что называется, дыбом встают, словно электризуются, а внутри пусто, холодно и глухо становится.
А ещё было как-то раз, что проснулся ты посреди летней ночи.В темноте повис синий прямоугольник неба. Окно было открыто. А с улицы доносились чьи-то крики.
Какая-то женщина кричала, надрываясь, звала на помощь. А ты лежал, вжавшись в постель, зажимал в ужасе ладонями уши.Что такое? Кто кричит?
За окном в палисаднике темно, ни черта не видно. Выглянул бы - всё равно ничего не увидел бы.
А может, хуже. Может, увидел бы. Увидел бы женщину, истошно кричащую, и рядом с ней...
Ужас!
Нет, легче было лежать. Легче было сделать вид, что тебя нет, что ты не слышишь, легче было переждать.
Мама встала, закрыла дверь на балкон. Это чтобы криков не было слышно. А их все равно слышно, чёрт бы их побрал, через твоё открытое окно.
Ты заставил себя встать, закрыл окно, не опуская взгляда в черноту внизу, где кричала женщина.
Лежал, накрывал голову одеялом, зажимал уши. Глухо, неразборчиво слышно было голос через закрытое окно. Не знал бы ты, что за слова она кричала, может и не разобрал бы.
"Помогите!"
Ужас!
Ужас – это всё-таки вещь! Такая вещь, которую мозг всё время пытается забыть. Он у нас такой, склонный избавляться от того, что ему не нравится.
А в другой раз Она тебе написала о том, как жить не хочется. Боже мой, как же можно такую жизнь жить – тошную, скучную, унылую...
"Я уже бритву сломала, чтобы лезвие достать".
У тебя комом в горле встала тошнота, а внутри свернулась глухая, вязкая пустота.
Гадкая маршрутка везла почти час – бесконечно долго, за это время можно хоть двадцать бритв сломать, двадцать лезвий достать...
Двадцать лезвий. Раз, два, три... лезвия... Двадцать штук.
Ты приехал, а Она тебя встретила: такая странная, спокойная, будто бы все у неё хорошо.
Тыкала тебе в лицо своими белыми запястьями с синими нитями вен.
Улыбалась так нелепо и неловко. У тебя в голове загремело: "Убери от меня свои грязные запястья!" – и зазвенела пощечина.
– Ну тебя, – приглушенно ответил ты и отпихнул ее руку.
– Ты чего?
Она не то имела в виду, не то, что ты подумал. Хорошо, что ты промолчал. Молчи, сволочь, молчи и дальше... Хорошо, что держишь язык при себе.Бритва лежала у кухонной раковины, в упаковке из-под мороженого. В красном блестящем фантике металлическая смерть –
переливалась...
Ужас!
Бритва дешевая, сломана пополам. Так лезвие не достанешь, конечно, его оттуда не выковыряешь. Но Она попыталась, Она уже что-то сделала, Она уже взяла в руки бритву и сломала ее.
Что было у Неё в голове? В каком состоянии Она находилась, когда делала это? В каком состоянии сознания?
Ты сунул бритву себе в карман. Она неловко засмеялась, попросила отдать её, чтобы выкинуть, но ты отказался.
На остановке ты бросил отломанную ручку на асфальт и бил её ногой до тех пор, пока осколки не смешались с пылью. Чудесная майская пыль на асфальте, и солнце в синем небе.
Затем была верхняя часть бритвы. По ней ты бил даже с большим остервенением, потому что из неё на тебя глядела смерть, металлически переливающиеся в лучах закатного майского солнца. Ты её достал, она была маленькая и гибкая. Погнулась в руках без каких-либо усилий.
- Порежешься!
И порвалась. Так и порвалась, сволочь, легко...
Ужас! Ужас у тебя в груди превратился в холодную вязкую жижу. Возвращаясь домой, ты чувствовал, как отяжелели веки. Кровать была твердая, неудобная, но теплая. Ты заснул в страхе, что твой сон будет полон изрезанных запястий, лопнувших нитей вен, мокрого багрянца и металлического блеска.
А ночью тебе приснился искрящийся сон: белое солнечное пятно в синем небе и чудесная майская пыль на асфальте.
Эгоист.
Ужас – это вещь! Это совсем не то, что страх. Страх нам хорошо знаком. Он тёплый, живой, трепещущий. Из-за него сердце барабанит беспорядочную партию и ноги становятся быстрые, лёгкие.
Вот было: ты ребенок, и приснился тебе сон. Обычный вроде, но тебе так от него стало страшно – прямо настоящий ужас.
Это было на даче. Ты увидел, будто на улице глубоко синяя ночь, а бабушка припарковала машину на грядках с клубникой. Гром загремел, молнии засверкали, пошёл дождь – и такой сильный, что машину стало затапливать. А тебя самого в этом сне нет, но ты видишь, как поднимается уровень воды, как какие-то механизмы в машине выходят из строя и моргают экранчики.И от этого –жутко!
Просыпаешься, подскакиваешь на кровати и вдруг понимаешь, что это был сон. А всё равно душу скручивает в холодной пустоте, которая образовалась внутри тебя. Если расскажешь кому – не поймут. Это надо видеть своими глазами, чтобы понять, как же это всё-таки ужасно.
Ужас – это вещь! Причём вещь совершенно другого характера, чем страх. Ужас липкий и стылый. От него волосы, что называется, дыбом встают, словно электризуются, а внутри пусто, холодно и глухо становится.
А ещё было как-то раз, что проснулся ты посреди летней ночи.В темноте повис синий прямоугольник неба. Окно было открыто. А с улицы доносились чьи-то крики.
Какая-то женщина кричала, надрываясь, звала на помощь. А ты лежал, вжавшись в постель, зажимал в ужасе ладонями уши.Что такое? Кто кричит?
За окном в палисаднике темно, ни черта не видно. Выглянул бы - всё равно ничего не увидел бы.
А может, хуже. Может, увидел бы. Увидел бы женщину, истошно кричащую, и рядом с ней...
Ужас!
Нет, легче было лежать. Легче было сделать вид, что тебя нет, что ты не слышишь, легче было переждать.
Мама встала, закрыла дверь на балкон. Это чтобы криков не было слышно. А их все равно слышно, чёрт бы их побрал, через твоё открытое окно.
Ты заставил себя встать, закрыл окно, не опуская взгляда в черноту внизу, где кричала женщина.
Лежал, накрывал голову одеялом, зажимал уши. Глухо, неразборчиво слышно было голос через закрытое окно. Не знал бы ты, что за слова она кричала, может и не разобрал бы.
"Помогите!"
Ужас!
Ужас – это всё-таки вещь! Такая вещь, которую мозг всё время пытается забыть. Он у нас такой, склонный избавляться от того, что ему не нравится.
А в другой раз Она тебе написала о том, как жить не хочется. Боже мой, как же можно такую жизнь жить – тошную, скучную, унылую...
"Я уже бритву сломала, чтобы лезвие достать".
У тебя комом в горле встала тошнота, а внутри свернулась глухая, вязкая пустота.
Гадкая маршрутка везла почти час – бесконечно долго, за это время можно хоть двадцать бритв сломать, двадцать лезвий достать...
Двадцать лезвий. Раз, два, три... лезвия... Двадцать штук.
Ты приехал, а Она тебя встретила: такая странная, спокойная, будто бы все у неё хорошо.
Тыкала тебе в лицо своими белыми запястьями с синими нитями вен.
Улыбалась так нелепо и неловко. У тебя в голове загремело: "Убери от меня свои грязные запястья!" – и зазвенела пощечина.
– Ну тебя, – приглушенно ответил ты и отпихнул ее руку.
– Ты чего?
Она не то имела в виду, не то, что ты подумал. Хорошо, что ты промолчал. Молчи, сволочь, молчи и дальше... Хорошо, что держишь язык при себе.Бритва лежала у кухонной раковины, в упаковке из-под мороженого. В красном блестящем фантике металлическая смерть –
переливалась...
Ужас!
Бритва дешевая, сломана пополам. Так лезвие не достанешь, конечно, его оттуда не выковыряешь. Но Она попыталась, Она уже что-то сделала, Она уже взяла в руки бритву и сломала ее.
Что было у Неё в голове? В каком состоянии Она находилась, когда делала это? В каком состоянии сознания?
Ты сунул бритву себе в карман. Она неловко засмеялась, попросила отдать её, чтобы выкинуть, но ты отказался.
На остановке ты бросил отломанную ручку на асфальт и бил её ногой до тех пор, пока осколки не смешались с пылью. Чудесная майская пыль на асфальте, и солнце в синем небе.
Затем была верхняя часть бритвы. По ней ты бил даже с большим остервенением, потому что из неё на тебя глядела смерть, металлически переливающиеся в лучах закатного майского солнца. Ты её достал, она была маленькая и гибкая. Погнулась в руках без каких-либо усилий.
- Порежешься!
И порвалась. Так и порвалась, сволочь, легко...
Ужас! Ужас у тебя в груди превратился в холодную вязкую жижу. Возвращаясь домой, ты чувствовал, как отяжелели веки. Кровать была твердая, неудобная, но теплая. Ты заснул в страхе, что твой сон будет полон изрезанных запястий, лопнувших нитей вен, мокрого багрянца и металлического блеска.
А ночью тебе приснился искрящийся сон: белое солнечное пятно в синем небе и чудесная майская пыль на асфальте.
Эгоист.
Кайсарова Александра. Тело
7:15. Сон о том, чего уже не выразить человеческим языком прервал будильник. Убить ненависть к этому способу заставить себя включить утром и без того вечно пульсирующее сознание невозможно. Потолок в клеточку. Пустые синие стены. Стас закрыл глаза на секунду и переместился во времени. 7:30. Снова эта противная мелодия. Пришлось встать.
Движение людей по улице в час-пик повторяет бег снежных хлопьев по воздуху. Каждый порыв ветра срывает закапустившихся незнакомцев с места на место и заставляет ускорить шаг. Если бы среди них оказался индивид с обсессивно-компульсивным расстройством, то шаги он считал бы примерно как мелочь: сначала «два, четыре, шесть, восемь…», и уже спустя порыв ветра – «десять, двадцать, тридцать…»
В классе, как кажется, стало немного теплее, чем было вчера (или все уже привыкли). Тем не менее, с каждого занятого стула неуклюже свисал свитер – на случай если какая-нибудь абстрактная Марина Георгиевна посчитает помещение до безумия душным и заставит открыть форточку. При виде всей этой галереи, обосновавшейся на деревянных спинках, Стас решил не вывешивать свою темно-зеленую крупной вязки оболочку. По звонку скрипнула дверь, ровно посередине которой красовалось сквозное отверстие в форме звезды (тайну его появления унесли за собой в институты прошлые хозяева кабинета – выпуск 2014 года). В классе показалась призрачно уверенная в себе учительница химии в оранжевой жилетке:
– Так, Стас, доставай свою презентацию и будем переделывать. Работа уровня начальной школы, а про дизайн вообще молчу. Защита через неделю, а ты тыквы пинаешь. Скажи, это мне надо или тебе? – она отвлеклась на телефон – выбирала фотографию для очередного поста про участие в химическом диктанте.
Стас молча встал из-за стола и подошел к компьютеру. Через минуту на экране появилась неловкая презентация с надписью «Минеральные удобрения».
– Скажи, кто так делает титульный слайд? Кто проект писал? Кто руководитель? Под темой справа должно быть авторство. Пиши, кто выполнил. Дальше. Руководитель – учитель химии Абстрактная эМ Гэ, – она выходила из себя. Если бы люди могли слышать низкочастотные звуки, то весь класс заметил бы, что от учительницы издается свист кипящего чайника, – И зачем ты так укутался? Сними уже этот свитер поганый, надоело на него смотреть. Замерз?
Стены переглядывались и тихо хихикали, одноклассники радовались несостоявшемуся уроку. Свитер подступал к горлу, сужался, как комната страха для клаустрофобов. Стасу не хватало места внутри, ему хотелось опереться о зеленые стенки, вылезти и вдохнуть свежий февральский воздух.
После уроков, наконец, удалось отдышаться. Солнце длинными холодными лучами царапало глаза. Стас вяло передвигал ноги по грязному снегу, который ревниво затягивал подошвы его ботинок. Воздух мягко обволакивал и шептал обещания о переменах и тепле. От его неприторной сладости глаза Стаса тяжелели, и, как только он переступил порог комнаты, они провалились в хлопковую пропасть.
Стасу снился город, неузнаваемо знакомый. Обтесанные углы домов, продуктовые магазины, парковки для машин, наспех собранные и потому кое-где покосившиеся тротуары – всё это он видел каждый день по пути в некрасивое здание из красного кирпича, именуемого школой. С удивительной легкостью распахнув большую железную дверь, которую не без усилий открывал даже учитель физкультуры, Стас вошел в пыльный холл. На стене, там, где висела доска почета с фотографиями отличников, появились теперь портреты взрослых женщин и мужчин с одинаковым холодным взглядом и надпись «Работники месяца». В безличных чертах всех этих людей было что-то пугающе знакомое, хоть Стасу и показалось, что он видит их впервые. Откуда-то справа, из кабинета с опечатанной дверью вышла учительница в оранжевой жилетке и в ярости набросилась заворачивать Стаса в темно-зеленую блестящую фольгу. Лишь где-то в крохотном блике её зрачка можно было разглядеть подобие чувства. Страх, как обычно бывает во снах, парализовал тело Стаса. Скрипучее навязчивое шуршание оглушало его, перепонки в ушах от боли то ли костенели, то ли наоборот – растворялись как сахарная вата.
Стас очнулся на своей кровати в темноте, которую нарушал прожектор неприятно-белого фонарного света, проникающего в комнату сквозь щель между шторами. Ветер за окнами выл свои песни, бесцеремонно и не задумываясь, попал ли в ноту общего дыхания. А Стас старался дышать с ним унисон. В детстве, когда было особенно темно, Стас засыпал у матери на груди и невольно прислушивался к её ритму, старался вместе с ней успевать вдохнуть и продержаться до самого её выдоха. Казалось, именно этот подвиг его маленьких легких защищает спокойствие от нападения темных рыцарей.
Впервые за эти несколько лет Стас решил отпереть ту комнату в конце коридора. Стаса ливнем окатили воспоминания. По подоконникам стучали обрывки прошлого, беспорядочно и больно. С того времени здесь ничего не изменилось, только шторы больше никогда не открывались и лучи солнца (и даже фонарей) теперь обходят эту комнату стороной, будто боятся призраков. Заходя, Стас почувствовал, как что-то снаружи его тела звонко треснуло: свитер зацепился за крючок на двери и получил ранение в виде дыры. «Черт, что это, если не знаки Вселенной?» - подумал Стас, с досадой осматривая старую зеленую оболочку. Он открыл шкаф и наткнулся взглядом на те самые полоски разных оттенков фиолетового, так крепко привязанные к памяти. Любимый мамин свитер. Стас, не контролируя мысли, натянул его на себя. Внутри было просторно, легко, и сердце пылало так, как пылало сердце Данко. Но Стас боялся огня. Он быстро потушил костер и выбежал из комнаты, оставив оба свитера, как оставляют дома, спасаясь от пожара.
На следующий день Стас купил новый свитер – широкий, в черно-красную полоску. Он надевал его и смотрелся в зеркало, но не своими глазами, а взглядом со стороны. Крутился, вглядывался и не находил в новой обертке ни одного изъяна - так умело он переключал свое внимание от паразитирующего сомнения. Цинком отдавала каждая попытка сердца забиться – некуда было.
«Здесь душно. Надо пройтись», - Стас вышел на сырую улицу и побрел, куда глаза не глядят. Весна отбирала у зимы законное время. Снежные пляжи таяли, и занавесом после антракта открывалась взглядам робкая некрасивая земля. Стас шагал по сохранившимся ледяным островкам, иногда разбивал ботинками отражение в неглубоких лужах. Нити воздуха насквозь пронизывали пальцы-перья. Вдохнуть бы полной грудью, взлететь, сделать несколько кругов над городом и отправиться за край горизонта. Стас не заметил под ногами небольшой асфальтовый выступ и споткнулся. Послышался глухой грохот падающего тела, нелепо укатившегося в небольшой овраг. Оно поднялось и огляделось. Не заметив самого главного, оно взобралось обратно на холм и побрело в обратную сторону, по всей видимости, домой. Стас остался в этой оркестровой яме. Иногда он слышал отрывки чьих-то голосов, (и даже, кажется, свой) и, совсем не попадая в ноты, облегченно вздыхал.
Спустя неделю прошла научная конференция. Стас, точнее, то, что от него осталось, занял первое место и получил несколько баллов к поступлению в аграрный институт и пятерку по химии от Абстрактной Марины Георгиевны.
7:15. Сон о том, чего уже не выразить человеческим языком прервал будильник. Убить ненависть к этому способу заставить себя включить утром и без того вечно пульсирующее сознание невозможно. Потолок в клеточку. Пустые синие стены. Стас закрыл глаза на секунду и переместился во времени. 7:30. Снова эта противная мелодия. Пришлось встать.
Движение людей по улице в час-пик повторяет бег снежных хлопьев по воздуху. Каждый порыв ветра срывает закапустившихся незнакомцев с места на место и заставляет ускорить шаг. Если бы среди них оказался индивид с обсессивно-компульсивным расстройством, то шаги он считал бы примерно как мелочь: сначала «два, четыре, шесть, восемь…», и уже спустя порыв ветра – «десять, двадцать, тридцать…»
В классе, как кажется, стало немного теплее, чем было вчера (или все уже привыкли). Тем не менее, с каждого занятого стула неуклюже свисал свитер – на случай если какая-нибудь абстрактная Марина Георгиевна посчитает помещение до безумия душным и заставит открыть форточку. При виде всей этой галереи, обосновавшейся на деревянных спинках, Стас решил не вывешивать свою темно-зеленую крупной вязки оболочку. По звонку скрипнула дверь, ровно посередине которой красовалось сквозное отверстие в форме звезды (тайну его появления унесли за собой в институты прошлые хозяева кабинета – выпуск 2014 года). В классе показалась призрачно уверенная в себе учительница химии в оранжевой жилетке:
– Так, Стас, доставай свою презентацию и будем переделывать. Работа уровня начальной школы, а про дизайн вообще молчу. Защита через неделю, а ты тыквы пинаешь. Скажи, это мне надо или тебе? – она отвлеклась на телефон – выбирала фотографию для очередного поста про участие в химическом диктанте.
Стас молча встал из-за стола и подошел к компьютеру. Через минуту на экране появилась неловкая презентация с надписью «Минеральные удобрения».
– Скажи, кто так делает титульный слайд? Кто проект писал? Кто руководитель? Под темой справа должно быть авторство. Пиши, кто выполнил. Дальше. Руководитель – учитель химии Абстрактная эМ Гэ, – она выходила из себя. Если бы люди могли слышать низкочастотные звуки, то весь класс заметил бы, что от учительницы издается свист кипящего чайника, – И зачем ты так укутался? Сними уже этот свитер поганый, надоело на него смотреть. Замерз?
Стены переглядывались и тихо хихикали, одноклассники радовались несостоявшемуся уроку. Свитер подступал к горлу, сужался, как комната страха для клаустрофобов. Стасу не хватало места внутри, ему хотелось опереться о зеленые стенки, вылезти и вдохнуть свежий февральский воздух.
После уроков, наконец, удалось отдышаться. Солнце длинными холодными лучами царапало глаза. Стас вяло передвигал ноги по грязному снегу, который ревниво затягивал подошвы его ботинок. Воздух мягко обволакивал и шептал обещания о переменах и тепле. От его неприторной сладости глаза Стаса тяжелели, и, как только он переступил порог комнаты, они провалились в хлопковую пропасть.
Стасу снился город, неузнаваемо знакомый. Обтесанные углы домов, продуктовые магазины, парковки для машин, наспех собранные и потому кое-где покосившиеся тротуары – всё это он видел каждый день по пути в некрасивое здание из красного кирпича, именуемого школой. С удивительной легкостью распахнув большую железную дверь, которую не без усилий открывал даже учитель физкультуры, Стас вошел в пыльный холл. На стене, там, где висела доска почета с фотографиями отличников, появились теперь портреты взрослых женщин и мужчин с одинаковым холодным взглядом и надпись «Работники месяца». В безличных чертах всех этих людей было что-то пугающе знакомое, хоть Стасу и показалось, что он видит их впервые. Откуда-то справа, из кабинета с опечатанной дверью вышла учительница в оранжевой жилетке и в ярости набросилась заворачивать Стаса в темно-зеленую блестящую фольгу. Лишь где-то в крохотном блике её зрачка можно было разглядеть подобие чувства. Страх, как обычно бывает во снах, парализовал тело Стаса. Скрипучее навязчивое шуршание оглушало его, перепонки в ушах от боли то ли костенели, то ли наоборот – растворялись как сахарная вата.
Стас очнулся на своей кровати в темноте, которую нарушал прожектор неприятно-белого фонарного света, проникающего в комнату сквозь щель между шторами. Ветер за окнами выл свои песни, бесцеремонно и не задумываясь, попал ли в ноту общего дыхания. А Стас старался дышать с ним унисон. В детстве, когда было особенно темно, Стас засыпал у матери на груди и невольно прислушивался к её ритму, старался вместе с ней успевать вдохнуть и продержаться до самого её выдоха. Казалось, именно этот подвиг его маленьких легких защищает спокойствие от нападения темных рыцарей.
Впервые за эти несколько лет Стас решил отпереть ту комнату в конце коридора. Стаса ливнем окатили воспоминания. По подоконникам стучали обрывки прошлого, беспорядочно и больно. С того времени здесь ничего не изменилось, только шторы больше никогда не открывались и лучи солнца (и даже фонарей) теперь обходят эту комнату стороной, будто боятся призраков. Заходя, Стас почувствовал, как что-то снаружи его тела звонко треснуло: свитер зацепился за крючок на двери и получил ранение в виде дыры. «Черт, что это, если не знаки Вселенной?» - подумал Стас, с досадой осматривая старую зеленую оболочку. Он открыл шкаф и наткнулся взглядом на те самые полоски разных оттенков фиолетового, так крепко привязанные к памяти. Любимый мамин свитер. Стас, не контролируя мысли, натянул его на себя. Внутри было просторно, легко, и сердце пылало так, как пылало сердце Данко. Но Стас боялся огня. Он быстро потушил костер и выбежал из комнаты, оставив оба свитера, как оставляют дома, спасаясь от пожара.
На следующий день Стас купил новый свитер – широкий, в черно-красную полоску. Он надевал его и смотрелся в зеркало, но не своими глазами, а взглядом со стороны. Крутился, вглядывался и не находил в новой обертке ни одного изъяна - так умело он переключал свое внимание от паразитирующего сомнения. Цинком отдавала каждая попытка сердца забиться – некуда было.
«Здесь душно. Надо пройтись», - Стас вышел на сырую улицу и побрел, куда глаза не глядят. Весна отбирала у зимы законное время. Снежные пляжи таяли, и занавесом после антракта открывалась взглядам робкая некрасивая земля. Стас шагал по сохранившимся ледяным островкам, иногда разбивал ботинками отражение в неглубоких лужах. Нити воздуха насквозь пронизывали пальцы-перья. Вдохнуть бы полной грудью, взлететь, сделать несколько кругов над городом и отправиться за край горизонта. Стас не заметил под ногами небольшой асфальтовый выступ и споткнулся. Послышался глухой грохот падающего тела, нелепо укатившегося в небольшой овраг. Оно поднялось и огляделось. Не заметив самого главного, оно взобралось обратно на холм и побрело в обратную сторону, по всей видимости, домой. Стас остался в этой оркестровой яме. Иногда он слышал отрывки чьих-то голосов, (и даже, кажется, свой) и, совсем не попадая в ноты, облегченно вздыхал.
Спустя неделю прошла научная конференция. Стас, точнее, то, что от него осталось, занял первое место и получил несколько баллов к поступлению в аграрный институт и пятерку по химии от Абстрактной Марины Георгиевны.
Килейникова Анастасия. Паузы
«Вся жизнь - это время между двумя соседними паузами. Они во всем. Ты делаешь шаг, отрываешь босую ногу от холодной, чужой земли и чувствуешь, как озлобленный ветер кусает еще недавно принадлежавшую ребенку пятку. Пауза. Глубокий вдох очередной порции внешнего равнодушия, секунда на инверсию и выдох частицами добра, собранными со всех уголков отвердевающей души. Пауза. Почти заброшенная станция на одном из маршрутов пригородных поездов, где раз в десяток лет две пары глаз встречаются после долгой разлуки. Молчание. Пауза. Ее не может не быть, ибо даже сердце бьется с остановкой: сокращение, пауза, сокращение. Порой оно производит удар два раза подряд, без перерыва. Потом наступает тишина, которая однажды затянется навсегда: любой момент, любой человек. А пока все, что остается: сокращение, пауза, сокращение.»
Парень, на вид лет 25, сидел в самом углу старенького, повидавшего ни одну историю жизни вагона. В его дрожащих от усталости и привычки все чувства держать внутри руках лежала книга, в главном герое которой молодой человек узнавал себя. «Вся жизнь - это время между двумя соседними паузами.» - идеальное описание его личной философии. Обычно смотрящие в сторону одной конкретной цели глаза, не найдя альтернативы, сквозь окно наблюдали за чередой бесконечно тянущихся проводов. Молодой человек выглядел уже потерянным, но еще не пустым – такое пограничное состояние, когда ты уже не знаешь, зачем, но пока еще помнишь, кто ты. Одно он знал точно: на станции у него будет ровно 30 секунд. Достаточно для того, чтобы выпрыгнуть до момента, когда загорится табло «выхода нет», и невероятно мало, чтоб осмелиться сделать то, на что не решался годами. Так нелепо было возвращаться в это место из-под удобного купола мегаполиса, в котором все находилось в понятном непрерывном движении; так неуютно вспоминать о существовании терзаний и мыслей, мешающих четко работающей системе существования. Здесь было нечто, похожее на жизнь, и именно это и пугало его. Однако он был обязан вернуться. Как минимум потому, что здесь его ждал ответ на вопрос десятилетней давности.
В жизни каждого человека есть вещи, которые просто не могут не случиться. Еще вчера этот юноша, затянутый в пучину стремительно сменяющихся красок и сцен, совершал каждодневные, по сути бессмысленные ритуалы. Работа, час самообразования, необходимое для поддержания социальной жизни общение с коллегами, еженедельная уборка помещения, состоящего из двух комнат и называющегося домом. Ошибочно совершенный телефонный звонок, от неожиданности выпавшая из рук потрепанная книга, и вот этот молодой человек едет в место, раньше носившее имя родины. Пожелтевший клочок бумажки, исписанный корявым детским почерком, вдруг перевернул все, нагло отнял спокойствие и вернул что-то утерянное множество лет назад. «На том же месте через десять лет» и небольшая звездочка. «Интересно, когда она успела это написать? И, конечно, она же всегда рисовала звездочки», - подумал юноша, взглянув на календарь. Оставались сутки, которые уже были четко распланированы, однако он отправился на вокзал, ни на секунду не задумываясь. На этот раз не от того, что привык бежать, а от того, что не мог иначе. Он должен приехать. Он должен узнать. Ничего не казалось глупым: ни пропуск работы, ни отсутствие гарантий, что его кто-то ждет. Вдруг он снова почувствовал себя свободным, живым, соприкасающимся с чем-то прекрасным.
Теперь же юноша ехал в поезде с необъяснимым ощущением тревоги. «Зачем я здесь? Имеет ли значение обещание, данное десять лет назад? Тем более такое смешное и неуместное…». Он подумал о том, что порой случаются разговоры, которые остаются с человеком всю его жизнь, которые невозможно забыть.
Где-то в двух километрах от железной дороги стояла деревушка. Одна из тысяч, но при этом особенная: имеющая свою историю, боль и сердце, она непременно показалась бы каждому родной и близкой. Есть такая особенность у русских деревень: независимо от места их нахождения и уровня знакомства человека с ними, они могут стать для него домом, настоящим, который нельзя приобрести ни за какие богатства, лишь за способность пустить в себя мир. Деревушка, ставшая матерью для каждого сиротки, наставником для каждого заблудшего, хорошим слушателем для всех, который скажет только одну, но самую точную мысль. Именно в такой деревушке и вырос юноша.
Был теплый августовский вечер, по своему содержанию похожий на последние страницы любимой книги. Читаешь их с особым наслаждением, растягиваешь чувства, углубляешься в смыслы, зная, что история вот-вот подойдет к концу. В тот раз дочитанную книгу было необходимо подарить младшему брату и никогда больше не возвращаться к ней, ибо путь жизни нельзя пройти дважды. Парень и девушка последний раз сидели на шаткой деревянной пристани у реки, и, кажется, уходящее солнце забирало с собой оставшиеся крупицы их детства.
- Ты знаешь в чем смысл, друг мой? – как всегда звонким, немного взволнованным голосом спросила девушка. Ее глаза улыбались так, словно она затевала какую-то игру. – Ты когда-нибудь задумывался, где же живет та правда, которую веками ищет человек? – она остановилась, - сейчас скажешь, что это излишне, но а по-моему, это важно. И не спорь! – девушка нахмурила свое еще не до конца взрослое лицо и рассмеялась.
- Я и не спорю, просто ты немного непрактична: кому какое дело до твоей правды? Мир стремительно меняется, меньше рассуждений, больше действий. Наша задача – грамотно распланировать будущее, приложить максимум усилий и уехать из этого пустого места.
На последней фразе наигранная хмурость на лице девушки сменилась серьезностью и обеспокоенностью.
- Я тебя не понимаю и не пойму никогда. И не хочу возражать, просто расскажу тебе одну истину, которую мне подарил этот мир. Да, непременно расскажу. Но только через 10 лет.
Она внимательно посмотрела на парня, словно искала в нем ответ на давно волнующий ее вопрос. Через несколько минут будто бы что-то поняла, кивнула и устремилась в сторону домов. Пауза. Ожидание. Он стоял в недоумении, думая, что она вернется, что это лишь очередная выдумка или бессмысленная обида от чрезмерной эмоциональности. Привыкший к движению, парень впервые оставался на месте. Пауза затянулась на 10 лет.
Выпрыгивая из вагона, молодой человек закрыл глаза; однако он знал, что с миром никогда не получается играть в прятки: непременно приходится вылезти из своей норки. На станции его никто не ждал. Было холодно и пусто. «Что страшнее: внешняя пустота или внутренняя? И может ли существовать одна без другой?» - подумал юноша и отправился по единственному возможному пути. «На том же месте через 10 лет. Пристань».
Пусто. То же деревянное сооружение, та же река. Только небо другое: чужое, серое, злое. И он, тоже, какой-то чужой. В мыслях замелькали воспоминания, окрасив разум теплыми цветами, давно вычеркнутыми из привычной палитры. Цвет соприкосновения с чудесами жизни и открытости души. Цвет честности и глубины восприятия. Свободы, заключающейся в моменте. Куда все это исчезло? Или он сам убил в себе способность чувствовать?
Прошло несколько часов, молодой человек не выдержал и отправился к домам. «Где же она? Неужели все это – очередная глупая забава, забытая ею с годами, что было бы вполне логично?» Он не хотел признавать это, ведь сколько бы он ни критиковал чудоковатость и неуместную чистоту сердца своей подруги, именно она и заставляла его верить в жизнь. У каждого существуют свои люди-константы, те, кому можно сказать «спасибо» просто за то, что они есть, люди, в глазах которых оправдан весь остальной, не всегда понятный мир. И необъяснимо страшно в один день не суметь их отыскать.
- Она умерла год назад. Несчастный случай, - ответ прохожего на ранее заданный юношей вопрос звучал неестественно жестоко, – получила образование и вернулась сюда, работала в школе. Забавная девчушка была. Говорила, что не может оставить это место, что в нем есть какая-то истина. Кто ж ее теперь знает, какая?..
Дальше слушать не хотелось. И зачем он только поехал сюда? Чтобы впервые за 10 лет почувствовать что-то настоящее, громкое и бьющееся в стенки души? Он привык к стремлениям и динамичности, совершено отвыкнув быть человеком. Его счастье заключалось в желании убежать, мотивация – в страхе узнать и понять что-то действительно стоящее. Было бы правильнее остаться в городе. Пауза. Он иначе не мог. И не хотел. Даже теперь.
И вдруг он понял ее мысль. Наверное, если бы она была жива, при этой встрече не проронила бы ни слова, просто бы показала мир вокруг. Нечто, неподвластное речи, состоящее из понятий «миг», «человечность», «понимание», «дом». Некогда казавшееся ему пустым место и стало хранилищем той важной истины. Жаль, что пришлось принять ее лишь теперь.
Пауза. Истина была в паузе. В чувстве. В способности человека передавать другому смыслы, независимо от обстоятельств. В возможности спустя 10 лет вернуться в определенное место и вспомнить, что у тебя есть дом. В том, что все люди связаны, как бесконечные линии электропередач. В той правде, которую человек копит и проносит через всю жизнь. В хрупких и едва заметных тонкостях души, которые надо научиться не ломать, а только лишь подкреплять стойким разумом.
Молодой человек вырвал последний чистый листок из книги и записал:
«Вся жизнь - это время, данное нам паузами. Они во всем. Ты делаешь шаг, отрываешь босую ногу от холодной, чужой земли. Пауза. И четкое понимание, где тебе отыскать тепло. Глубокий вдох очередной порции внешнего равнодушия. Пауза. Секунда на выбор. И ты без сомнений выдыхаешь добро. Почти заброшенная станция на одном из маршрутов пригородных поездов, где раз в десяток лет рождается человеческая душа. Пауза. Тебе необходимо уехать, но теперь есть, что взять отсюда, и с чем вернуться назад…».
И, вместо точки нарисовав звездочку, юноша положил листок на край пристани. Глаза отражения смотрели на него внимательно, словно искали ответ на давно волнующий вопрос.
- На том же месте через 10 лет, друг!
И, улыбнувшись, молодой человек отправился в путь.
«Вся жизнь - это время между двумя соседними паузами. Они во всем. Ты делаешь шаг, отрываешь босую ногу от холодной, чужой земли и чувствуешь, как озлобленный ветер кусает еще недавно принадлежавшую ребенку пятку. Пауза. Глубокий вдох очередной порции внешнего равнодушия, секунда на инверсию и выдох частицами добра, собранными со всех уголков отвердевающей души. Пауза. Почти заброшенная станция на одном из маршрутов пригородных поездов, где раз в десяток лет две пары глаз встречаются после долгой разлуки. Молчание. Пауза. Ее не может не быть, ибо даже сердце бьется с остановкой: сокращение, пауза, сокращение. Порой оно производит удар два раза подряд, без перерыва. Потом наступает тишина, которая однажды затянется навсегда: любой момент, любой человек. А пока все, что остается: сокращение, пауза, сокращение.»
Парень, на вид лет 25, сидел в самом углу старенького, повидавшего ни одну историю жизни вагона. В его дрожащих от усталости и привычки все чувства держать внутри руках лежала книга, в главном герое которой молодой человек узнавал себя. «Вся жизнь - это время между двумя соседними паузами.» - идеальное описание его личной философии. Обычно смотрящие в сторону одной конкретной цели глаза, не найдя альтернативы, сквозь окно наблюдали за чередой бесконечно тянущихся проводов. Молодой человек выглядел уже потерянным, но еще не пустым – такое пограничное состояние, когда ты уже не знаешь, зачем, но пока еще помнишь, кто ты. Одно он знал точно: на станции у него будет ровно 30 секунд. Достаточно для того, чтобы выпрыгнуть до момента, когда загорится табло «выхода нет», и невероятно мало, чтоб осмелиться сделать то, на что не решался годами. Так нелепо было возвращаться в это место из-под удобного купола мегаполиса, в котором все находилось в понятном непрерывном движении; так неуютно вспоминать о существовании терзаний и мыслей, мешающих четко работающей системе существования. Здесь было нечто, похожее на жизнь, и именно это и пугало его. Однако он был обязан вернуться. Как минимум потому, что здесь его ждал ответ на вопрос десятилетней давности.
В жизни каждого человека есть вещи, которые просто не могут не случиться. Еще вчера этот юноша, затянутый в пучину стремительно сменяющихся красок и сцен, совершал каждодневные, по сути бессмысленные ритуалы. Работа, час самообразования, необходимое для поддержания социальной жизни общение с коллегами, еженедельная уборка помещения, состоящего из двух комнат и называющегося домом. Ошибочно совершенный телефонный звонок, от неожиданности выпавшая из рук потрепанная книга, и вот этот молодой человек едет в место, раньше носившее имя родины. Пожелтевший клочок бумажки, исписанный корявым детским почерком, вдруг перевернул все, нагло отнял спокойствие и вернул что-то утерянное множество лет назад. «На том же месте через десять лет» и небольшая звездочка. «Интересно, когда она успела это написать? И, конечно, она же всегда рисовала звездочки», - подумал юноша, взглянув на календарь. Оставались сутки, которые уже были четко распланированы, однако он отправился на вокзал, ни на секунду не задумываясь. На этот раз не от того, что привык бежать, а от того, что не мог иначе. Он должен приехать. Он должен узнать. Ничего не казалось глупым: ни пропуск работы, ни отсутствие гарантий, что его кто-то ждет. Вдруг он снова почувствовал себя свободным, живым, соприкасающимся с чем-то прекрасным.
Теперь же юноша ехал в поезде с необъяснимым ощущением тревоги. «Зачем я здесь? Имеет ли значение обещание, данное десять лет назад? Тем более такое смешное и неуместное…». Он подумал о том, что порой случаются разговоры, которые остаются с человеком всю его жизнь, которые невозможно забыть.
Где-то в двух километрах от железной дороги стояла деревушка. Одна из тысяч, но при этом особенная: имеющая свою историю, боль и сердце, она непременно показалась бы каждому родной и близкой. Есть такая особенность у русских деревень: независимо от места их нахождения и уровня знакомства человека с ними, они могут стать для него домом, настоящим, который нельзя приобрести ни за какие богатства, лишь за способность пустить в себя мир. Деревушка, ставшая матерью для каждого сиротки, наставником для каждого заблудшего, хорошим слушателем для всех, который скажет только одну, но самую точную мысль. Именно в такой деревушке и вырос юноша.
Был теплый августовский вечер, по своему содержанию похожий на последние страницы любимой книги. Читаешь их с особым наслаждением, растягиваешь чувства, углубляешься в смыслы, зная, что история вот-вот подойдет к концу. В тот раз дочитанную книгу было необходимо подарить младшему брату и никогда больше не возвращаться к ней, ибо путь жизни нельзя пройти дважды. Парень и девушка последний раз сидели на шаткой деревянной пристани у реки, и, кажется, уходящее солнце забирало с собой оставшиеся крупицы их детства.
- Ты знаешь в чем смысл, друг мой? – как всегда звонким, немного взволнованным голосом спросила девушка. Ее глаза улыбались так, словно она затевала какую-то игру. – Ты когда-нибудь задумывался, где же живет та правда, которую веками ищет человек? – она остановилась, - сейчас скажешь, что это излишне, но а по-моему, это важно. И не спорь! – девушка нахмурила свое еще не до конца взрослое лицо и рассмеялась.
- Я и не спорю, просто ты немного непрактична: кому какое дело до твоей правды? Мир стремительно меняется, меньше рассуждений, больше действий. Наша задача – грамотно распланировать будущее, приложить максимум усилий и уехать из этого пустого места.
На последней фразе наигранная хмурость на лице девушки сменилась серьезностью и обеспокоенностью.
- Я тебя не понимаю и не пойму никогда. И не хочу возражать, просто расскажу тебе одну истину, которую мне подарил этот мир. Да, непременно расскажу. Но только через 10 лет.
Она внимательно посмотрела на парня, словно искала в нем ответ на давно волнующий ее вопрос. Через несколько минут будто бы что-то поняла, кивнула и устремилась в сторону домов. Пауза. Ожидание. Он стоял в недоумении, думая, что она вернется, что это лишь очередная выдумка или бессмысленная обида от чрезмерной эмоциональности. Привыкший к движению, парень впервые оставался на месте. Пауза затянулась на 10 лет.
Выпрыгивая из вагона, молодой человек закрыл глаза; однако он знал, что с миром никогда не получается играть в прятки: непременно приходится вылезти из своей норки. На станции его никто не ждал. Было холодно и пусто. «Что страшнее: внешняя пустота или внутренняя? И может ли существовать одна без другой?» - подумал юноша и отправился по единственному возможному пути. «На том же месте через 10 лет. Пристань».
Пусто. То же деревянное сооружение, та же река. Только небо другое: чужое, серое, злое. И он, тоже, какой-то чужой. В мыслях замелькали воспоминания, окрасив разум теплыми цветами, давно вычеркнутыми из привычной палитры. Цвет соприкосновения с чудесами жизни и открытости души. Цвет честности и глубины восприятия. Свободы, заключающейся в моменте. Куда все это исчезло? Или он сам убил в себе способность чувствовать?
Прошло несколько часов, молодой человек не выдержал и отправился к домам. «Где же она? Неужели все это – очередная глупая забава, забытая ею с годами, что было бы вполне логично?» Он не хотел признавать это, ведь сколько бы он ни критиковал чудоковатость и неуместную чистоту сердца своей подруги, именно она и заставляла его верить в жизнь. У каждого существуют свои люди-константы, те, кому можно сказать «спасибо» просто за то, что они есть, люди, в глазах которых оправдан весь остальной, не всегда понятный мир. И необъяснимо страшно в один день не суметь их отыскать.
- Она умерла год назад. Несчастный случай, - ответ прохожего на ранее заданный юношей вопрос звучал неестественно жестоко, – получила образование и вернулась сюда, работала в школе. Забавная девчушка была. Говорила, что не может оставить это место, что в нем есть какая-то истина. Кто ж ее теперь знает, какая?..
Дальше слушать не хотелось. И зачем он только поехал сюда? Чтобы впервые за 10 лет почувствовать что-то настоящее, громкое и бьющееся в стенки души? Он привык к стремлениям и динамичности, совершено отвыкнув быть человеком. Его счастье заключалось в желании убежать, мотивация – в страхе узнать и понять что-то действительно стоящее. Было бы правильнее остаться в городе. Пауза. Он иначе не мог. И не хотел. Даже теперь.
И вдруг он понял ее мысль. Наверное, если бы она была жива, при этой встрече не проронила бы ни слова, просто бы показала мир вокруг. Нечто, неподвластное речи, состоящее из понятий «миг», «человечность», «понимание», «дом». Некогда казавшееся ему пустым место и стало хранилищем той важной истины. Жаль, что пришлось принять ее лишь теперь.
Пауза. Истина была в паузе. В чувстве. В способности человека передавать другому смыслы, независимо от обстоятельств. В возможности спустя 10 лет вернуться в определенное место и вспомнить, что у тебя есть дом. В том, что все люди связаны, как бесконечные линии электропередач. В той правде, которую человек копит и проносит через всю жизнь. В хрупких и едва заметных тонкостях души, которые надо научиться не ломать, а только лишь подкреплять стойким разумом.
Молодой человек вырвал последний чистый листок из книги и записал:
«Вся жизнь - это время, данное нам паузами. Они во всем. Ты делаешь шаг, отрываешь босую ногу от холодной, чужой земли. Пауза. И четкое понимание, где тебе отыскать тепло. Глубокий вдох очередной порции внешнего равнодушия. Пауза. Секунда на выбор. И ты без сомнений выдыхаешь добро. Почти заброшенная станция на одном из маршрутов пригородных поездов, где раз в десяток лет рождается человеческая душа. Пауза. Тебе необходимо уехать, но теперь есть, что взять отсюда, и с чем вернуться назад…».
И, вместо точки нарисовав звездочку, юноша положил листок на край пристани. Глаза отражения смотрели на него внимательно, словно искали ответ на давно волнующий вопрос.
- На том же месте через 10 лет, друг!
И, улыбнувшись, молодой человек отправился в путь.
Волченков Егор. Не царский урок
Леонтий лежал на диване уже второй час с очень довольной мордой. Нахлынувшие воспоминания не давали ему покоя. Усы его то и дело расползались в стороны от улыбки. Он покачивался и что-то мурлыкал себе под нос от удовольствия. «А еще «царями» представлялись», - ухмылялся Леонтий. Сейчас, спустя какое-то время, он уже смотрел на все с некой иронией, потому что поведение этих самых «царей» выглядело нелепо и смешно. Но тогда все было странно, а иногда даже обидно.
Лео, так звала его ласково мама, вспомнил, как познакомился с ними. До сих пор непонятно, откуда они взялись в городе. Городок, в котором жил Лео, был небольшим, и все жители друг друга знали. А эти ходили важные, смотрели на всех свысока, одни их побаивались, другие завидовали. Леонтию они казались успешными, сильными и властными.
- Они сказали мне, что они львы. Я и сам где-то читал или слышал: лев - это царь зверей. Вот бы мне стать таким, как они, мечтал я тогда. И имя у меня вполне подходящее, – произнес Лео.
- Лео, ты ошибаешься в этих существах. Они не те, за кого себя выдают, - отговаривали друзья и знакомые от общения с этими надменными особами.
Вообще у Лео было много друзей. Он общительный и дружелюбный. Особенно ему нравились собаки. «Это самые лучшие и преданные друзья», -говорил всегда Леонтий.
Давайте уже познакомимся. Леонтий – это рыжий пушистый кот. Очень умный и ответственный. Кот, который всегда стремился сегодня быть лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Он стремился делать любое дело так, чтобы потом не краснеть. Во всем и всегда старался быть первым и мечтал стать лидером. Хотя по характеру он ласковый, добрый и уж слишком доверчивый. Многие, кстати, этим умело пользовались, как говорится, «ездили» на нем. Так вот, этот спокойный, добрый, умный, готовый в любую минуту прийти на помощь кот мечтал стать лучше, чем он есть. Кто-то однажды сказал, что выше головы прыгнуть невозможно, но Лео тогда был другого мнения.
-Давайте дружить, - осмелился однажды кот. И кому предложил? «Царям» зверей! Это был отважный ход с его стороны. «Цари», конечно, поломались немного, пофыркали, какое-то время, ухмыляясь, походили вокруг кота, осмотрели его, обнюхали с ног до головы, надменно похихикали. Но потом общим собранием вынесли вердикт: «Годен!». Но с одним условием. Ну как же без подвоха?
-Ты должен постричься так же, как это сделали мы! - объявила одна важная львица.
-Зачем? Я никогда не стригся, - удивился Лео.
-Это обязательно и не обсуждается. Ты должен оставить шерсть на голове, а остальное сбрить наголо. Ну разве что на кончике хвоста можешь оставить кисточку, - уверенно добавила львиная особа.
Как потом выяснилось, она у них там самая главная. Затем она вильнула хвостом, как бы скомандовав, чтобы все шли за ней. И стадо «царей» поплелось следом. «Горе царству, в коем правит женщина», - подумал Лео. Поскольку он был умный и рассудительный кот, то сразу ответа не дал. Всю ночь он листал энциклопедии и ни в одной не нашел информации, чтобы львы стриглись. «Что-то тут не то! Что это за львы такие, которые сами стригутся под одну гребенку, еще и своих друзей заставляют?» - засомневался Лео.
На следующий день Леонтий предстал перед львами, что называется, во всей красе: в отличном настроении и с новой прической. Он и так был невероятно пушистым, шерсть его торчала во все стороны. Но сегодня! Казалось, будто он попал под напряжение. А все потому, что утром намылся шампунем для густоты волос. «Цари» зверей, конечно же, были в недоумении, негодовании, в возмущении.
-Это что такое? – взвилась «главная».
-Это как называется? - подхватили хором остальные.
Разумеется, Лео это сделал не специально и не на зло. Помните? Он же добрый!
-Я решил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не расстанусь со своей шикарной шевелюрой, нравится это кому-то или нет, -спокойно и уверенно произнес Леонтий.
-Ты ослушался, ты не подчинился, как ты мог?! - продолжала визжать главная львица.
-Но я не хочу быть похожим на вас внешне. Я хочу научиться быть увереннее в себе, стать сильнее духом, как львы, про которых я много читал.
Честно говоря, Лео сам не ожидал от себя такого - перечить львам. И кажется, в этот раз у него получилось отстоять свою точку зрения, оказалось, что у него есть сила воли.
-Если ты хочешь быть таким, как мы, ты должен каждый день ловить мышей и отчитываться об этом, - требовали «цари зверей».
-Я не буду ловить мышей. Мое хобби - рыбалка. Я ловлю рыбу не хуже, чем вы мышей. Каждый должен заниматься своим любимым делом, тогда будет обеспечен успех, - убедительно разъяснил Леонтий.
В ответ на неповиновение львы разозлились и приняли очередное свое зверское решение:
- Мы не будем общаться с тобой. Кот нам не ровня. Ты ослушался, и мы должны проучить тебя. Мы объявляем тебе бойкот!
- Бай, Кот! – крикнул один из них, видимо, самый умный (по крайней мере, он сам себя таковым считал). Хотел показать, что знает английский.
Леонтий расстроился, но виду не подал. Он решил, что у него есть знакомые и друзья, которые дорожат дружбой с ним. А львы поступили несправедливо и подло, но жизнь все расставит на свои места, нужно просто подождать. Он уже жалел, что когда-то подошел к этим существам и предложил дружить. «Меня предупреждали, мне говорили, а я не послушал. Они унижают меня, указывают, что мне делать, надсмехаются надо мной. Так друзья не поступают», - сетовал кот.
Все шло своим чередом. Лео стал меньше видеться с «царями зверей», старался держаться от них подальше. И вот неожиданный поворот: пришло приглашение для «царей зверей» на какой-то львиный форум, по какой-то там львиной теме. Но ни один из них не мог ехать, все отказались: кто заболел, кто уехал куда-то, кто не захотел. Решили попросить Леонтия выручить их, быть представителем на этом форуме. А заодно, как бы помириться с котом.
- Мы не держим на тебя зла, ты все сделал правильно. Мы бы тоже так поступили на твоем месте. А ты не хотел бы нас выручить? - так начали свою речь «цари». Лео было неприятно слушать эту лесть, он чувствовал очередной подвох, однако сказал:
-Я с огромным удовольствием поеду. Для меня это радость. Фортуна улыбнулась мне! Участие в форуме - старт в успешное будущее.
Уже через четыре часа Лео был в окружении величественных львов. Они были красивы, выдержанны, деликатны, полны достоинства и благородства. Горделивая осанка, грациозная кошачья поступь. А самое главное, в них не было ни грамма фальши. Что и говорить, наш Лео был просто заворожен. А взгляд! Он был действительно царский. «Я восхищаюсь этими животными! - произнес Лео. - Только совершенно не вижу сходства со львами из нашего городка». И ни один из этих львов не пристал к Лео с вопросами относительно его прически и внешнего вида. Никто не высмеял его и не сделал замечание. Лео чувствовал себя комфортно в этом высшем обществе. Проведя несколько дней в такой прекрасной атмосфере, наш кот, не только узнал много нового, но и познакомился с настоящими породистыми Львами. Лео приобрел опыт общения, узнал благородные манеры поведения. Но теперь Леонтий впал в еще большее сомнение относительно львов своего городка. «Может мне кажется?» - успокаивал он себя.
По возвращении Лео все львы как по мановению волшебной палочки и выздоровели, и вернулись домой. Но никто из них не только не поинтересовался поездкой, а даже не вспомнил ни разу о ней, будто никакого форума не было, или львы о нем просто не знали. Они вообще не обращали на Лео внимания и, как всегда, занимались своими делами: ссорились между собой, выясняя, кто из них главнее, умнее и красивее. Леонтию было неприятно такое отношение к себе, но он не стал возмущаться, поскольку очень устал и хотел выспаться. Не дождавшись ночи, Лео заснул.
Проснулся Лео от шума на улице. Он отчетливо слышал звуки гитары и крики котов со всей округи. Было такое ощущение, что каждому коту наступали на хвост, и все они орали от боли то поочерёдно, то хором. Леонтий вышел на улицу. Картина маслом: вокруг костра сидят львы и горланят под звуки гитары. Оказалось, они готовились к какому-то конкурсу.
- Что вы за львы? Львы должны рычать, а вы вопите, как мартовские коты, - произнес внезапно появившийся Лео. От неожиданности львы в кавычках (будем теперь их так называть) вскочили с мест и покраснели.
- Вы не только орете как коты, но и мурлычете, мяукаете и даже фыркаете, как они. Лжецы! Мне стыдно, что среди нас есть такие, как вы, - произнес Леонтий, повернулся и ушел.
Лео шел домой не спеша. На сердце у него было спокойно, как будто камень с души упал. Он осознал, что это никакие не львы и тем более не цари зверей. Это обыкновенные, заурядные уличные кошки и коты. Они сделали себе стрижку, как у львов, и посчитали, что этого достаточно, чтобы надеть корону. Но не учли главного: характер и поведение их остались прежними. Лео понимал, что не хочет общаться с обманщиками и лицемерами. И уж тем более ни о какой дружбе с ними не может быть и речи. Ему было стыдно и за себя: как мог так ошибиться? Надо было быть слепым, чтобы возвеличивать этих ничтожных самозванцев. В свое оправдание Лео сказал: «Опять из-за моей доброты и хорошего отношения к окружающим. Я больше никогда так не поступлю. Нельзя никого идеализировать, поступаясь своими интересами. Нельзя позволять командовать, управлять собой. Я буду с осторожностью выбирать себе друзей и ценить то, что имею. Эта история оказалась хорошим уроком».
Подойдя к дому, наш рыжий и по-прежнему пушистый кот Леонтий остановился, посмотрел в звездное безоблачное небо, откуда ему игриво подмигнула самая яркая звезда, и с совершенным счастьем и уверенностью произнес: «Мы можем сделать все что угодно и даже больше, нам просто нужно разбудить льва в себе. А дефицит львов –это вовсе не повод ценить шакалов».
P.S. А вы помните, что Леонтий был не просто рыжий пушистый кот. Очень умный и ответственный. Но это был кот, который всегда стремился сегодня быть лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Что бы вы сказали, каким будет наш Лео после всей этой истории?
Леонтий лежал на диване уже второй час с очень довольной мордой. Нахлынувшие воспоминания не давали ему покоя. Усы его то и дело расползались в стороны от улыбки. Он покачивался и что-то мурлыкал себе под нос от удовольствия. «А еще «царями» представлялись», - ухмылялся Леонтий. Сейчас, спустя какое-то время, он уже смотрел на все с некой иронией, потому что поведение этих самых «царей» выглядело нелепо и смешно. Но тогда все было странно, а иногда даже обидно.
Лео, так звала его ласково мама, вспомнил, как познакомился с ними. До сих пор непонятно, откуда они взялись в городе. Городок, в котором жил Лео, был небольшим, и все жители друг друга знали. А эти ходили важные, смотрели на всех свысока, одни их побаивались, другие завидовали. Леонтию они казались успешными, сильными и властными.
- Они сказали мне, что они львы. Я и сам где-то читал или слышал: лев - это царь зверей. Вот бы мне стать таким, как они, мечтал я тогда. И имя у меня вполне подходящее, – произнес Лео.
- Лео, ты ошибаешься в этих существах. Они не те, за кого себя выдают, - отговаривали друзья и знакомые от общения с этими надменными особами.
Вообще у Лео было много друзей. Он общительный и дружелюбный. Особенно ему нравились собаки. «Это самые лучшие и преданные друзья», -говорил всегда Леонтий.
Давайте уже познакомимся. Леонтий – это рыжий пушистый кот. Очень умный и ответственный. Кот, который всегда стремился сегодня быть лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Он стремился делать любое дело так, чтобы потом не краснеть. Во всем и всегда старался быть первым и мечтал стать лидером. Хотя по характеру он ласковый, добрый и уж слишком доверчивый. Многие, кстати, этим умело пользовались, как говорится, «ездили» на нем. Так вот, этот спокойный, добрый, умный, готовый в любую минуту прийти на помощь кот мечтал стать лучше, чем он есть. Кто-то однажды сказал, что выше головы прыгнуть невозможно, но Лео тогда был другого мнения.
-Давайте дружить, - осмелился однажды кот. И кому предложил? «Царям» зверей! Это был отважный ход с его стороны. «Цари», конечно, поломались немного, пофыркали, какое-то время, ухмыляясь, походили вокруг кота, осмотрели его, обнюхали с ног до головы, надменно похихикали. Но потом общим собранием вынесли вердикт: «Годен!». Но с одним условием. Ну как же без подвоха?
-Ты должен постричься так же, как это сделали мы! - объявила одна важная львица.
-Зачем? Я никогда не стригся, - удивился Лео.
-Это обязательно и не обсуждается. Ты должен оставить шерсть на голове, а остальное сбрить наголо. Ну разве что на кончике хвоста можешь оставить кисточку, - уверенно добавила львиная особа.
Как потом выяснилось, она у них там самая главная. Затем она вильнула хвостом, как бы скомандовав, чтобы все шли за ней. И стадо «царей» поплелось следом. «Горе царству, в коем правит женщина», - подумал Лео. Поскольку он был умный и рассудительный кот, то сразу ответа не дал. Всю ночь он листал энциклопедии и ни в одной не нашел информации, чтобы львы стриглись. «Что-то тут не то! Что это за львы такие, которые сами стригутся под одну гребенку, еще и своих друзей заставляют?» - засомневался Лео.
На следующий день Леонтий предстал перед львами, что называется, во всей красе: в отличном настроении и с новой прической. Он и так был невероятно пушистым, шерсть его торчала во все стороны. Но сегодня! Казалось, будто он попал под напряжение. А все потому, что утром намылся шампунем для густоты волос. «Цари» зверей, конечно же, были в недоумении, негодовании, в возмущении.
-Это что такое? – взвилась «главная».
-Это как называется? - подхватили хором остальные.
Разумеется, Лео это сделал не специально и не на зло. Помните? Он же добрый!
-Я решил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не расстанусь со своей шикарной шевелюрой, нравится это кому-то или нет, -спокойно и уверенно произнес Леонтий.
-Ты ослушался, ты не подчинился, как ты мог?! - продолжала визжать главная львица.
-Но я не хочу быть похожим на вас внешне. Я хочу научиться быть увереннее в себе, стать сильнее духом, как львы, про которых я много читал.
Честно говоря, Лео сам не ожидал от себя такого - перечить львам. И кажется, в этот раз у него получилось отстоять свою точку зрения, оказалось, что у него есть сила воли.
-Если ты хочешь быть таким, как мы, ты должен каждый день ловить мышей и отчитываться об этом, - требовали «цари зверей».
-Я не буду ловить мышей. Мое хобби - рыбалка. Я ловлю рыбу не хуже, чем вы мышей. Каждый должен заниматься своим любимым делом, тогда будет обеспечен успех, - убедительно разъяснил Леонтий.
В ответ на неповиновение львы разозлились и приняли очередное свое зверское решение:
- Мы не будем общаться с тобой. Кот нам не ровня. Ты ослушался, и мы должны проучить тебя. Мы объявляем тебе бойкот!
- Бай, Кот! – крикнул один из них, видимо, самый умный (по крайней мере, он сам себя таковым считал). Хотел показать, что знает английский.
Леонтий расстроился, но виду не подал. Он решил, что у него есть знакомые и друзья, которые дорожат дружбой с ним. А львы поступили несправедливо и подло, но жизнь все расставит на свои места, нужно просто подождать. Он уже жалел, что когда-то подошел к этим существам и предложил дружить. «Меня предупреждали, мне говорили, а я не послушал. Они унижают меня, указывают, что мне делать, надсмехаются надо мной. Так друзья не поступают», - сетовал кот.
Все шло своим чередом. Лео стал меньше видеться с «царями зверей», старался держаться от них подальше. И вот неожиданный поворот: пришло приглашение для «царей зверей» на какой-то львиный форум, по какой-то там львиной теме. Но ни один из них не мог ехать, все отказались: кто заболел, кто уехал куда-то, кто не захотел. Решили попросить Леонтия выручить их, быть представителем на этом форуме. А заодно, как бы помириться с котом.
- Мы не держим на тебя зла, ты все сделал правильно. Мы бы тоже так поступили на твоем месте. А ты не хотел бы нас выручить? - так начали свою речь «цари». Лео было неприятно слушать эту лесть, он чувствовал очередной подвох, однако сказал:
-Я с огромным удовольствием поеду. Для меня это радость. Фортуна улыбнулась мне! Участие в форуме - старт в успешное будущее.
Уже через четыре часа Лео был в окружении величественных львов. Они были красивы, выдержанны, деликатны, полны достоинства и благородства. Горделивая осанка, грациозная кошачья поступь. А самое главное, в них не было ни грамма фальши. Что и говорить, наш Лео был просто заворожен. А взгляд! Он был действительно царский. «Я восхищаюсь этими животными! - произнес Лео. - Только совершенно не вижу сходства со львами из нашего городка». И ни один из этих львов не пристал к Лео с вопросами относительно его прически и внешнего вида. Никто не высмеял его и не сделал замечание. Лео чувствовал себя комфортно в этом высшем обществе. Проведя несколько дней в такой прекрасной атмосфере, наш кот, не только узнал много нового, но и познакомился с настоящими породистыми Львами. Лео приобрел опыт общения, узнал благородные манеры поведения. Но теперь Леонтий впал в еще большее сомнение относительно львов своего городка. «Может мне кажется?» - успокаивал он себя.
По возвращении Лео все львы как по мановению волшебной палочки и выздоровели, и вернулись домой. Но никто из них не только не поинтересовался поездкой, а даже не вспомнил ни разу о ней, будто никакого форума не было, или львы о нем просто не знали. Они вообще не обращали на Лео внимания и, как всегда, занимались своими делами: ссорились между собой, выясняя, кто из них главнее, умнее и красивее. Леонтию было неприятно такое отношение к себе, но он не стал возмущаться, поскольку очень устал и хотел выспаться. Не дождавшись ночи, Лео заснул.
Проснулся Лео от шума на улице. Он отчетливо слышал звуки гитары и крики котов со всей округи. Было такое ощущение, что каждому коту наступали на хвост, и все они орали от боли то поочерёдно, то хором. Леонтий вышел на улицу. Картина маслом: вокруг костра сидят львы и горланят под звуки гитары. Оказалось, они готовились к какому-то конкурсу.
- Что вы за львы? Львы должны рычать, а вы вопите, как мартовские коты, - произнес внезапно появившийся Лео. От неожиданности львы в кавычках (будем теперь их так называть) вскочили с мест и покраснели.
- Вы не только орете как коты, но и мурлычете, мяукаете и даже фыркаете, как они. Лжецы! Мне стыдно, что среди нас есть такие, как вы, - произнес Леонтий, повернулся и ушел.
Лео шел домой не спеша. На сердце у него было спокойно, как будто камень с души упал. Он осознал, что это никакие не львы и тем более не цари зверей. Это обыкновенные, заурядные уличные кошки и коты. Они сделали себе стрижку, как у львов, и посчитали, что этого достаточно, чтобы надеть корону. Но не учли главного: характер и поведение их остались прежними. Лео понимал, что не хочет общаться с обманщиками и лицемерами. И уж тем более ни о какой дружбе с ними не может быть и речи. Ему было стыдно и за себя: как мог так ошибиться? Надо было быть слепым, чтобы возвеличивать этих ничтожных самозванцев. В свое оправдание Лео сказал: «Опять из-за моей доброты и хорошего отношения к окружающим. Я больше никогда так не поступлю. Нельзя никого идеализировать, поступаясь своими интересами. Нельзя позволять командовать, управлять собой. Я буду с осторожностью выбирать себе друзей и ценить то, что имею. Эта история оказалась хорошим уроком».
Подойдя к дому, наш рыжий и по-прежнему пушистый кот Леонтий остановился, посмотрел в звездное безоблачное небо, откуда ему игриво подмигнула самая яркая звезда, и с совершенным счастьем и уверенностью произнес: «Мы можем сделать все что угодно и даже больше, нам просто нужно разбудить льва в себе. А дефицит львов –это вовсе не повод ценить шакалов».
P.S. А вы помните, что Леонтий был не просто рыжий пушистый кот. Очень умный и ответственный. Но это был кот, который всегда стремился сегодня быть лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Что бы вы сказали, каким будет наш Лео после всей этой истории?
Назарова Арина. Эликсир храбрости
В огромном черном котле, на поверхности которого уже давно поселилась плесень, громко булькало светло-коричневое зелье. Частички налета периодически попадали в отвар и оставались там навсегда для усиления магических свойств. Я крутилась рядом с котлом и задумчиво перебирала травы, то и дело, шепча себе под нос: «Так, а это уже давно пора было выбросить». Или, наоборот, громко вскрикивая: «Нашла, нашла, вот знала же, что обязательно найду! Зря бабушка говорила, что я рассеянная, как росомаха – ничего подобного! Даже если бы всё было действительно так, то эти животные очень милые».
После этого мои тонкие губы сами собой растягивались в широкой улыбке, приоткрывая беззубый рот, и я радостно кидала свою находку в котел. Зелье внутри него начинало активнее бурлить и переливаться всеми цветами радуги. Косматый домовой, обитавший в темном углу, подальше от солнечного света, с явным неодобрением наблюдал за разворачивающимся перед его глазами волшебством. «Хозяйка будет очень недовольна, очень недовольна, когда вернется. Она порядочная ведьма и прекрасно знает, что нужно быть аккуратной и опрятной. Эх, чудесные были времена, когда мы с ней жили здесь только вдвоем, душа в душу! А сейчас что… Она уехала, а я вынужден быть единственным защитником этого места от разрушений?» – заворчал хранитель дома, щуря подслеповатые глаза. «Замолчи, Базилик! Не видишь, я думаю, что бы еще добавить», – недовольным голосом ответила я и бросила в котел лягушачьих лапок. Зелье забурлило и, подобно гусенице, начало выбираться из тесного котла. Оно сгустками падало на деревянный пол с длинными кривыми трещинами. Я радостно вскрикнула и в тот же момент достала из-за пояса полосатой юбки палочку. «Не торопись!» – крикнул Базилик, но его голос утонул в густом белом тумане, наполнявшим комнату. Раздался громкий хлопок - покосившийся, подобно пизанской башне, деревянный домик дрогнул, и все замолкло.
Я с трудом распахнула глаза и, потянувшись, потерла ушибленную поясницу. «Ох, Базилик, кажется, опять ничего не получилось…», – протянула я и вдруг замолчала, с удивлением осматривая изменившуюся обстановку. Вместо цветастого ковра, покрытого всевозможными пятнами различного происхождения, пол был застелен светло-коричневым линолеумом. Он гармонично сочетался с бежевыми стенами и вазами с цветами. Крупные пионы были прелестными и уже раскрывшимися, только вот они совершенно не пахли и казались неживыми, как будто застывшими, навсегда превратившимися в идеальные скульптуры из тончайшего фарфора. Раньше на подоконниках бурно процветала разнообразная растительность: пахучие георгины и хищные мухоловки, которые любили с хрустом пережевывать свою добычу. За ними ухаживал Базилик, обрезая особо зазнавшимся цветам лишние листочки. Где теперь домовой и как на него подействовало заклятие, я не знала. От этого на душе было тоскливо и грустно. Глубоко вздохнув, я поднялась и подошла к зеркалу. Приложив столько усилий для достижения своей цели, я не должна была сейчас сожалеть о содеянном. Все же получилось, значит, я должна быть счастлива, не правда ли?
Из прихожей послышался шум, и я поспешила на звук открывающейся двери. В узком коридоре стояли мои родители. Я долго с ними не виделась, поэтому сейчас мне почудилось, что передо мною мираж. «Изабелла, что-то случилось? Ты смертельно побледнела!» – резко спросила моя мать. Звук ее голоса разбил тонкую дымку иллюзий, и я поняла, что все происходит по-настоящему.
Всю свою жизнь я была странной, не такой, какой меня хотели видеть родители и большинство родственников. С детства меня тянуло ко всему загадочному и неизвестному, а чаще всего – к грязному и резко пахнущему. Я собирала на улице причудливо изогнутые ветки и яркие перья, которые потом бережно складывала в резную деревянную шкатулку. Мои рыжие волосы невозможно было уложить: как бы мать ни заплетала меня, упрямые кудряшки все равно выбивались наружу. Другие дети и учителя в школе не любили и сторонились меня. Из-за бесконечного недопонимания я стеснялась участвовать в конкурсах, получала плохие оценки и вечно сталкивалась с молчаливым недовольством родителей. Они были кандидатами наук и ждали от меня, их дочери, большего. Они старались найти хоть какой-то отголосок таланта во мне, но не находили. На самом деле способности у меня действительно были, но совсем не такие, которым родители бы обрадовались. Я была ведьмой, как моя бабушка, к которой меня и отправили жить, как только это выяснилось. Бабушка жила на окраине леса в покосившемся деревянном доме, где, помимо нее, обитали заблудшие души, любившие поболтать темными ночами, ворчливый домовой, а также разнообразные пауки и прочие насекомые. В этом доме я сразу нашла себе место, облюбовав удобный диван на чердаке. Туда я принесла свои пожитки и толстые книги по магии с пожелтевшими страницами, которые мне любезно выдал домовой. Именно в одной из них я нашла рецепт зелья, которое помогло бы мне избавиться от моего главного страха – остаться одной, не оправдав чужих ожиданий. Даже живя у бабушки, я продолжала оставаться второстепенным персонажем. Значимые события в мире магии пролетали мимо меня, подобно лёгким зефирам. Если я участвовала в конкурсе по приготовлению зелий, то непременно занимала второе место. Мой отвар был хорошим, но недостаточно. Сколько бы сил и времени я ни прикладывала, все было бесполезно, я всегда была лишь тенью, массовкой для кого-то более значимого, видного, идеального, кого-то, кто не был мной, что в мире людей, что в мире колдовства. Глядя на них, главных героев, я испытывала жуткое чувство зависти, они никогда не будут одинокими, забытыми. Им все дается так легко, а мне нужно приложить немало усилий – и все равно я не могу достичь того же, что они. Каждый раз мне казалась, что ещё немного, ещё чуть-чуть – и я достигну цели, но я всегда оставалась в стороне. Никто не упрекал меня в моих ошибках вслух, а бабушка, в отличие от родителей, даже хвалила меня, говоря о том, что все настоящие ведьмы совершают ошибки, которые иногда, наоборот, приводят к изобретению новых заклинаний. Найденное мною зелье позволяло мне стать идеалом и оправдать чужие ожидания. Я всегда мечтала об этом, если я буду добиваться успехов, то родители и бабушка будут мной гордиться, а значит, я никогда не буду одна. Благодаря колдовскому отвару у меня появился шанс на другую жизнь, где не будет места страху, который не отпускал меня уже столько лет.
Окунувшись в свои мысли, я не сразу поняла, что мне задали вопрос. Боясь не совладать с голосом, я лишь смущенно помотала головой. «Ну, раз все в порядке, – задумчиво пробормотал отец, – то пойдемте обедать». После этой фразы я покорно пошла следом за родителями. Мое тело как будто знало, что нужно делать, поэтому я спокойно села за стол, покрыла колени салфеткой и приступила к еде, механически пережевывая пищу и не чувствуя ее вкуса. В доме у бабушки я всегда ела кашу вместе с поджаренным хлебом, поверх которого заботливый Базилик толстым слоем намазывал ежевичное варенье. Я знала, что у родителей подобного угощения просить бесполезно, потому что они были исключительно за здоровое питание, а сахар вреден молодому растущему организму. С бабушкой всегда можно было обсудить прошедший день. Поддавшись воспоминаниям, я захотела расспросить родителей, но не смогла разомкнуть губ: мой рот как будто был склеен заклятием молчания. Я удивленно замычала и услышала чей-то тихий шепот около моего уха: «Хорошие девочки не разговаривают за столом, сомневаюсь, что твои родители хотели бы, чтобы ты была плохой». Резко обернувшись, я увидела плотный, черно-серый комок с внимательными глазами, который при ближайшем рассмотрении оказался котом. Он подмигнул мне и растворился в воздухе. Я перевела взгляд на родителей и поняла, что они ничего не заметили. Значит, кот был магической сущностью. Но только зачем он явился? Чтобы предупредить о чем-то или посеять смятения в моей душе? После еды я поблагодарила родителей и на деревянных ногах начала подниматься по лестнице на второй этаж. Я двигалась, словно марионетка. Мои ноги сами знали, куда меня вести, и я не могла сопротивляться. Зайдя в комнату, я удивилась царившему в ней порядку: кровать была аккуратно заправлена, а на стенах в позолоченных рамках были развешены дипломы за первые места в различных конкурсах и фотографии, на которых я была изображена в компании знакомых подростков. Именно они называли меня странной раньше, но скорее всего, благодаря зелью я стала им нравиться. Подойдя к черному пианино, которое огромным пятном выделялось среди других вещей, я села за него и начала играть меленную тягучую мелодию. Мои руки двигались сами по себе, четкими движениями воспроизводя музыку, а я не могла и пальцем сдвинуть, чтобы сбиться и оборвать ее.
- Хорошие девочки играют по нотам, – медленно сказал мне кот, улегшись на инструмент.
- Я не хорошая, – мысленно возразила я.
- Ты не хорошая, ты идеальная! Сейчас ты воплощение всех ожиданий своих родителей, ты же сама об этом мечтала, наслаждайся, – пропела сущность.
От осознания его правоты горячие слезы навернулись на моих глазах. Я проживу жизнь, в которой никогда не останусь одна, но буду несчастной. «Борись, маленькая ведьма, не дай страху запугать тебя», – услышала я в голове голос бабушки и неожиданно осознала простую истину. Мне не стоит бояться одиночества. Вокруг меня всегда будут люди, которые любят меня такой, какая я есть. Стоило мне это произнести, как кот, а точнее, мой детский страх, с хлопком растворился в воздухе: иллюзия рассыпалась, а я почувствовала, что лежу на ковре в бабушкином доме и больше ничего не боюсь.
Поздно вечером, спрятавшись под одеялом, я впервые сама позвонила родителям и рассказала о том, что сегодня мне удалось сварить сложное зелье, но оно получилось не совсем рабочим. Услышав о моей неудаче, взрослые не только не расстроились, а наоборот, сказали, что я молодец, потому что попыталась. На самом деле они всегда гордились мной, независимо от моих достижений, и хотели, чтобы я исполнила все свои мечты.
В огромном черном котле, на поверхности которого уже давно поселилась плесень, громко булькало светло-коричневое зелье. Частички налета периодически попадали в отвар и оставались там навсегда для усиления магических свойств. Я крутилась рядом с котлом и задумчиво перебирала травы, то и дело, шепча себе под нос: «Так, а это уже давно пора было выбросить». Или, наоборот, громко вскрикивая: «Нашла, нашла, вот знала же, что обязательно найду! Зря бабушка говорила, что я рассеянная, как росомаха – ничего подобного! Даже если бы всё было действительно так, то эти животные очень милые».
После этого мои тонкие губы сами собой растягивались в широкой улыбке, приоткрывая беззубый рот, и я радостно кидала свою находку в котел. Зелье внутри него начинало активнее бурлить и переливаться всеми цветами радуги. Косматый домовой, обитавший в темном углу, подальше от солнечного света, с явным неодобрением наблюдал за разворачивающимся перед его глазами волшебством. «Хозяйка будет очень недовольна, очень недовольна, когда вернется. Она порядочная ведьма и прекрасно знает, что нужно быть аккуратной и опрятной. Эх, чудесные были времена, когда мы с ней жили здесь только вдвоем, душа в душу! А сейчас что… Она уехала, а я вынужден быть единственным защитником этого места от разрушений?» – заворчал хранитель дома, щуря подслеповатые глаза. «Замолчи, Базилик! Не видишь, я думаю, что бы еще добавить», – недовольным голосом ответила я и бросила в котел лягушачьих лапок. Зелье забурлило и, подобно гусенице, начало выбираться из тесного котла. Оно сгустками падало на деревянный пол с длинными кривыми трещинами. Я радостно вскрикнула и в тот же момент достала из-за пояса полосатой юбки палочку. «Не торопись!» – крикнул Базилик, но его голос утонул в густом белом тумане, наполнявшим комнату. Раздался громкий хлопок - покосившийся, подобно пизанской башне, деревянный домик дрогнул, и все замолкло.
Я с трудом распахнула глаза и, потянувшись, потерла ушибленную поясницу. «Ох, Базилик, кажется, опять ничего не получилось…», – протянула я и вдруг замолчала, с удивлением осматривая изменившуюся обстановку. Вместо цветастого ковра, покрытого всевозможными пятнами различного происхождения, пол был застелен светло-коричневым линолеумом. Он гармонично сочетался с бежевыми стенами и вазами с цветами. Крупные пионы были прелестными и уже раскрывшимися, только вот они совершенно не пахли и казались неживыми, как будто застывшими, навсегда превратившимися в идеальные скульптуры из тончайшего фарфора. Раньше на подоконниках бурно процветала разнообразная растительность: пахучие георгины и хищные мухоловки, которые любили с хрустом пережевывать свою добычу. За ними ухаживал Базилик, обрезая особо зазнавшимся цветам лишние листочки. Где теперь домовой и как на него подействовало заклятие, я не знала. От этого на душе было тоскливо и грустно. Глубоко вздохнув, я поднялась и подошла к зеркалу. Приложив столько усилий для достижения своей цели, я не должна была сейчас сожалеть о содеянном. Все же получилось, значит, я должна быть счастлива, не правда ли?
Из прихожей послышался шум, и я поспешила на звук открывающейся двери. В узком коридоре стояли мои родители. Я долго с ними не виделась, поэтому сейчас мне почудилось, что передо мною мираж. «Изабелла, что-то случилось? Ты смертельно побледнела!» – резко спросила моя мать. Звук ее голоса разбил тонкую дымку иллюзий, и я поняла, что все происходит по-настоящему.
Всю свою жизнь я была странной, не такой, какой меня хотели видеть родители и большинство родственников. С детства меня тянуло ко всему загадочному и неизвестному, а чаще всего – к грязному и резко пахнущему. Я собирала на улице причудливо изогнутые ветки и яркие перья, которые потом бережно складывала в резную деревянную шкатулку. Мои рыжие волосы невозможно было уложить: как бы мать ни заплетала меня, упрямые кудряшки все равно выбивались наружу. Другие дети и учителя в школе не любили и сторонились меня. Из-за бесконечного недопонимания я стеснялась участвовать в конкурсах, получала плохие оценки и вечно сталкивалась с молчаливым недовольством родителей. Они были кандидатами наук и ждали от меня, их дочери, большего. Они старались найти хоть какой-то отголосок таланта во мне, но не находили. На самом деле способности у меня действительно были, но совсем не такие, которым родители бы обрадовались. Я была ведьмой, как моя бабушка, к которой меня и отправили жить, как только это выяснилось. Бабушка жила на окраине леса в покосившемся деревянном доме, где, помимо нее, обитали заблудшие души, любившие поболтать темными ночами, ворчливый домовой, а также разнообразные пауки и прочие насекомые. В этом доме я сразу нашла себе место, облюбовав удобный диван на чердаке. Туда я принесла свои пожитки и толстые книги по магии с пожелтевшими страницами, которые мне любезно выдал домовой. Именно в одной из них я нашла рецепт зелья, которое помогло бы мне избавиться от моего главного страха – остаться одной, не оправдав чужих ожиданий. Даже живя у бабушки, я продолжала оставаться второстепенным персонажем. Значимые события в мире магии пролетали мимо меня, подобно лёгким зефирам. Если я участвовала в конкурсе по приготовлению зелий, то непременно занимала второе место. Мой отвар был хорошим, но недостаточно. Сколько бы сил и времени я ни прикладывала, все было бесполезно, я всегда была лишь тенью, массовкой для кого-то более значимого, видного, идеального, кого-то, кто не был мной, что в мире людей, что в мире колдовства. Глядя на них, главных героев, я испытывала жуткое чувство зависти, они никогда не будут одинокими, забытыми. Им все дается так легко, а мне нужно приложить немало усилий – и все равно я не могу достичь того же, что они. Каждый раз мне казалась, что ещё немного, ещё чуть-чуть – и я достигну цели, но я всегда оставалась в стороне. Никто не упрекал меня в моих ошибках вслух, а бабушка, в отличие от родителей, даже хвалила меня, говоря о том, что все настоящие ведьмы совершают ошибки, которые иногда, наоборот, приводят к изобретению новых заклинаний. Найденное мною зелье позволяло мне стать идеалом и оправдать чужие ожидания. Я всегда мечтала об этом, если я буду добиваться успехов, то родители и бабушка будут мной гордиться, а значит, я никогда не буду одна. Благодаря колдовскому отвару у меня появился шанс на другую жизнь, где не будет места страху, который не отпускал меня уже столько лет.
Окунувшись в свои мысли, я не сразу поняла, что мне задали вопрос. Боясь не совладать с голосом, я лишь смущенно помотала головой. «Ну, раз все в порядке, – задумчиво пробормотал отец, – то пойдемте обедать». После этой фразы я покорно пошла следом за родителями. Мое тело как будто знало, что нужно делать, поэтому я спокойно села за стол, покрыла колени салфеткой и приступила к еде, механически пережевывая пищу и не чувствуя ее вкуса. В доме у бабушки я всегда ела кашу вместе с поджаренным хлебом, поверх которого заботливый Базилик толстым слоем намазывал ежевичное варенье. Я знала, что у родителей подобного угощения просить бесполезно, потому что они были исключительно за здоровое питание, а сахар вреден молодому растущему организму. С бабушкой всегда можно было обсудить прошедший день. Поддавшись воспоминаниям, я захотела расспросить родителей, но не смогла разомкнуть губ: мой рот как будто был склеен заклятием молчания. Я удивленно замычала и услышала чей-то тихий шепот около моего уха: «Хорошие девочки не разговаривают за столом, сомневаюсь, что твои родители хотели бы, чтобы ты была плохой». Резко обернувшись, я увидела плотный, черно-серый комок с внимательными глазами, который при ближайшем рассмотрении оказался котом. Он подмигнул мне и растворился в воздухе. Я перевела взгляд на родителей и поняла, что они ничего не заметили. Значит, кот был магической сущностью. Но только зачем он явился? Чтобы предупредить о чем-то или посеять смятения в моей душе? После еды я поблагодарила родителей и на деревянных ногах начала подниматься по лестнице на второй этаж. Я двигалась, словно марионетка. Мои ноги сами знали, куда меня вести, и я не могла сопротивляться. Зайдя в комнату, я удивилась царившему в ней порядку: кровать была аккуратно заправлена, а на стенах в позолоченных рамках были развешены дипломы за первые места в различных конкурсах и фотографии, на которых я была изображена в компании знакомых подростков. Именно они называли меня странной раньше, но скорее всего, благодаря зелью я стала им нравиться. Подойдя к черному пианино, которое огромным пятном выделялось среди других вещей, я села за него и начала играть меленную тягучую мелодию. Мои руки двигались сами по себе, четкими движениями воспроизводя музыку, а я не могла и пальцем сдвинуть, чтобы сбиться и оборвать ее.
- Хорошие девочки играют по нотам, – медленно сказал мне кот, улегшись на инструмент.
- Я не хорошая, – мысленно возразила я.
- Ты не хорошая, ты идеальная! Сейчас ты воплощение всех ожиданий своих родителей, ты же сама об этом мечтала, наслаждайся, – пропела сущность.
От осознания его правоты горячие слезы навернулись на моих глазах. Я проживу жизнь, в которой никогда не останусь одна, но буду несчастной. «Борись, маленькая ведьма, не дай страху запугать тебя», – услышала я в голове голос бабушки и неожиданно осознала простую истину. Мне не стоит бояться одиночества. Вокруг меня всегда будут люди, которые любят меня такой, какая я есть. Стоило мне это произнести, как кот, а точнее, мой детский страх, с хлопком растворился в воздухе: иллюзия рассыпалась, а я почувствовала, что лежу на ковре в бабушкином доме и больше ничего не боюсь.
Поздно вечером, спрятавшись под одеялом, я впервые сама позвонила родителям и рассказала о том, что сегодня мне удалось сварить сложное зелье, но оно получилось не совсем рабочим. Услышав о моей неудаче, взрослые не только не расстроились, а наоборот, сказали, что я молодец, потому что попыталась. На самом деле они всегда гордились мной, независимо от моих достижений, и хотели, чтобы я исполнила все свои мечты.
Киселев Павел. Записки моего кота
Счастлив ли я? Думаю, что да. Мое кошачье эго позволяет мне так думать. Я сыт, не ограничен в движении, обласкан теми, с кем я делю кров. Я жил здесь всегда. Знаю каждый уголок в этом доме, множество укромных местечек, где можно уединиться и отгородиться от суеты и общего пространства. Ведь я – кот, Мякиш. Имя, конечно, дурацкое. Но я привык к нему. И назови меня сейчас Леопольдом, я бы вряд ли откликнулся и был бы этому рад. Мякиш, так Мякиш. Вот Тимофей– назойливая псина, которая не дает мне покоя и съедает мой корм. Ему подошла бы более легкомысленная кличка – Тузик, или Фантик. Но его зовут Тимофей, как будто от этого он становится умнее. Глупая собачонка. Его IQ не больше белого пятнышка на кончике моего хвоста. Рыбы в аквариуме и то умнее его. Вы не подумайте, что мое кошачье мнение о его собачьей персоне строится на природной непереносимости к этому виду. Просто, если честно, немного ревную Пашку, моего любимого друга. Когда он вместо меня начинает чесать пузо этой толстой сосиске, мне хочется вцепиться этому наглючему чихуахуа в его курносый задиристый нос! У-у, Мякиш, понесло тебя. Надо успокаиваться. Просто, были времена, когда я был единственным любимцем в нашем доме. Я даже думал, что так будет всегда. Ан, нет! Как раз на мое двухлетие принесли этого пёселя. Инициатором столь глупой идеи была Пашина мама. Она, видите ли, не кошатница! Я давно подозревал, что она меня недолюбливает. Было и такое, что после того, как я погнался за мухой, и перевернул ее любимую орхидею, она запустила в меня тапкой! Еле увернулся! Я не обиделся на нее, потому что орхидея действительно была красивая. Мне было самому жаль, и стыдно за мою выходку. Вошел в азарт, она мне дремать мешала, эта муха. Конечно, она ничего, я про Пашину маму. Кормит меня вкусно и вовремя. Она всех кормит. Поэтому Тимофей и стал похож на бревно с выпученными глазёнками. Ну вот, сейчас опять заведусь. Черт с ним, с Тимофеем! Рыбы в аквариуме выросли до тридцати сантиметров! Вот раскормила! А сама ничего, стройная, ухоженная. Пахнет от нее всегда вкусно.Была бы кошкой, я бы за ней поухаживал. Рыбы – это отдельный разговор. Когда в дом принесли огромную стеклянную банку, и нагрузили в нее камней, я вообще не понял, что происходит. Даже были мысли, что мне новый писсуар готовят. Ну а когда в нее налили воды, вообще растерялся. Думал, сейчас купать начнут. Пришлось спрятаться в шкафу, на Пашкиной полке, на аккуратно сложенных толстовках из флиса. Вот это перина! А сны какие снятся… Передремал там всю эту суету, выхожу, а в банку рыб запустили. Я от этой красоты чуть по-человечески не заговорил. Вот это мое! Не то, что эта псина заполошная. Обожаю лежать возле аквариума и наблюдать. Это просто космос! Другая планета! Мои кошачьи инстинкты умирают перед этой красотой. Может это потому что я рыбу не ем? Ну да ладно, глядя на такую красоту, мне это даже в голову не приходило. Когда я укладываюсь полежать возле аквариума, огромный астронотус в леопардовом камуфляже подплывает поближе и начинает заглядывать мне в глаза. У него глаза огромные, и крутятся, как у хамелеона! Сразу видно, что интеллект у этого пацана что надо. Он у них за главного, вроде президента. Всех рассудит, всех помирит. А если надо- нагоняя даст. Полный порядок в этом царстве- государстве. А мои отношения с рыбами ценны тем, что они сами по себе, а я сам по себе. И мы друг другу не причиняем никаких неудобств, разве только сом синодонтис, подплывая к стеклу, призывает меня помериться с ним усами. Ему,почему-то кажется, что его усы длиннее моих. Наивная рыбина. Мои усы, как говорит кот Матроскин в известном мультфильме - мой паспорт. У Пашиного папы тоже усы. Так оно и понятно – особь мужского пола. У нас с ним и отношения скупые, по-мужски сдержанные. Он, когда утром спускается по лестнице вниз, проходя мимо меня, всегда говорит: «Привет, котяра!» Я, позевывая отвечаю ему мысленно: «Привет, от котяры слышу».
Сейчас зима, на душе спокойно, на улицу не хочется. Все благополучные коты дома сидят, весну ждут. Это кого недокармливают, тем приходится по гаражам да стайкам промышлять. Ну а я, как вам уже говорил, в полном шоколаде. Я за всю зиму на улице раза два был. Холодище, скукотище, птички на лету замерзают… Оно мне надо? То ли дело дома, возле камина. Растянешься во весь кошачий рост, огонь пляшет, дрова потрескивают… Лежишь и мечтаешь о прекрасном. А если дрема возьмет, какие сны снятся! Люди любят смотреть телевизор, а я люблю смотреть сны. Мое кошачье восприятие мира позволяет мне в моих снах проживать что-то невероятное. Зима в наших краях уж больно длинная. Пока весны дождешься, чтобы отправиться во все тяжкие. Поэтому сны – это отдельная история. На улице вьюга, зима, а мне снится, что лежу на лужайке на спине, лапы раскинул. Небо голубое, ни облачка. Две бабочки, красивые такие, травинку поделить не могут. Друг друга сталкивают, глупые гусеницы! А я помахиваю хвостом и сбиваю одуванчики. Они как парашютики, подхватываются ветром и стремительно улетают, растворяясь в голубой бесконечности. Лежу и млею.
Вдруг, ветерком навеяло запах. Ух ты, матерь кошачья! Опять соседский кот Епифан в нашем дворе территорию метит. Говорятже, скоротечен счастья миг. Пришлось соскочить, шерсть дыбом поднять для устрашения, глаза выпучить и заорать во все кошачье горло. Сколько раз я этому негодяю напоминал, что я здесь хозяин. Епифан присел от испуга, уши прижал, а потом спохватился, что когти надо рвать поскорее. Вскочил на бочок с мусором, и, отталкиваясь, пытаясь вскочить на крышу, перевернул его со всем содержимым. Лязг, грохот, и еще только что царившие здесь тишина и покой сменились на сотрясающую воздух тревогу. Епифан, конечно, убежал, а я торжествующей походкой зашагал к пробуждению.
Ну и зачем мне зимой лапы морозить? Нагоняя Епифану можно и во сне дать. Раньше мы ладили, пока моя любимая Маняша между нами не встала. Епифан тоже к ней неровно дышит. Но Маня выбрала меня. Вот он теперь и бесится, мстит, как может. Маняша моя – умница и красавица! Я ее как увидел, сразу понял – моя судьба. Шкурка, как у соболя, с переливом, шелковистая. Зубки как шильце. Глаза как незабудки, голубые. Бабка у нее из Сиамских была, вот ее такими глазками и одарила. Нуя-то тоже парень бравый. Вот у нас любовь с первого взгляда и получилась. А детки у нас какие! Маняшина баба Вера их как горячие пирожки раздает в добрые руки. Моя Маняша тоже из благополучных, как и я. Баба Вера балует ее, кормит хорошо, кофточки да шапочки ей вяжет. А Маняша отвечает любовью и преданностью. В общем, за мою любимую я спокоен, зная, что никто ее не обижает. Огорчает то, что снится она мне очень редко. Ну да ничего, скоро весна, намурлычимся.
Уже совсем скоро солнечные лучи с осторожностью незрячего начнут ощупывать сугробы, делая их шершавыми, серыми и колючими. Птицы после длительного молчания начнут перебивать друг друга. И хотя февраль еще календарный месяц, уже пахнет весной. Странное выражение - весной пахнет. Это мой друг Пашка так говорит. Но я с ним согласен, все-таки она чем-то пахнет, эта весна. Может быть это запах сосулек, с которых капает талая вода и бьет в темечко землю, чтобы поскорее просыпалась от зимней спячки? Или пахнет весенним ветром, который разносит великую радость пробуждения? И каждый новый день будет дополняться новыми запахами весны. Сойдут снега. Деревья вновь распеленают свои листочки. И я знаю, что, однажды проснувшись, Пашка подойдет к окну, хрустнет балконная дверь, и яркое зарево солнечных зайчиков зальет все видимое пространство: огороды, ребристые крыши домов. Свет озарит причудливыми узорами полупрозрачные навесы теплиц и растечется по асфальту, растворяясь в лужицах. Мы выйдем на балкон, и нас окутает нежный запах распускающейся листвы, цветущей яблони, аромат черемухи, цветущей перед нашими окнами. Какофония звуков окончательно добьет желание что-либо делать, кроме как наслаждаться этим мигом. А потом нам будет казаться, что весь Иркутск замер, вкушая весеннее настроение. Стихнет гул машин. Не будет слышно перестукивание строительных молотков. Все самолеты, которые чертят небо над Иркутском, приземлятся и будут спать в ангарах. А я, кот Мякиш, и мой друг Пашка будем наслаждаться мгновениями весны…
Что-то я размечтался. Как говорит Пашка: «Мечтать не вредно, вредно не мечтать». Согласен полностью, поэтому большую часть свободного кошачьего времени я провожу в мечтах. Это действительно очень полезно. Потому что мечтают только о хорошем, а о плохом мечтать невозможно. Так с чего же я начал? По-моему, с того, счастлив ли я? Наверное, да, ведь счастье – оно в мелочах…
Счастлив ли я? Думаю, что да. Мое кошачье эго позволяет мне так думать. Я сыт, не ограничен в движении, обласкан теми, с кем я делю кров. Я жил здесь всегда. Знаю каждый уголок в этом доме, множество укромных местечек, где можно уединиться и отгородиться от суеты и общего пространства. Ведь я – кот, Мякиш. Имя, конечно, дурацкое. Но я привык к нему. И назови меня сейчас Леопольдом, я бы вряд ли откликнулся и был бы этому рад. Мякиш, так Мякиш. Вот Тимофей– назойливая псина, которая не дает мне покоя и съедает мой корм. Ему подошла бы более легкомысленная кличка – Тузик, или Фантик. Но его зовут Тимофей, как будто от этого он становится умнее. Глупая собачонка. Его IQ не больше белого пятнышка на кончике моего хвоста. Рыбы в аквариуме и то умнее его. Вы не подумайте, что мое кошачье мнение о его собачьей персоне строится на природной непереносимости к этому виду. Просто, если честно, немного ревную Пашку, моего любимого друга. Когда он вместо меня начинает чесать пузо этой толстой сосиске, мне хочется вцепиться этому наглючему чихуахуа в его курносый задиристый нос! У-у, Мякиш, понесло тебя. Надо успокаиваться. Просто, были времена, когда я был единственным любимцем в нашем доме. Я даже думал, что так будет всегда. Ан, нет! Как раз на мое двухлетие принесли этого пёселя. Инициатором столь глупой идеи была Пашина мама. Она, видите ли, не кошатница! Я давно подозревал, что она меня недолюбливает. Было и такое, что после того, как я погнался за мухой, и перевернул ее любимую орхидею, она запустила в меня тапкой! Еле увернулся! Я не обиделся на нее, потому что орхидея действительно была красивая. Мне было самому жаль, и стыдно за мою выходку. Вошел в азарт, она мне дремать мешала, эта муха. Конечно, она ничего, я про Пашину маму. Кормит меня вкусно и вовремя. Она всех кормит. Поэтому Тимофей и стал похож на бревно с выпученными глазёнками. Ну вот, сейчас опять заведусь. Черт с ним, с Тимофеем! Рыбы в аквариуме выросли до тридцати сантиметров! Вот раскормила! А сама ничего, стройная, ухоженная. Пахнет от нее всегда вкусно.Была бы кошкой, я бы за ней поухаживал. Рыбы – это отдельный разговор. Когда в дом принесли огромную стеклянную банку, и нагрузили в нее камней, я вообще не понял, что происходит. Даже были мысли, что мне новый писсуар готовят. Ну а когда в нее налили воды, вообще растерялся. Думал, сейчас купать начнут. Пришлось спрятаться в шкафу, на Пашкиной полке, на аккуратно сложенных толстовках из флиса. Вот это перина! А сны какие снятся… Передремал там всю эту суету, выхожу, а в банку рыб запустили. Я от этой красоты чуть по-человечески не заговорил. Вот это мое! Не то, что эта псина заполошная. Обожаю лежать возле аквариума и наблюдать. Это просто космос! Другая планета! Мои кошачьи инстинкты умирают перед этой красотой. Может это потому что я рыбу не ем? Ну да ладно, глядя на такую красоту, мне это даже в голову не приходило. Когда я укладываюсь полежать возле аквариума, огромный астронотус в леопардовом камуфляже подплывает поближе и начинает заглядывать мне в глаза. У него глаза огромные, и крутятся, как у хамелеона! Сразу видно, что интеллект у этого пацана что надо. Он у них за главного, вроде президента. Всех рассудит, всех помирит. А если надо- нагоняя даст. Полный порядок в этом царстве- государстве. А мои отношения с рыбами ценны тем, что они сами по себе, а я сам по себе. И мы друг другу не причиняем никаких неудобств, разве только сом синодонтис, подплывая к стеклу, призывает меня помериться с ним усами. Ему,почему-то кажется, что его усы длиннее моих. Наивная рыбина. Мои усы, как говорит кот Матроскин в известном мультфильме - мой паспорт. У Пашиного папы тоже усы. Так оно и понятно – особь мужского пола. У нас с ним и отношения скупые, по-мужски сдержанные. Он, когда утром спускается по лестнице вниз, проходя мимо меня, всегда говорит: «Привет, котяра!» Я, позевывая отвечаю ему мысленно: «Привет, от котяры слышу».
Сейчас зима, на душе спокойно, на улицу не хочется. Все благополучные коты дома сидят, весну ждут. Это кого недокармливают, тем приходится по гаражам да стайкам промышлять. Ну а я, как вам уже говорил, в полном шоколаде. Я за всю зиму на улице раза два был. Холодище, скукотище, птички на лету замерзают… Оно мне надо? То ли дело дома, возле камина. Растянешься во весь кошачий рост, огонь пляшет, дрова потрескивают… Лежишь и мечтаешь о прекрасном. А если дрема возьмет, какие сны снятся! Люди любят смотреть телевизор, а я люблю смотреть сны. Мое кошачье восприятие мира позволяет мне в моих снах проживать что-то невероятное. Зима в наших краях уж больно длинная. Пока весны дождешься, чтобы отправиться во все тяжкие. Поэтому сны – это отдельная история. На улице вьюга, зима, а мне снится, что лежу на лужайке на спине, лапы раскинул. Небо голубое, ни облачка. Две бабочки, красивые такие, травинку поделить не могут. Друг друга сталкивают, глупые гусеницы! А я помахиваю хвостом и сбиваю одуванчики. Они как парашютики, подхватываются ветром и стремительно улетают, растворяясь в голубой бесконечности. Лежу и млею.
Вдруг, ветерком навеяло запах. Ух ты, матерь кошачья! Опять соседский кот Епифан в нашем дворе территорию метит. Говорятже, скоротечен счастья миг. Пришлось соскочить, шерсть дыбом поднять для устрашения, глаза выпучить и заорать во все кошачье горло. Сколько раз я этому негодяю напоминал, что я здесь хозяин. Епифан присел от испуга, уши прижал, а потом спохватился, что когти надо рвать поскорее. Вскочил на бочок с мусором, и, отталкиваясь, пытаясь вскочить на крышу, перевернул его со всем содержимым. Лязг, грохот, и еще только что царившие здесь тишина и покой сменились на сотрясающую воздух тревогу. Епифан, конечно, убежал, а я торжествующей походкой зашагал к пробуждению.
Ну и зачем мне зимой лапы морозить? Нагоняя Епифану можно и во сне дать. Раньше мы ладили, пока моя любимая Маняша между нами не встала. Епифан тоже к ней неровно дышит. Но Маня выбрала меня. Вот он теперь и бесится, мстит, как может. Маняша моя – умница и красавица! Я ее как увидел, сразу понял – моя судьба. Шкурка, как у соболя, с переливом, шелковистая. Зубки как шильце. Глаза как незабудки, голубые. Бабка у нее из Сиамских была, вот ее такими глазками и одарила. Нуя-то тоже парень бравый. Вот у нас любовь с первого взгляда и получилась. А детки у нас какие! Маняшина баба Вера их как горячие пирожки раздает в добрые руки. Моя Маняша тоже из благополучных, как и я. Баба Вера балует ее, кормит хорошо, кофточки да шапочки ей вяжет. А Маняша отвечает любовью и преданностью. В общем, за мою любимую я спокоен, зная, что никто ее не обижает. Огорчает то, что снится она мне очень редко. Ну да ничего, скоро весна, намурлычимся.
Уже совсем скоро солнечные лучи с осторожностью незрячего начнут ощупывать сугробы, делая их шершавыми, серыми и колючими. Птицы после длительного молчания начнут перебивать друг друга. И хотя февраль еще календарный месяц, уже пахнет весной. Странное выражение - весной пахнет. Это мой друг Пашка так говорит. Но я с ним согласен, все-таки она чем-то пахнет, эта весна. Может быть это запах сосулек, с которых капает талая вода и бьет в темечко землю, чтобы поскорее просыпалась от зимней спячки? Или пахнет весенним ветром, который разносит великую радость пробуждения? И каждый новый день будет дополняться новыми запахами весны. Сойдут снега. Деревья вновь распеленают свои листочки. И я знаю, что, однажды проснувшись, Пашка подойдет к окну, хрустнет балконная дверь, и яркое зарево солнечных зайчиков зальет все видимое пространство: огороды, ребристые крыши домов. Свет озарит причудливыми узорами полупрозрачные навесы теплиц и растечется по асфальту, растворяясь в лужицах. Мы выйдем на балкон, и нас окутает нежный запах распускающейся листвы, цветущей яблони, аромат черемухи, цветущей перед нашими окнами. Какофония звуков окончательно добьет желание что-либо делать, кроме как наслаждаться этим мигом. А потом нам будет казаться, что весь Иркутск замер, вкушая весеннее настроение. Стихнет гул машин. Не будет слышно перестукивание строительных молотков. Все самолеты, которые чертят небо над Иркутском, приземлятся и будут спать в ангарах. А я, кот Мякиш, и мой друг Пашка будем наслаждаться мгновениями весны…
Что-то я размечтался. Как говорит Пашка: «Мечтать не вредно, вредно не мечтать». Согласен полностью, поэтому большую часть свободного кошачьего времени я провожу в мечтах. Это действительно очень полезно. Потому что мечтают только о хорошем, а о плохом мечтать невозможно. Так с чего же я начал? По-моему, с того, счастлив ли я? Наверное, да, ведь счастье – оно в мелочах…
Лоуренсо Да Силва Летисия. Мир под лапой
Шел четвертый год со Дня Великого Переворота. Осень, последние числа сентября. Небо, все ещё мрачное и плотно затянутое темными тучами, такими же темными, как и наступившая эпоха. Вся жизнь теперь проходит в ожидании грозы, и, увы, не в виде дождя или молний, а в облике острых когтей и разрывающего душу "мяу".
Идя на работу в офис, Алекс старался не думать об окружающем его мире, так как эти мысли зажигали в его сердце противоречивый огонек жажды справедливости. Будь он чуть смелее, чуть отважней или чуть глупее, он бы вступил в ряды анархистов, стал главным предводителем революции, но он лишь работник офиса, желающий простого спокойствия. Он долгое время пытался обрести его в Новом Пушистом Мире, в эпоху мягколапых, но самые разнообразные чувства терзали его душу, начиная со светлой ностальгии минувших светлых дней, заканчивая обидой и злобой на всех вокруг: на власть, главные должности которой теперь по большей части занимают коты, а остальные - люди, являющиеся приспешниками кошачьего режима; на злую судьбу и ее невероятные повороты, которые раньше можно было вообразить лишь в антиутопиях; на тех безмозглых людей и их подпольные опыты над кошками. О, на них он злился в особенности. Они разработали особую вакцину, вводили ее котам, и именно из-за нее в маленьких мозгах пушистиков начало вырабатываться некое вещество, от которого животные извилины становились уж больно походившими на человеческие. Коты стали думать как люди и, следует догадаться, нашли способ перехватить власть путем восстания. Все это сотворила нелегальная корпорация, которая теперь является коммерческим монстром и стала одной из частей двигателя современной цивилизации. Они ставили опыты над множеством котов, и того количества хватило, чтобы поработить мир...
Молодой работник едва успел вбежать в лифт, прежде чем он закроется. Он очень торопился передать боссу папку с бумагами, ибо задолжал это дело уже на два дня, что чревато выговором. Пока лифт продвигался вверх по небоскребу, мысли из головы временно исчезли, а как только двери распахнулись, парень, обуреваемый беспокойством, поспешил в нужный кабинет.
Он остановился перед прозрачной дверью, провел рукой по волосам, приглаживая их, и только потом набрался смелости постучаться.
- Войдите!
Молодой человек робко зашёл в помещение и тут же виновато потупил глаза, встречая неодобрительный взгляд, как всегда пронизывающий до каждой косточки.
- Малыш Алекс наконец соизволил выполнить рабочий долг! Ты же не рассчитываешь на премию в этом месяце, да? В твоём положении даже думать об этом было бы глупо.
Раздалось сардоническое хихиканье, такое противное, что от него передёргивало. Кто бы мог подумать, что прогресс дойдет до того, что эти ошейники на кошках смогут с точностью переводить их речь, и даже воспроизводить таким образом смех. Их голоса были выше, почти как у детей, но отличались особой четкостью, у каждого был свой тембр, и это сходство с людьми пугало.
Мистер Маффин был крупным котом породы рэгдолл, белый с коричневыми пятнами по телу и "шторками" на лбу, а также имел черный хвост. Голубые глаза его были красивы, но их взгляд заставлял чувствовать себя так некомфортно, что нередко на лице выступала испарина от волнения. Он был боссом конторы на тридцать втором этаже, в которой Алекс и работал. А разве когда-то он представлял, что в один прекрасный день все изменится, и его злобным боссом станет не ворчливый дядя в пиджаке и галстуке, а котик, чей пушистый зад будет просиживать место в кожаном кресле?
- Сегодня среда, помнишь об этом? День, в который...
- День Великого Переворота. Помню, мистер Маффин.
- В три часа спускаемся вниз для пения гимна. Будь добр прийти, Алекс, а то я слышал, что ты перестал посещать Кошачьи Часы.
Внутри все оборвалось и заледенело от ужаса.
Молодой человек насторожено поднял глаза на босса, чья наглая морда выражала недобрые мысли этой пушистой головушки. Он изо всех сил попытался скрыть испуг в собственных глазах и сделать как можно более непринуждённый вид, успокоить голос, дабы дрожь не выдала его.
- Простите, мистер Маффин. Я так заработался, что совершенно забыл о Кошачьем Часе и...
- Можешь не врать, - даже через механический переводчик в этих словах слышался ледяной укор. - Я отсюда твое дыхание чувствую. Думаешь я не знаю?
И в этот момент Оражевый был готов умереть на месте, уже представляя, как в кабинет врывается КОТОлиция и вяжет его, и...
- Просто заканчивай запираться в туалете, ладно? Кабинка не место для сна и прогулов, друг мой.
Алекс с облегчением выдохнул.
- Да, мистер Маффин, извините. Больше не повторится.
- Очень уж на это надеюсь.
Дверь в кабинет открылась, и Алекс дернулся, думая, что за ним и вправду пришли, но это оказалась лишь секретарша, несущая мисочку с молоком.
- Ваше парное молоко, мистер Маффин. Приятного аппетита.
Белокурая девушка очаровательно улыбнулась и поспешила выйти из помещения. Котик проводил ее долгим немигающим взглядом.
- Эх, какая женщина... - он вдруг опомнился и перевел уже суровый взгляд на парня. - А ты... Твой напарник станет работником месяца уже в четвертый раз. Имей ввиду, что его могут скоро повысить и перевести на этаж выше, а к тебе приставят другого.
- Я знаю. Мне нравится Пушистик, и я правда постараюсь брать с него пример, - услужливым тоном парень сказал то, что всегда крутит в своей голове на случай подобной отмазки. Впрочем, это даже было почти правдой, так как ему и впрямь нравился его коллега.
- Вот-вот. Если хочешь, то старайся. Без напарника будет сложно, а с кем-то неподходящим - ещё сложнее. Посмотри хоть на них.
Алекс глянул на стену, на которой висело три портрета. На одном из них была изображена кошка, невероятно похожая на Маффина, но отличал ее от него лишь шрам на левом глазу. Это была Великая Баффи - та самая кошка, которая возглавляла движение кошачьей революции, впоследствии ставшая первым президентом кошачьей эпохи. Под её портретами два других. То были кошки, сестры, полосатая и черная, с говорящими именами - Полосатка и Чернота. Полосатка - нынешний, второй президент Нового Пушистого Мира, Чернота - ее правая лапа, советчик, а также заместитель. Эти двое смогли поставить мир на ноги, более или менее привести его в норму. Они прочно держали власть в когтях, умело управляли всеми государственными делами, но... Становилось понятно, что режим, который они создают, уж больно напоминает начало тоталитаризма, но говорить об этом вслух опасно - вольнодумие пресекается.
- В одиночку всегда труднее... - кот потупил взгляд, думая о чем-то. Не отрывая глаз от своей миски с молоком, он сказал: - Иди работай, Алекс. И смотри, не опаздывай.
Парень коротко кивнул и тихо выскользнул из кабинета. Он глубоко вздохнул, немного пришел в себя и пошел к своему рабочему месту. Теперь коты работают вместе с людьми, все верно. Коты стоят в управлении, все время находятся рядом с человеком, имеют равные с ним права - даже чуть больше - и многие из этих мурчащих ребят действительно милые, но есть и такие, которые считают своим главным долгом службу кошачьей партии, именно поэтому не пренебрегут возможностью показать свою верность. Нельзя сказать, что среди людей таких нет - есть, и примерно столько же, сколько таких котов. Доверять теперь никому нельзя, ведь однажды ты можешь проснуться, а в дверь уже ломятся, потому что кто-то донес на тебя за твои "неправильные" мысли. Самым подозрительным в этом плане являлся один серый косматый кот, который работал в одном офисе с Алексом. Именно он сейчас провожает его подозрительным пристальным взглядом со своего рабочего места.
Парень как всегда сделал вид, что не замечает его, но сердце предательски быстро колотилось.
Кабинет Алекса представлял собой небольшое помещение с прозрачными дверями, внутри которой было два рабочих места. За одним из таких сидел бежевый сфинкс, чья мордочка опять исказилась в гримасе растерянности.
- Алекс, наконец-то! Я опять что-то не то нажал и тут вылезла эта штука и я не могу ее убрать!
Незадачливый работник подошёл к своему не более умелому напарнику и другу по совместительству, чтобы исправить дело. Это происходит постоянно, несколько раз в день, и именно эти казусы с компьютером лысого котика их и сблизили.
- Пушистик, это просто парадокс, что ты с такими умениями идёшь на повышение.
- Когда-нибудь я точно нажму на что-то, из-за чего меня уволят... Я говорил, что моя далёкая прабабка была родом из Египта? Там кошкам поклонялись, а теперь нас заставляют работать. Мои предки были бы разочарованы.
- Говори потише. Меня и так уже поймали на пропуске той среды.
- Да ну! - Сфинкс обеспокоенно распахнул глаза и снизил голос до громкого шёпота. - Босс сказал?
- Да. Думаю, это Клубок донес. Я ему точно не нравлюсь, по глазам вижу, что он мне не доверяет. Постоянно следит за мной. Точно говорю - он из этих.
Немного помолчав, Алекс добавил:
- Ты тоже будь поосторожней. Такие, как он, и котов не пощадят, тут же сдадут.
Пушистик удручённо вздохнул и вновь начал набивать лапками по клавиатуре.
- Самое настоящее проклятье - думать как люди...
Шел четвертый год со Дня Великого Переворота. Осень, последние числа сентября. Небо, все ещё мрачное и плотно затянутое темными тучами, такими же темными, как и наступившая эпоха. Вся жизнь теперь проходит в ожидании грозы, и, увы, не в виде дождя или молний, а в облике острых когтей и разрывающего душу "мяу".
Идя на работу в офис, Алекс старался не думать об окружающем его мире, так как эти мысли зажигали в его сердце противоречивый огонек жажды справедливости. Будь он чуть смелее, чуть отважней или чуть глупее, он бы вступил в ряды анархистов, стал главным предводителем революции, но он лишь работник офиса, желающий простого спокойствия. Он долгое время пытался обрести его в Новом Пушистом Мире, в эпоху мягколапых, но самые разнообразные чувства терзали его душу, начиная со светлой ностальгии минувших светлых дней, заканчивая обидой и злобой на всех вокруг: на власть, главные должности которой теперь по большей части занимают коты, а остальные - люди, являющиеся приспешниками кошачьего режима; на злую судьбу и ее невероятные повороты, которые раньше можно было вообразить лишь в антиутопиях; на тех безмозглых людей и их подпольные опыты над кошками. О, на них он злился в особенности. Они разработали особую вакцину, вводили ее котам, и именно из-за нее в маленьких мозгах пушистиков начало вырабатываться некое вещество, от которого животные извилины становились уж больно походившими на человеческие. Коты стали думать как люди и, следует догадаться, нашли способ перехватить власть путем восстания. Все это сотворила нелегальная корпорация, которая теперь является коммерческим монстром и стала одной из частей двигателя современной цивилизации. Они ставили опыты над множеством котов, и того количества хватило, чтобы поработить мир...
Молодой работник едва успел вбежать в лифт, прежде чем он закроется. Он очень торопился передать боссу папку с бумагами, ибо задолжал это дело уже на два дня, что чревато выговором. Пока лифт продвигался вверх по небоскребу, мысли из головы временно исчезли, а как только двери распахнулись, парень, обуреваемый беспокойством, поспешил в нужный кабинет.
Он остановился перед прозрачной дверью, провел рукой по волосам, приглаживая их, и только потом набрался смелости постучаться.
- Войдите!
Молодой человек робко зашёл в помещение и тут же виновато потупил глаза, встречая неодобрительный взгляд, как всегда пронизывающий до каждой косточки.
- Малыш Алекс наконец соизволил выполнить рабочий долг! Ты же не рассчитываешь на премию в этом месяце, да? В твоём положении даже думать об этом было бы глупо.
Раздалось сардоническое хихиканье, такое противное, что от него передёргивало. Кто бы мог подумать, что прогресс дойдет до того, что эти ошейники на кошках смогут с точностью переводить их речь, и даже воспроизводить таким образом смех. Их голоса были выше, почти как у детей, но отличались особой четкостью, у каждого был свой тембр, и это сходство с людьми пугало.
Мистер Маффин был крупным котом породы рэгдолл, белый с коричневыми пятнами по телу и "шторками" на лбу, а также имел черный хвост. Голубые глаза его были красивы, но их взгляд заставлял чувствовать себя так некомфортно, что нередко на лице выступала испарина от волнения. Он был боссом конторы на тридцать втором этаже, в которой Алекс и работал. А разве когда-то он представлял, что в один прекрасный день все изменится, и его злобным боссом станет не ворчливый дядя в пиджаке и галстуке, а котик, чей пушистый зад будет просиживать место в кожаном кресле?
- Сегодня среда, помнишь об этом? День, в который...
- День Великого Переворота. Помню, мистер Маффин.
- В три часа спускаемся вниз для пения гимна. Будь добр прийти, Алекс, а то я слышал, что ты перестал посещать Кошачьи Часы.
Внутри все оборвалось и заледенело от ужаса.
Молодой человек насторожено поднял глаза на босса, чья наглая морда выражала недобрые мысли этой пушистой головушки. Он изо всех сил попытался скрыть испуг в собственных глазах и сделать как можно более непринуждённый вид, успокоить голос, дабы дрожь не выдала его.
- Простите, мистер Маффин. Я так заработался, что совершенно забыл о Кошачьем Часе и...
- Можешь не врать, - даже через механический переводчик в этих словах слышался ледяной укор. - Я отсюда твое дыхание чувствую. Думаешь я не знаю?
И в этот момент Оражевый был готов умереть на месте, уже представляя, как в кабинет врывается КОТОлиция и вяжет его, и...
- Просто заканчивай запираться в туалете, ладно? Кабинка не место для сна и прогулов, друг мой.
Алекс с облегчением выдохнул.
- Да, мистер Маффин, извините. Больше не повторится.
- Очень уж на это надеюсь.
Дверь в кабинет открылась, и Алекс дернулся, думая, что за ним и вправду пришли, но это оказалась лишь секретарша, несущая мисочку с молоком.
- Ваше парное молоко, мистер Маффин. Приятного аппетита.
Белокурая девушка очаровательно улыбнулась и поспешила выйти из помещения. Котик проводил ее долгим немигающим взглядом.
- Эх, какая женщина... - он вдруг опомнился и перевел уже суровый взгляд на парня. - А ты... Твой напарник станет работником месяца уже в четвертый раз. Имей ввиду, что его могут скоро повысить и перевести на этаж выше, а к тебе приставят другого.
- Я знаю. Мне нравится Пушистик, и я правда постараюсь брать с него пример, - услужливым тоном парень сказал то, что всегда крутит в своей голове на случай подобной отмазки. Впрочем, это даже было почти правдой, так как ему и впрямь нравился его коллега.
- Вот-вот. Если хочешь, то старайся. Без напарника будет сложно, а с кем-то неподходящим - ещё сложнее. Посмотри хоть на них.
Алекс глянул на стену, на которой висело три портрета. На одном из них была изображена кошка, невероятно похожая на Маффина, но отличал ее от него лишь шрам на левом глазу. Это была Великая Баффи - та самая кошка, которая возглавляла движение кошачьей революции, впоследствии ставшая первым президентом кошачьей эпохи. Под её портретами два других. То были кошки, сестры, полосатая и черная, с говорящими именами - Полосатка и Чернота. Полосатка - нынешний, второй президент Нового Пушистого Мира, Чернота - ее правая лапа, советчик, а также заместитель. Эти двое смогли поставить мир на ноги, более или менее привести его в норму. Они прочно держали власть в когтях, умело управляли всеми государственными делами, но... Становилось понятно, что режим, который они создают, уж больно напоминает начало тоталитаризма, но говорить об этом вслух опасно - вольнодумие пресекается.
- В одиночку всегда труднее... - кот потупил взгляд, думая о чем-то. Не отрывая глаз от своей миски с молоком, он сказал: - Иди работай, Алекс. И смотри, не опаздывай.
Парень коротко кивнул и тихо выскользнул из кабинета. Он глубоко вздохнул, немного пришел в себя и пошел к своему рабочему месту. Теперь коты работают вместе с людьми, все верно. Коты стоят в управлении, все время находятся рядом с человеком, имеют равные с ним права - даже чуть больше - и многие из этих мурчащих ребят действительно милые, но есть и такие, которые считают своим главным долгом службу кошачьей партии, именно поэтому не пренебрегут возможностью показать свою верность. Нельзя сказать, что среди людей таких нет - есть, и примерно столько же, сколько таких котов. Доверять теперь никому нельзя, ведь однажды ты можешь проснуться, а в дверь уже ломятся, потому что кто-то донес на тебя за твои "неправильные" мысли. Самым подозрительным в этом плане являлся один серый косматый кот, который работал в одном офисе с Алексом. Именно он сейчас провожает его подозрительным пристальным взглядом со своего рабочего места.
Парень как всегда сделал вид, что не замечает его, но сердце предательски быстро колотилось.
Кабинет Алекса представлял собой небольшое помещение с прозрачными дверями, внутри которой было два рабочих места. За одним из таких сидел бежевый сфинкс, чья мордочка опять исказилась в гримасе растерянности.
- Алекс, наконец-то! Я опять что-то не то нажал и тут вылезла эта штука и я не могу ее убрать!
Незадачливый работник подошёл к своему не более умелому напарнику и другу по совместительству, чтобы исправить дело. Это происходит постоянно, несколько раз в день, и именно эти казусы с компьютером лысого котика их и сблизили.
- Пушистик, это просто парадокс, что ты с такими умениями идёшь на повышение.
- Когда-нибудь я точно нажму на что-то, из-за чего меня уволят... Я говорил, что моя далёкая прабабка была родом из Египта? Там кошкам поклонялись, а теперь нас заставляют работать. Мои предки были бы разочарованы.
- Говори потише. Меня и так уже поймали на пропуске той среды.
- Да ну! - Сфинкс обеспокоенно распахнул глаза и снизил голос до громкого шёпота. - Босс сказал?
- Да. Думаю, это Клубок донес. Я ему точно не нравлюсь, по глазам вижу, что он мне не доверяет. Постоянно следит за мной. Точно говорю - он из этих.
Немного помолчав, Алекс добавил:
- Ты тоже будь поосторожней. Такие, как он, и котов не пощадят, тут же сдадут.
Пушистик удручённо вздохнул и вновь начал набивать лапками по клавиатуре.
- Самое настоящее проклятье - думать как люди...
Сугаченко Мария. В двух шагах от завтра до вчера
Он шел к своей цели. Медленно. Очень. Но это была его давняя мечта. Вокруг него было все светло-серое - просто светло-серое. Настолько, что казалось белым. Он шел почти вслепую, как шел почти всю жизнь. Лишь иногда показывались проблески белого и обычного серого, который казался самым черным на земле. Он уже привык к этому - все кажется не таким, каким оно является на самом деле.
Его лицо было изрезано морщинами. В одной была грусть о перенесённом горе. Лучики около глаз сохранили в себе воспоминания о радостных днях с семьей. Каждая морщинка хранила что-то свое. То, что сразу не разглядишь. То, что можно увидеть лишь в течение многих лет, с любовью глядя в это лицо.
Где-то среди этих морщин прятались глаза. Стального цвета моря. Моря, где он жил. Где он встретил жену, где они прожили много лет и откуда уехали его дети. Славное место. Раньше его глаза были другого цвета. Но это море... Оно изменило его.
Сейчас не было видно ни глаз цвета моря, ни волос, уже поседевших от пережитых радостей и горестей. Волосы цвета туч над морем. Они все скрывались за старой полинялой, но все такой же крепкой курткой, которая столько раз его спасала в холодные ветреные дни. В холодном северном море. Когда-то красного цвета, она теперь стала цвета старого маяка. Такого же старого, как и море. Наверное, когда море высохнет, он так и будет стоять. Маяк у несуществующего моря.
В этой куртке на дне карманов лежат старые крошки родного печенья, которое пекла его жена. Там же где-то валяются фантики ее любимых конфет, которые она туда складывала, когда в холодные вечера надевала эту куртку. Каждый раз говорила, что уберет их, и каждый раз забывала. Он их никогда не убирал. Они все также лежат - в книгах, в карманах, в каких-то альбомах. Сложенные так, чтобы не стерлись и не помялись. Где-то, завалившись в подкладку из дырки в кармане, лежит маленький оберег - простая безделушка, которую туда положила жена, думая, что он не заметит.
Он шел, вспоминая все это. Эта куртка защищала его от снега, который заполнял все пространство и всю Вселенную. Его кожа обветрилась от сильного ветра, глаза привыкли быть прищуренными. И все это: снег, море, фантики, пронизывающий ветер - смешивалось в один ветер, который пронизывал его сверху донизу.
Знак. Одиноко стоящий знак, показывающий, что здесь это место. Южный полюс. Место, где за один шаг можно вернуться во "вчера" или пойти в "завтра", всего за один шаг. Он медленно шел вокруг него. Никто бы никогда не догадался, что он делает. Это поймут только глаза, много лет смотрящие на него с любовью. Он отходил в прошлое. На месяцы и на годы. С каждым шагом. Путешествуя. Во времени и в своих воспоминаниях.
Он шел к своей цели. Медленно. Очень. Но это была его давняя мечта. Вокруг него было все светло-серое - просто светло-серое. Настолько, что казалось белым. Он шел почти вслепую, как шел почти всю жизнь. Лишь иногда показывались проблески белого и обычного серого, который казался самым черным на земле. Он уже привык к этому - все кажется не таким, каким оно является на самом деле.
Его лицо было изрезано морщинами. В одной была грусть о перенесённом горе. Лучики около глаз сохранили в себе воспоминания о радостных днях с семьей. Каждая морщинка хранила что-то свое. То, что сразу не разглядишь. То, что можно увидеть лишь в течение многих лет, с любовью глядя в это лицо.
Где-то среди этих морщин прятались глаза. Стального цвета моря. Моря, где он жил. Где он встретил жену, где они прожили много лет и откуда уехали его дети. Славное место. Раньше его глаза были другого цвета. Но это море... Оно изменило его.
Сейчас не было видно ни глаз цвета моря, ни волос, уже поседевших от пережитых радостей и горестей. Волосы цвета туч над морем. Они все скрывались за старой полинялой, но все такой же крепкой курткой, которая столько раз его спасала в холодные ветреные дни. В холодном северном море. Когда-то красного цвета, она теперь стала цвета старого маяка. Такого же старого, как и море. Наверное, когда море высохнет, он так и будет стоять. Маяк у несуществующего моря.
В этой куртке на дне карманов лежат старые крошки родного печенья, которое пекла его жена. Там же где-то валяются фантики ее любимых конфет, которые она туда складывала, когда в холодные вечера надевала эту куртку. Каждый раз говорила, что уберет их, и каждый раз забывала. Он их никогда не убирал. Они все также лежат - в книгах, в карманах, в каких-то альбомах. Сложенные так, чтобы не стерлись и не помялись. Где-то, завалившись в подкладку из дырки в кармане, лежит маленький оберег - простая безделушка, которую туда положила жена, думая, что он не заметит.
Он шел, вспоминая все это. Эта куртка защищала его от снега, который заполнял все пространство и всю Вселенную. Его кожа обветрилась от сильного ветра, глаза привыкли быть прищуренными. И все это: снег, море, фантики, пронизывающий ветер - смешивалось в один ветер, который пронизывал его сверху донизу.
Знак. Одиноко стоящий знак, показывающий, что здесь это место. Южный полюс. Место, где за один шаг можно вернуться во "вчера" или пойти в "завтра", всего за один шаг. Он медленно шел вокруг него. Никто бы никогда не догадался, что он делает. Это поймут только глаза, много лет смотрящие на него с любовью. Он отходил в прошлое. На месяцы и на годы. С каждым шагом. Путешествуя. Во времени и в своих воспоминаниях.
Мальцев Кирилл. Хрюша
Когда я изучаю старые чёрно-белые фотографии, сделанные в девяностых годах, я погружаюсь в атмосферу того времени. Я рассматриваю фотографии своей бабушки, где она с копной «химических» волос в духе «а ля Анджела Дэвис», да и другие её коллеги тоже все выглядят странно с огромными одинаковыми начёсами и в одинаковых платьях, и понимаю, что тридцать лет назад жизнь была совсем другой. У всех суровые и напряжённые лица, как будто придумали очередные ФГОСы и надо их немедленно внедрить в жизнь. Бабушка моя продолжает работать в школе, на её голове осталось совсем мало седых волос, она «немножко Байден», как говорит моя мама, но её рассказы про «лихие девяностые» я слышал в мельчайших подробностях миллион раз, потому что всё, что было раньше, она отлично помнит.
Мы живём в небольшом провинциальном городке, где все друг друга знают. В те далёкие годы все жители имели «хозяйство». Оно хрюкало, мычало, кудахтало, требуя заботы и еды. Во всём городе утро начиналось со звона вёдер, криков и разбирательств, кто не убирает за своей коровой.
Это было 22 февраля. В честь праздника школьный коллектив сократил уроки, выпроводил детей, накрыл столы в учительской и устроил гуляние. Несмотря на то, что в учительском коллективе было мало мужчин- физик, трудовик, физрук и вечно «подшофе» кочегар,- гуляние проходило шумно и весело. Каждое методобъединение готовило свой номер художественной самодеятельности, каждый приносил с собой коронное блюдо. И пусть селёдка под шубой была без селёдки, а кто-то приносил блины или огурцы «смерть фашизму», напиток домашний «слеза комсомолки»- всё было весело.
Моя бабушка решила уйти пораньше, так как дома её ждала шестилетняя дочь Аня. На площади стоял грузовик, там лежала гора сена, какой-то человек остановил мою бабушку и стал слёзно умолять купить поросёнка. Он говорил, что надо выдать зарплату работникам, а денег нет. Было так ветрено и холодно, мужичок просил так слёзно, поросёнок стоил совсем мало, что бабушка купила это замерзающее чудо, посадила его в сумку, где лежали тетради и журнал, и помчалась домой.
Дома её ждали. Когда она достала хрюшку из сумки, все сначала обрадовались. Поросёнок забился под батарею, пытаясь согреться. Прабабушка всплеснула руками и заявила, что в сарае слишком холодно для такого малыша, и пусть животное поживёт в квартире. Мы назвали поросёнка Хрюшей и даже помыли его в ванне в слабом растворе марганцовки. Хрюша стоял смирно, глазки его закатывались от удовольствия; видно было, что он любит тёплую водичку. Через пару дней поросёнок освоился: он носился по всей квартире, цокая своими маленькими копытцами. Он постоянно оставлял на полу лужицы и какашки, поэтому пришлось свернуть все ковры, паласы и дорожки. Хрюша подрос и научился залазить на кровать, диван и кресла. Он рылся своим пятаком в подушках и пододеяльниках, покусывал домочадцев за ноги, если они не гладили ему животик. Поросёнок ел кашу 6 раз в день и рос не по дням, а по часам. На ночь его закрывали в ванную комнату, потому что неприятно, когда хрюкающее создание спит с тобой на подушке. Часов в пять утра поросёнок начинал визжать, требуя еды. Соседи стали смотреть косо, изредка интересуясь странными звуками из нашей квартиры. Дедушка и прадедушка предлагали съесть поросёнка и обеспечить доступ в ванную комнату. Бабушка рыдала и цитировала Антуана де Сент-Экзюпери про ответственность о прирученных братьях наших меньших. Прабабушка молча шила кафтанчик для Хрюши. из бабушкиной старой шубы.
Седьмого марта Хрюшу торжественно выпроводили в сарай, предварительно нарядив в меховой кафтанчик.
Всё лето всем семейством рвали лебеду и крапиву, выкармливая поросёнка. Перед Новым годом Хрюшу зарезали. Всё это сопровождалось слезами, угрозами голодовки. Но вид отбивных, холодца, сала с прослойкой взял своё, и мы начали забывать нашего Хрюшу.
Рассказ об этом поросёнке передаётся из поколения в поколение в нашей семье и стал легендой.
Когда я изучаю старые чёрно-белые фотографии, сделанные в девяностых годах, я погружаюсь в атмосферу того времени. Я рассматриваю фотографии своей бабушки, где она с копной «химических» волос в духе «а ля Анджела Дэвис», да и другие её коллеги тоже все выглядят странно с огромными одинаковыми начёсами и в одинаковых платьях, и понимаю, что тридцать лет назад жизнь была совсем другой. У всех суровые и напряжённые лица, как будто придумали очередные ФГОСы и надо их немедленно внедрить в жизнь. Бабушка моя продолжает работать в школе, на её голове осталось совсем мало седых волос, она «немножко Байден», как говорит моя мама, но её рассказы про «лихие девяностые» я слышал в мельчайших подробностях миллион раз, потому что всё, что было раньше, она отлично помнит.
Мы живём в небольшом провинциальном городке, где все друг друга знают. В те далёкие годы все жители имели «хозяйство». Оно хрюкало, мычало, кудахтало, требуя заботы и еды. Во всём городе утро начиналось со звона вёдер, криков и разбирательств, кто не убирает за своей коровой.
Это было 22 февраля. В честь праздника школьный коллектив сократил уроки, выпроводил детей, накрыл столы в учительской и устроил гуляние. Несмотря на то, что в учительском коллективе было мало мужчин- физик, трудовик, физрук и вечно «подшофе» кочегар,- гуляние проходило шумно и весело. Каждое методобъединение готовило свой номер художественной самодеятельности, каждый приносил с собой коронное блюдо. И пусть селёдка под шубой была без селёдки, а кто-то приносил блины или огурцы «смерть фашизму», напиток домашний «слеза комсомолки»- всё было весело.
Моя бабушка решила уйти пораньше, так как дома её ждала шестилетняя дочь Аня. На площади стоял грузовик, там лежала гора сена, какой-то человек остановил мою бабушку и стал слёзно умолять купить поросёнка. Он говорил, что надо выдать зарплату работникам, а денег нет. Было так ветрено и холодно, мужичок просил так слёзно, поросёнок стоил совсем мало, что бабушка купила это замерзающее чудо, посадила его в сумку, где лежали тетради и журнал, и помчалась домой.
Дома её ждали. Когда она достала хрюшку из сумки, все сначала обрадовались. Поросёнок забился под батарею, пытаясь согреться. Прабабушка всплеснула руками и заявила, что в сарае слишком холодно для такого малыша, и пусть животное поживёт в квартире. Мы назвали поросёнка Хрюшей и даже помыли его в ванне в слабом растворе марганцовки. Хрюша стоял смирно, глазки его закатывались от удовольствия; видно было, что он любит тёплую водичку. Через пару дней поросёнок освоился: он носился по всей квартире, цокая своими маленькими копытцами. Он постоянно оставлял на полу лужицы и какашки, поэтому пришлось свернуть все ковры, паласы и дорожки. Хрюша подрос и научился залазить на кровать, диван и кресла. Он рылся своим пятаком в подушках и пододеяльниках, покусывал домочадцев за ноги, если они не гладили ему животик. Поросёнок ел кашу 6 раз в день и рос не по дням, а по часам. На ночь его закрывали в ванную комнату, потому что неприятно, когда хрюкающее создание спит с тобой на подушке. Часов в пять утра поросёнок начинал визжать, требуя еды. Соседи стали смотреть косо, изредка интересуясь странными звуками из нашей квартиры. Дедушка и прадедушка предлагали съесть поросёнка и обеспечить доступ в ванную комнату. Бабушка рыдала и цитировала Антуана де Сент-Экзюпери про ответственность о прирученных братьях наших меньших. Прабабушка молча шила кафтанчик для Хрюши. из бабушкиной старой шубы.
Седьмого марта Хрюшу торжественно выпроводили в сарай, предварительно нарядив в меховой кафтанчик.
Всё лето всем семейством рвали лебеду и крапиву, выкармливая поросёнка. Перед Новым годом Хрюшу зарезали. Всё это сопровождалось слезами, угрозами голодовки. Но вид отбивных, холодца, сала с прослойкой взял своё, и мы начали забывать нашего Хрюшу.
Рассказ об этом поросёнке передаётся из поколения в поколение в нашей семье и стал легендой.
Харченко Роман. Бессонница
Вокруг так темно. Холодный лунный песок словно замедляет кровь. Вокруг так тихо. В вакууме раздаются лишь удары по вискам. Бездонная ночь космоса затягивает. Остаётся вечно смотреть в её глубь, ничего не искать и даже желать найти. Просто вечно смотреть, словно на одну картину в галерее. Но удары всё громче. На стекле видны следы дыханья. Лёгкие выпускают весь воздух за раз и тут же набирают новый. Кто-то стоит за спиной. Темнота выплёвывает космонавта. Теперь он принадлежит не ей. Нечто, стоящее за спиной, теперь зовёт его. Он закрывает глаза - хочет опять в темноту. Страшно обернуться. Замёрзшие конечности приходят в движение, оледеневшие веки с трудом раскрывают глаза. Он оборачивается. Синий шар перекрывает ночь. С него выпадает серебряная точка, оставляющая блестящий хвост на своём пути. Наверное, это летят за ним.
Глухой удар разорвал вакуум.
Саша машинально поднялся с кровати. На окне остался стекающий след от снежка. На столе замигал огонек уведомления. Саша доковылял до окна. Там внизу, уперев руки в бок, стоял неразборчивый силуэт, который, осознав, что его наконец заметили, замахал руками. Стрелка часов давно перевалила за полночь. Саша сделал глубокий вдох, предвкушая приключения, ждущие его у двери подъезда. Он накинул куртку и вышел из квартиры.
Подъезд встретил его выученным за долгие годы проживания наскальным «искусством». Лестничные пролеты быстро оказались позади. Промёрзшая стальная дверь со скрипом отворилась. Холод сразу окатил мурашками. Не меняя позы, перед Сашей предстало его приключение - Соня. В темноте сверкнули её глубокие синие глаза. Взгляд Сони заставил Сашу покинуть царство снов. По всему телу разошлось тепло, словно он выпил горячий и бодрящий кофе.
- Та-дам! - пропела она, мягко подгибая ножку и указывая на раритетный автомобиль ушедшей эпохи.
Саша понял, что, выйдя из комнаты, подписал себе приговор. Соня угнала походную машину своего отца.
- Эй, я чего-то радости на лице не вижу!? Может, это на тебя краску нагонит? - сказала она и всё так же торжественно открыла багажник, в котором лежал длинный черный лакированный кейс и тренога.
Нет, Саша ошибался: приговор он подписал, когда познакомился с Соней. Она взяла телескоп отца. Саше уже ничего не оставалось, кроме как доверить свою судьбу Соне, стать её соучастником.
- Ну, так едем? - спросила Соня, нагнувшись и изящно подняв бровь.
- Конечно, едем, - ответил Саша, подходя к машине. - Но только куда едем?
- В бескрайнее русское поле.
Ответ полностью удовлетворил Сашу. И хотя конечный маршрут всё так же оставался загадкой, он, чтобы избежать звание тормоза, поспешил сесть в салон. Внутренность автомобиля была вся с любовью истёрта временем.
Соня умело надавила на педаль газа и повела машину по лунной дороге. В пути они в основном молчали. Кажется, в каком-то фильме, который советовала посмотреть Соня, говорилось, если встретишь особенного человека, то понимаешь, что с ним можно помолчать. Пожалуй, это было так. Саша оставался прикован мелькавшими за окном темными деревьями и казавшимся бесконечным полем. Мысленно он уже был в той темноте, и лишь изредка Соня выдёргивала его обратно в машину, рассказывая про свой ловкий угон.
Показался голубой знак и несколько рядов небольших домов.
- Мы уже почти на месте, так что просыпайся уже, - вернула в мир Сашу Соня.
Они проезжали мимо небольшой деревни. Саша теперь всматривался в потухшие окна домов. Сколько же таких выцветших голубых знаков, надписи на которых заспанный путник, если не увидит, то и не заметит различий пейзажа, а если и увидит или даже разберёт название, то долго в голове не продержит. Да, такие небольшие деревеньки, словно призраки, о которых знают лишь их немногочисленные жители. Самих жителей можно увидеть ещё реже. Они всегда в своих неизвестных заботах, которых, казалось бы, в такой глуши и быть не может. Жизнь здесь можно распознать лишь по большому количеству машин у дома: кто родился, кто женился, кто умер. После жизнь опять помещается в рамки знаков на въезде и выезде. И небо над такими поселениями всегда голубое, неглубокое, с парой тучек. А если и понадобится дождь, то быстро затянется оно тучами, и так же всё быстро пройдет, словно забудет про призрачный край.
Послышался резкий скрип колес. Машина накренилась набок, а после рухнула в привычное состояние. Саша повернулся проверить, всё ли в порядке с Соней. Она старалась быстрее выровнять руль и спрятать волнение на лице.
- Ой, ты извини, я чуть поворот не пропустила. Всё замело - ничего не разберёшь.
Всё и вправду замело. Белое поле было покрыто кратерами из-за ветра. Глубокое чёрное небо было усыпано звёздами. Машина подпрыгивала на каждой кочке, как в невесомости.
Спустя некоторое время Соня наконец заглушила мотор.
- Всё, высаживаемся, - сказала она, открывая дверь и наполняя салон холодным паром.
Соня с силой открыла багажник, вручила кейс Саше, а сама, взяв треногу и термос, повела его вглубь снежной пустыни.
Соня, словно атомный ледокол, раздвигала белые барханы. Вскоре она резко остановилась и кивком головы скомандовала: «Остановимся здесь!» Саша закрепил в сугробе треногу, а Соня умело вертела в руках детали телескопа. После окончания сборки над белой пустошью возвышался старый советский телескоп. Соня тут же прильнула к пластмассовому прицелу, периодически поглядывая в окуляр.
- Саша, тут...- она не договорила и обернулась, полная счастья, приглашая к окуляру.
Саша, заинтригованный увиденным Соней, присел и, чтобы не сбить прицел, медленно прислонился к серой трубе. На другом её конце оказалась луна. Она показалась лишь наполовину. По линии ночи проходил ряд кратеров, а уже от них шла серокаменная степь.
- Да, очень...- сказал он, отступая от телескопа и осматриваясь. Казалось, что пейзаж вокруг ничем не отличается.
Соня расплылась в радостной и отчасти самодовольной ухмылке. Она тут же стала искать Марс и даже поймала его. Долго расстраивалась, что в феврале все планеты рано прячутся. Показала по памяти все известные, а, возможно, и неоткрытые созвездия. В конце своего выступления она выдохлась и потянулась дрожащими от мороза руками за термосом с чаем, чтобы восстановить силы. Клубы лимонного пара растворились в морозном воздухе. Тепло разошлось по звездочетам-любителям. Саша замер и остановил взгляд на луне, хотя было видно, что рассматривает он не её, а, скорее, просто мысленно витает.
- Знаешь, а ведь я в детстве мечтал стать космонавтом, – начал Саша, не отводя взгляда от небесного тела. – Сейчас искал бы тебя оттуда в этом поле.
- А теперь о чём мечтаешь? – спросила Соня, задумчиво закинув голову к звёздам.
- Не знаю. В детстве всё казалось намного проще: захотел – стал. А может тот неосознанный выбор и был верным. Просто со временем мы его потеряли. Всё как-то потеряло свой смысл. Теперь хочется забыться и просто наблюдать, как в дороге, как сейчас здесь, как если бы я стал космонавтом. Я бы хотел просто смотреть. Без тревог, выборов. Взять и затеряться среди этого снега и ночи.
Соня не стала влезать в монолог. Ей хотелось больше послушать обычно немногословного Сашу.
Дыхание сбилось, холодный воздух всё сильнее стучал по легким. Всё тело закоченело и одновременно желало повернуться в сторону Сони. Саша выпал из объятий звёзд и посмотрел на спутницу. Её синие глаза разлились океаном на фоне ночи, ещё бы немного и Саша в них захлебнулся. С них катилось несколько блестящих линий: либо растаял иней, либо слезы.
- Саша, ты самый настоящий…
- Мечтатель? – перебил Саша.
- Нет! Ты самый настоящий дурак! – почти крикнула Соня, не отводя взгляда.
Дурак? Да, самый настоящий. Развёл демагогию, так ещё и Соню расстроил. Она угнала машину, взяла без спроса телескоп, притащилась с ним в такую даль и показала ночное небо. А ему чего? Всё бессмысленным кажется. Да как рядом с таким человеком о подобном заикаться можно? И что это за дурацкая привычка везде искать неясный смысл? Всё, чего сейчас хотел Саша, так это, чтобы лицо Сони опять спряталось в самодовольной ухмылке, хотел вновь почувствовать дрожь в теле от взгляда её синих глаз, хотел бы приехать с ней в поле не в феврале, а когда все планеты будут видны, и остаться на всю ночь.
- Соня, прости…
-Т-с-с-с, – прошептала она, приложив палец к губам. – Извиняться глазами у тебя получается лучше.
Соня поднялась, отряхнулась от снега и скомандовала собирать вещи. Они быстро разобрали и упаковали телескоп, погрузились в машину и отправились домой. В пути они так же особо не болтали. Саша всё чаще всматривался в Соню, а, когда она замечала это, прятал взгляд в лунной дороге.
Соня заехала к себе домой, чтобы Саша формально её проводил, а сам он отправился к себе пешком.
Он тихо пробрался в квартиру и рухнул пластом на кровать, почти сразу заснув. Под ногами вновь возник холодный лунный песок. Теперь взгляд Саши был прикован к синему шару, в котором всё четче стала проявляться Земля. Теперь он всё старался всмотреться в океан, его бездонный, волнующий синий цвет.
- Меня слышно? – раздался знакомый голос по каналу связи. – Быстрее залезай в корабль и возвращайся!
-Да, сейчас, - сказал Саша, даже не нажимая на кнопку связи. – Только ещё немного посмотрю.
Трель будильника заставила Сашу проснуться. В окно сквозь оставшийся след от снежка билось синее небо. От мысли, что нужно поскорее зайти за Соней, внутри разлилось теплое кофе. Саша быстро собрался и выбежал на улицу.
Вокруг так темно. Холодный лунный песок словно замедляет кровь. Вокруг так тихо. В вакууме раздаются лишь удары по вискам. Бездонная ночь космоса затягивает. Остаётся вечно смотреть в её глубь, ничего не искать и даже желать найти. Просто вечно смотреть, словно на одну картину в галерее. Но удары всё громче. На стекле видны следы дыханья. Лёгкие выпускают весь воздух за раз и тут же набирают новый. Кто-то стоит за спиной. Темнота выплёвывает космонавта. Теперь он принадлежит не ей. Нечто, стоящее за спиной, теперь зовёт его. Он закрывает глаза - хочет опять в темноту. Страшно обернуться. Замёрзшие конечности приходят в движение, оледеневшие веки с трудом раскрывают глаза. Он оборачивается. Синий шар перекрывает ночь. С него выпадает серебряная точка, оставляющая блестящий хвост на своём пути. Наверное, это летят за ним.
Глухой удар разорвал вакуум.
Саша машинально поднялся с кровати. На окне остался стекающий след от снежка. На столе замигал огонек уведомления. Саша доковылял до окна. Там внизу, уперев руки в бок, стоял неразборчивый силуэт, который, осознав, что его наконец заметили, замахал руками. Стрелка часов давно перевалила за полночь. Саша сделал глубокий вдох, предвкушая приключения, ждущие его у двери подъезда. Он накинул куртку и вышел из квартиры.
Подъезд встретил его выученным за долгие годы проживания наскальным «искусством». Лестничные пролеты быстро оказались позади. Промёрзшая стальная дверь со скрипом отворилась. Холод сразу окатил мурашками. Не меняя позы, перед Сашей предстало его приключение - Соня. В темноте сверкнули её глубокие синие глаза. Взгляд Сони заставил Сашу покинуть царство снов. По всему телу разошлось тепло, словно он выпил горячий и бодрящий кофе.
- Та-дам! - пропела она, мягко подгибая ножку и указывая на раритетный автомобиль ушедшей эпохи.
Саша понял, что, выйдя из комнаты, подписал себе приговор. Соня угнала походную машину своего отца.
- Эй, я чего-то радости на лице не вижу!? Может, это на тебя краску нагонит? - сказала она и всё так же торжественно открыла багажник, в котором лежал длинный черный лакированный кейс и тренога.
Нет, Саша ошибался: приговор он подписал, когда познакомился с Соней. Она взяла телескоп отца. Саше уже ничего не оставалось, кроме как доверить свою судьбу Соне, стать её соучастником.
- Ну, так едем? - спросила Соня, нагнувшись и изящно подняв бровь.
- Конечно, едем, - ответил Саша, подходя к машине. - Но только куда едем?
- В бескрайнее русское поле.
Ответ полностью удовлетворил Сашу. И хотя конечный маршрут всё так же оставался загадкой, он, чтобы избежать звание тормоза, поспешил сесть в салон. Внутренность автомобиля была вся с любовью истёрта временем.
Соня умело надавила на педаль газа и повела машину по лунной дороге. В пути они в основном молчали. Кажется, в каком-то фильме, который советовала посмотреть Соня, говорилось, если встретишь особенного человека, то понимаешь, что с ним можно помолчать. Пожалуй, это было так. Саша оставался прикован мелькавшими за окном темными деревьями и казавшимся бесконечным полем. Мысленно он уже был в той темноте, и лишь изредка Соня выдёргивала его обратно в машину, рассказывая про свой ловкий угон.
Показался голубой знак и несколько рядов небольших домов.
- Мы уже почти на месте, так что просыпайся уже, - вернула в мир Сашу Соня.
Они проезжали мимо небольшой деревни. Саша теперь всматривался в потухшие окна домов. Сколько же таких выцветших голубых знаков, надписи на которых заспанный путник, если не увидит, то и не заметит различий пейзажа, а если и увидит или даже разберёт название, то долго в голове не продержит. Да, такие небольшие деревеньки, словно призраки, о которых знают лишь их немногочисленные жители. Самих жителей можно увидеть ещё реже. Они всегда в своих неизвестных заботах, которых, казалось бы, в такой глуши и быть не может. Жизнь здесь можно распознать лишь по большому количеству машин у дома: кто родился, кто женился, кто умер. После жизнь опять помещается в рамки знаков на въезде и выезде. И небо над такими поселениями всегда голубое, неглубокое, с парой тучек. А если и понадобится дождь, то быстро затянется оно тучами, и так же всё быстро пройдет, словно забудет про призрачный край.
Послышался резкий скрип колес. Машина накренилась набок, а после рухнула в привычное состояние. Саша повернулся проверить, всё ли в порядке с Соней. Она старалась быстрее выровнять руль и спрятать волнение на лице.
- Ой, ты извини, я чуть поворот не пропустила. Всё замело - ничего не разберёшь.
Всё и вправду замело. Белое поле было покрыто кратерами из-за ветра. Глубокое чёрное небо было усыпано звёздами. Машина подпрыгивала на каждой кочке, как в невесомости.
Спустя некоторое время Соня наконец заглушила мотор.
- Всё, высаживаемся, - сказала она, открывая дверь и наполняя салон холодным паром.
Соня с силой открыла багажник, вручила кейс Саше, а сама, взяв треногу и термос, повела его вглубь снежной пустыни.
Соня, словно атомный ледокол, раздвигала белые барханы. Вскоре она резко остановилась и кивком головы скомандовала: «Остановимся здесь!» Саша закрепил в сугробе треногу, а Соня умело вертела в руках детали телескопа. После окончания сборки над белой пустошью возвышался старый советский телескоп. Соня тут же прильнула к пластмассовому прицелу, периодически поглядывая в окуляр.
- Саша, тут...- она не договорила и обернулась, полная счастья, приглашая к окуляру.
Саша, заинтригованный увиденным Соней, присел и, чтобы не сбить прицел, медленно прислонился к серой трубе. На другом её конце оказалась луна. Она показалась лишь наполовину. По линии ночи проходил ряд кратеров, а уже от них шла серокаменная степь.
- Да, очень...- сказал он, отступая от телескопа и осматриваясь. Казалось, что пейзаж вокруг ничем не отличается.
Соня расплылась в радостной и отчасти самодовольной ухмылке. Она тут же стала искать Марс и даже поймала его. Долго расстраивалась, что в феврале все планеты рано прячутся. Показала по памяти все известные, а, возможно, и неоткрытые созвездия. В конце своего выступления она выдохлась и потянулась дрожащими от мороза руками за термосом с чаем, чтобы восстановить силы. Клубы лимонного пара растворились в морозном воздухе. Тепло разошлось по звездочетам-любителям. Саша замер и остановил взгляд на луне, хотя было видно, что рассматривает он не её, а, скорее, просто мысленно витает.
- Знаешь, а ведь я в детстве мечтал стать космонавтом, – начал Саша, не отводя взгляда от небесного тела. – Сейчас искал бы тебя оттуда в этом поле.
- А теперь о чём мечтаешь? – спросила Соня, задумчиво закинув голову к звёздам.
- Не знаю. В детстве всё казалось намного проще: захотел – стал. А может тот неосознанный выбор и был верным. Просто со временем мы его потеряли. Всё как-то потеряло свой смысл. Теперь хочется забыться и просто наблюдать, как в дороге, как сейчас здесь, как если бы я стал космонавтом. Я бы хотел просто смотреть. Без тревог, выборов. Взять и затеряться среди этого снега и ночи.
Соня не стала влезать в монолог. Ей хотелось больше послушать обычно немногословного Сашу.
Дыхание сбилось, холодный воздух всё сильнее стучал по легким. Всё тело закоченело и одновременно желало повернуться в сторону Сони. Саша выпал из объятий звёзд и посмотрел на спутницу. Её синие глаза разлились океаном на фоне ночи, ещё бы немного и Саша в них захлебнулся. С них катилось несколько блестящих линий: либо растаял иней, либо слезы.
- Саша, ты самый настоящий…
- Мечтатель? – перебил Саша.
- Нет! Ты самый настоящий дурак! – почти крикнула Соня, не отводя взгляда.
Дурак? Да, самый настоящий. Развёл демагогию, так ещё и Соню расстроил. Она угнала машину, взяла без спроса телескоп, притащилась с ним в такую даль и показала ночное небо. А ему чего? Всё бессмысленным кажется. Да как рядом с таким человеком о подобном заикаться можно? И что это за дурацкая привычка везде искать неясный смысл? Всё, чего сейчас хотел Саша, так это, чтобы лицо Сони опять спряталось в самодовольной ухмылке, хотел вновь почувствовать дрожь в теле от взгляда её синих глаз, хотел бы приехать с ней в поле не в феврале, а когда все планеты будут видны, и остаться на всю ночь.
- Соня, прости…
-Т-с-с-с, – прошептала она, приложив палец к губам. – Извиняться глазами у тебя получается лучше.
Соня поднялась, отряхнулась от снега и скомандовала собирать вещи. Они быстро разобрали и упаковали телескоп, погрузились в машину и отправились домой. В пути они так же особо не болтали. Саша всё чаще всматривался в Соню, а, когда она замечала это, прятал взгляд в лунной дороге.
Соня заехала к себе домой, чтобы Саша формально её проводил, а сам он отправился к себе пешком.
Он тихо пробрался в квартиру и рухнул пластом на кровать, почти сразу заснув. Под ногами вновь возник холодный лунный песок. Теперь взгляд Саши был прикован к синему шару, в котором всё четче стала проявляться Земля. Теперь он всё старался всмотреться в океан, его бездонный, волнующий синий цвет.
- Меня слышно? – раздался знакомый голос по каналу связи. – Быстрее залезай в корабль и возвращайся!
-Да, сейчас, - сказал Саша, даже не нажимая на кнопку связи. – Только ещё немного посмотрю.
Трель будильника заставила Сашу проснуться. В окно сквозь оставшийся след от снежка билось синее небо. От мысли, что нужно поскорее зайти за Соней, внутри разлилось теплое кофе. Саша быстро собрался и выбежал на улицу.
Камалуддин Нуруллах. Как маленький я машину времени нашел
Одним летним солнечным днем, отсиживаясь в квартире, скучал маленький я. Гулять и играть было не с кем, ведь все мои друзья разъехались по деревням да лагерям. Родители на работе и вернутся только вечером. Тут мне вспомнилось про пневматический пистолет, подаренный на день рождения. Я, конечно, знал, что стрелять из него можно только на даче, но скука была страшнее возможных последствий.
Коробка с пистолетом лежала в шкафу в родительской комнате на самой верхней полке. Высота мне не помешала. Как обезьянка, маленький я взобрался по полкам наверх. Но тут встал вопрос: «Как спустить коробку вниз?». Одной рукой – страшно, можно упасть. Тогда мой мозг решил скинуть её куда-нибудь, а именно на родительскую кровать. Бросок был удачный, но не приземление: коробка упала на бедную кошку Бусю, соскользнула с кровати и грохнулась на пол.
Ой! – воскликнул я, тут же спрыгнув вниз.
К счастью, ни кошка, ни пистолет не пострадали. Я открыл коробку, и перед моими глазами предстал он. Большой, металлический, тяжелый, пистолет ощущался моим разумом, как настоящая пушка.
Я понимал, что нужна мишень, прочная, как монолит. Для неё отлично подходили мамины картонные стаканчики для рассады, сложенные друг в друга.
Схватив их, баночку с пульками и пистолет, я вприпрыжку побежал в столовую, где был длиннющий стол. Очевидно, что ставить мишень нужно на один конец, а вести стрельбу с другого конца стола. Так я и сделал. Ощущая себя снайпером, ведя высокоточную стрельбу, насколько мне позволяли мои детские руки, я не учел одного: на столе помимо мишени стояла ваза. По закону Мёрфи она разбилась от моего точного выстрела.
«Мне конец…», – мельком пронеслось в голове, но сдаваться не в моем стиле!
Оперативно я сложил пистолет и пульки в коробку и убрал всё на место – в шкаф. Осколки вазы сгреб и убрал в пакет. В мусорное ведро класть не стал, улики могут быть там обнаружены, и мой юный криминальный мозг это понимал. Стаканчики же я спрятал в пакете вместе с осколками и засунул всё это под кровать.
Следы были заметены, но боязнь наказания сменилась угрызениями совести. Совесть говорила мне, что поступок был очень плохим и неправильным. Я не мог перестать думать об этом.
И вот, момент «икс». Родители вернулись домой. Сердце билось, ладошки вспотели, но я держался как партизан, стараясь не вызывать подозрений. Поначалу всё было хорошо, родители не замечали пропажи, пока мы не сели ужинать. Тогда-то она и обнаружилась.
- Так, а где ваза? – сказала мама.
- Не знаю, - ответил ей отец.
- Сынок, ты целый день дома был, куда ваза подевалась? - спросила меня мама.
- Не знаю, - помотал я головой.
- Странно, на столе же стояла! – удивилась мама.
- Ничего, найдется, - обнадёжил её папа.
Больше речь о вазе не заходила, хоть мама и не оставляла попыток её найти. Я же никак не мог успокоиться. Совесть моя не унималась, стараясь заставить меня признаться, но страх заглушал её голос. Находиться в этом состоянии было мучительно, ощущение такое, что моя жизнь идет под откос.
Когда я лег в кровать, мои мысли были только об одном: «Как бы хорошо было, если бы я не сделал эту глупость. Почему я не могу просто вернуться назад и не делать этого?! Это ведь как…как дорога: если не туда свернул, просто вернись назад и иди правильно». С этими мыслями маленький я пролежал, казалось, всю ночь напролёт, ворочаясь и пытаясь уснуть.
На следующий день я решил гулять на улице. Друзей всё ещё не было, так что мне оставалось просто прохаживаться по двору, как вдруг за кустами показался странный объект. Это была синяя дверь с надписью «Машина времени». Она просто стояла посреди двора без какой-либо опоры и почему-то не падала. Я подошел и повернул ручку. Моему удивлению не было предела, когда, открыв её, я увидел не двор, а комнату, полностью из стали. Напротив были электронные часы с подписью над ними: «Сек. Мин. Час. День. Месяц. Год.». Внизу же находились кнопки в виде стрелок вверх и вниз под каждым из значений, а в центре стояла одна большая красная. Я понял: это шанс и сразу им воспользовался.
Выставив дату, время до вчерашнего события и нажав на кнопку, я перенёсся во вчерашний день, прямо домой, в столовую. Ваза, слава Богу, стояла всё на том же месте – на столе.
- Супер! – подумал я и снова побежал за пистолетом и мишенью. На этот раз мой младой ум догадался убрать вазу со стола, поставив её позади себя. Но это не спасло, и, после нескольких попаданий по стакану, одна из пулек рикошетом вновь попала в вазу.
Что ж, досадно, но не страшно, ведь машина времени позволяла мне без последствий исправить любую (как я тогда наивно думал) сделанную глупость. Я опять вернулся во времени назад. На этот раз желания пострелять как не бывало, настрелялся. Из-за беготни и нервов на меня напала дрема, но только ноги донесли меня до кровати, как внезапно звук крушения чего-то хрупкого смёл моё желание спать.
Прибежав в столовую, я увидел осколки вазы на полу и кошку Бусю на столе, греющуюся на солнце.
- А-а! Буся! – воскликнул я и сбросил кошку со стола.
Досадно и обидно было то, что я опять не проследил и не учел. Но ничего! Вновь к машине времени. На этот раз я был готов, как думал, ко всему. Пистолета я не брал, кошку я прогнал, и наконец-то улегся было спать, как позвонили мне друзья.
- Мы к тебе пришли, у подъезда вон стоим! Нам разрешили к тебе в гости! – кричали мне они, а мне и в радость их пустить.
Мы стали веселиться. Прятки, жмурки, догонялки, все меня так сильно веселило, что и позабыл мой разум обо всём. Во мне не было ни тоски, ни скуки и так до вечера мне было хорошо. Я и забыл о проблемах и о прочем. Правда, потом веселье резко прекратилось. Сумерки – друзья все испарились, а результат всё тот же: я стою перед разбитой вазой и перед фактом – я совершил ошибку. За окном темно, в доме засиял теплый свет люстр, а я захныкал, не знаю отчего. Наверно от беспомощности.
Звон в дверь заставил мое сердце ёкнуть. В прихожей папа.
- Сынок, - сказал он еле слышно, а затем громко повторил, - Сынок! – и я проснулся.
- Сынок, мы пошли, хорошего дня, - сказал он и ушел, захлопнув дверь.
Потерев глаза, я наконец-то проснулся.
«Вот это сон…» - стояла мысль в моей голове.
Думая о нем, я, наконец, осознал то, что и так было у меня в душе. Я понял, что не могу изменить прошлое или просто его забыть, бросив последствия на самотёк. Время – дорога в один конец, и я могу лишь выбирать путь. Моё желание избавиться от чувства беспомощности и угрызений совести заставило меня взбодриться и исправлять ошибку. В конце концов, каждый совершает ошибки своими собственными руками, так что мешает нам ими же и исправить их?
Мои действия были ещё решительней, чем вчера, когда мне хотелось пострелять. Энтузиазм бил из всех щелей. Я быстро вытащил пакет с осколками и стаканчиками, расстелил на стол клеёнку, взял клей, ножницы, картон. Вырезал заплатки и аккуратно приклеил их на дырки у стаканчиков.
Закончив с этим, я принялся по кусочкам склеивать вазу. Поначалу пытался делать это голыми руками, но потом догадался взять пинцет. Воображая себя строителем, я сперва наносил клей, будто это бетон, потом укладывал кирпич – кусочек вазы. Усердно и усидчиво старался в течение всего дня, в итоге получилась несуразная, кривая, но всё же ваза.
Когда закончил, мне стало так приятно и легко. С меня будто сняли Эверест, и мне хотелось взлететь! Теперь не было страха признаться родителям, ведь ошибку я исправил и старался очень сильно, всем сердцем. Даже если меня отругают и накажут, мне не будет так обидно и неприятно, как от мук собственной совести. Да и я, признаться честно, тогда гордился собой очень сильно.
Наступил вечер, родители вернулись и обнаружили на столе склеенное мною нечто.
- А, так вот куда ваза делась, - сказала мама, скрестив руки на груди.
- Да, я её разбил, когда стрелял из пневматического пистолета, а ещё я стрелял в твои стаканчики, но дырки я все заклеил, - стыдливо объяснялся маленький я. Несмотря на то, что раньше решительности было больше, сейчас всё же проступила робость, но я не струсил.
- Э-эх, сынок! – воскликнул отец, прижав меня к себе одной рукой и растерев мою макушку кулаком другой руки.
- Ладно, - отпустил он меня и продолжил, - что сделано, то сделано. Просто в следующий раз не ври нам, ясно?
- Да, и лучше думай, прежде чем что-то сделать, - добавила мама.
- Ясно, - стеснительно кивнул я, улыбаясь.
В ближайший выходной день мы пошли в магазин. Там я выбрал новую вазу. Она была ещё лучше и красивее прежней. Склеенную же вазу родители не выкинули. Плод моего кропотливого труда стал мне напоминанием о пережитом и о полученном мной уроке.
Одним летним солнечным днем, отсиживаясь в квартире, скучал маленький я. Гулять и играть было не с кем, ведь все мои друзья разъехались по деревням да лагерям. Родители на работе и вернутся только вечером. Тут мне вспомнилось про пневматический пистолет, подаренный на день рождения. Я, конечно, знал, что стрелять из него можно только на даче, но скука была страшнее возможных последствий.
Коробка с пистолетом лежала в шкафу в родительской комнате на самой верхней полке. Высота мне не помешала. Как обезьянка, маленький я взобрался по полкам наверх. Но тут встал вопрос: «Как спустить коробку вниз?». Одной рукой – страшно, можно упасть. Тогда мой мозг решил скинуть её куда-нибудь, а именно на родительскую кровать. Бросок был удачный, но не приземление: коробка упала на бедную кошку Бусю, соскользнула с кровати и грохнулась на пол.
Ой! – воскликнул я, тут же спрыгнув вниз.
К счастью, ни кошка, ни пистолет не пострадали. Я открыл коробку, и перед моими глазами предстал он. Большой, металлический, тяжелый, пистолет ощущался моим разумом, как настоящая пушка.
Я понимал, что нужна мишень, прочная, как монолит. Для неё отлично подходили мамины картонные стаканчики для рассады, сложенные друг в друга.
Схватив их, баночку с пульками и пистолет, я вприпрыжку побежал в столовую, где был длиннющий стол. Очевидно, что ставить мишень нужно на один конец, а вести стрельбу с другого конца стола. Так я и сделал. Ощущая себя снайпером, ведя высокоточную стрельбу, насколько мне позволяли мои детские руки, я не учел одного: на столе помимо мишени стояла ваза. По закону Мёрфи она разбилась от моего точного выстрела.
«Мне конец…», – мельком пронеслось в голове, но сдаваться не в моем стиле!
Оперативно я сложил пистолет и пульки в коробку и убрал всё на место – в шкаф. Осколки вазы сгреб и убрал в пакет. В мусорное ведро класть не стал, улики могут быть там обнаружены, и мой юный криминальный мозг это понимал. Стаканчики же я спрятал в пакете вместе с осколками и засунул всё это под кровать.
Следы были заметены, но боязнь наказания сменилась угрызениями совести. Совесть говорила мне, что поступок был очень плохим и неправильным. Я не мог перестать думать об этом.
И вот, момент «икс». Родители вернулись домой. Сердце билось, ладошки вспотели, но я держался как партизан, стараясь не вызывать подозрений. Поначалу всё было хорошо, родители не замечали пропажи, пока мы не сели ужинать. Тогда-то она и обнаружилась.
- Так, а где ваза? – сказала мама.
- Не знаю, - ответил ей отец.
- Сынок, ты целый день дома был, куда ваза подевалась? - спросила меня мама.
- Не знаю, - помотал я головой.
- Странно, на столе же стояла! – удивилась мама.
- Ничего, найдется, - обнадёжил её папа.
Больше речь о вазе не заходила, хоть мама и не оставляла попыток её найти. Я же никак не мог успокоиться. Совесть моя не унималась, стараясь заставить меня признаться, но страх заглушал её голос. Находиться в этом состоянии было мучительно, ощущение такое, что моя жизнь идет под откос.
Когда я лег в кровать, мои мысли были только об одном: «Как бы хорошо было, если бы я не сделал эту глупость. Почему я не могу просто вернуться назад и не делать этого?! Это ведь как…как дорога: если не туда свернул, просто вернись назад и иди правильно». С этими мыслями маленький я пролежал, казалось, всю ночь напролёт, ворочаясь и пытаясь уснуть.
На следующий день я решил гулять на улице. Друзей всё ещё не было, так что мне оставалось просто прохаживаться по двору, как вдруг за кустами показался странный объект. Это была синяя дверь с надписью «Машина времени». Она просто стояла посреди двора без какой-либо опоры и почему-то не падала. Я подошел и повернул ручку. Моему удивлению не было предела, когда, открыв её, я увидел не двор, а комнату, полностью из стали. Напротив были электронные часы с подписью над ними: «Сек. Мин. Час. День. Месяц. Год.». Внизу же находились кнопки в виде стрелок вверх и вниз под каждым из значений, а в центре стояла одна большая красная. Я понял: это шанс и сразу им воспользовался.
Выставив дату, время до вчерашнего события и нажав на кнопку, я перенёсся во вчерашний день, прямо домой, в столовую. Ваза, слава Богу, стояла всё на том же месте – на столе.
- Супер! – подумал я и снова побежал за пистолетом и мишенью. На этот раз мой младой ум догадался убрать вазу со стола, поставив её позади себя. Но это не спасло, и, после нескольких попаданий по стакану, одна из пулек рикошетом вновь попала в вазу.
Что ж, досадно, но не страшно, ведь машина времени позволяла мне без последствий исправить любую (как я тогда наивно думал) сделанную глупость. Я опять вернулся во времени назад. На этот раз желания пострелять как не бывало, настрелялся. Из-за беготни и нервов на меня напала дрема, но только ноги донесли меня до кровати, как внезапно звук крушения чего-то хрупкого смёл моё желание спать.
Прибежав в столовую, я увидел осколки вазы на полу и кошку Бусю на столе, греющуюся на солнце.
- А-а! Буся! – воскликнул я и сбросил кошку со стола.
Досадно и обидно было то, что я опять не проследил и не учел. Но ничего! Вновь к машине времени. На этот раз я был готов, как думал, ко всему. Пистолета я не брал, кошку я прогнал, и наконец-то улегся было спать, как позвонили мне друзья.
- Мы к тебе пришли, у подъезда вон стоим! Нам разрешили к тебе в гости! – кричали мне они, а мне и в радость их пустить.
Мы стали веселиться. Прятки, жмурки, догонялки, все меня так сильно веселило, что и позабыл мой разум обо всём. Во мне не было ни тоски, ни скуки и так до вечера мне было хорошо. Я и забыл о проблемах и о прочем. Правда, потом веселье резко прекратилось. Сумерки – друзья все испарились, а результат всё тот же: я стою перед разбитой вазой и перед фактом – я совершил ошибку. За окном темно, в доме засиял теплый свет люстр, а я захныкал, не знаю отчего. Наверно от беспомощности.
Звон в дверь заставил мое сердце ёкнуть. В прихожей папа.
- Сынок, - сказал он еле слышно, а затем громко повторил, - Сынок! – и я проснулся.
- Сынок, мы пошли, хорошего дня, - сказал он и ушел, захлопнув дверь.
Потерев глаза, я наконец-то проснулся.
«Вот это сон…» - стояла мысль в моей голове.
Думая о нем, я, наконец, осознал то, что и так было у меня в душе. Я понял, что не могу изменить прошлое или просто его забыть, бросив последствия на самотёк. Время – дорога в один конец, и я могу лишь выбирать путь. Моё желание избавиться от чувства беспомощности и угрызений совести заставило меня взбодриться и исправлять ошибку. В конце концов, каждый совершает ошибки своими собственными руками, так что мешает нам ими же и исправить их?
Мои действия были ещё решительней, чем вчера, когда мне хотелось пострелять. Энтузиазм бил из всех щелей. Я быстро вытащил пакет с осколками и стаканчиками, расстелил на стол клеёнку, взял клей, ножницы, картон. Вырезал заплатки и аккуратно приклеил их на дырки у стаканчиков.
Закончив с этим, я принялся по кусочкам склеивать вазу. Поначалу пытался делать это голыми руками, но потом догадался взять пинцет. Воображая себя строителем, я сперва наносил клей, будто это бетон, потом укладывал кирпич – кусочек вазы. Усердно и усидчиво старался в течение всего дня, в итоге получилась несуразная, кривая, но всё же ваза.
Когда закончил, мне стало так приятно и легко. С меня будто сняли Эверест, и мне хотелось взлететь! Теперь не было страха признаться родителям, ведь ошибку я исправил и старался очень сильно, всем сердцем. Даже если меня отругают и накажут, мне не будет так обидно и неприятно, как от мук собственной совести. Да и я, признаться честно, тогда гордился собой очень сильно.
Наступил вечер, родители вернулись и обнаружили на столе склеенное мною нечто.
- А, так вот куда ваза делась, - сказала мама, скрестив руки на груди.
- Да, я её разбил, когда стрелял из пневматического пистолета, а ещё я стрелял в твои стаканчики, но дырки я все заклеил, - стыдливо объяснялся маленький я. Несмотря на то, что раньше решительности было больше, сейчас всё же проступила робость, но я не струсил.
- Э-эх, сынок! – воскликнул отец, прижав меня к себе одной рукой и растерев мою макушку кулаком другой руки.
- Ладно, - отпустил он меня и продолжил, - что сделано, то сделано. Просто в следующий раз не ври нам, ясно?
- Да, и лучше думай, прежде чем что-то сделать, - добавила мама.
- Ясно, - стеснительно кивнул я, улыбаясь.
В ближайший выходной день мы пошли в магазин. Там я выбрал новую вазу. Она была ещё лучше и красивее прежней. Склеенную же вазу родители не выкинули. Плод моего кропотливого труда стал мне напоминанием о пережитом и о полученном мной уроке.
Басова Ульяна. Из-под синевы в темноту
1969 год, Южная граница В.
Я помню, как проснулся в тот день и понял, что никогда не смогу выбраться из этого кошмара. Мои друзья Джимми и Ллойд сидели на бревне и тихо над чем-то посмеивались. Голова гудела, но, собрав силу в кулак, я поднялся и вышел из палатки.
Яркий солнечный свет ударил в лицо, я поморщился и закрыл глаза рукой, позже приглядевшись, я заметил на ней вчерашнюю кровь. Мне стало смешно и горестно оттого, что сегодня, в наш последний день, светит солнце, что Джимми и Ллойд смеются над пошлой шуткой, что Док подбадривающе хлопает Генри по плечу, единственному уцелевшему месту на его теле. Я не мог спокойно на это смотреть, поэтому решил пойти к Рэю, старику лет так 60, низенький, на голове седые, но на удивление густые волосы. Рэй Холл сидел дальше всех от лагеря, на бугре в лесу, я аккуратно подошёл и опустил руку на его плечо. Он обернулся и добро мне улыбнулся, и морщинки заплясали вокруг его печальных глаз.
– Парниша, ты чего тут, а? Вон, молодь ловит миг, а ты тут, со старым хрычом ошиваешься…
– Рэй, да будет тебе, ничего ты не старый. Я не хочу быть с ними, они уж слишком весёлые. А ты здесь один…
– Ха, сынок, иди покуда жив пока, повеселись напоследок…
Минут с 5 мы молчали, каждый думая о своём, я прислушивался к тишине. Птицы не пели, ничего не гремело, никто не кричал. Затишье перед бурей.
– Эх, тихо сегодня, не к добру – сказал старик, доставая самокрутку из кармана.
– М-да-а-а, даже Джимми сегодня про девушек не так громко шутит. – Я усмехнулся. Мне было страшно.
– Ай, этот мальчишка… Он должен вернуться к Бетти. – меня затошнило, но я всё равно безмолвно улыбнулся.
Так мы с приятелем Рэем просидели до вечера, тихо переговариваясь и впитывая разумом и телом последний день…
В 7 часов вечера, это я точно помню, наш лагерь выдвинулся в путь. Я помню, как все шли будто уже мертвы, никто не говорил, не шептал грязные шуточки, все просто следовали за направляющим. Мы все знали, что не вернёмся на базу, не приедем на Рождество к семьям, не услышим новые песни Creedence, не сможем рассказать об этом маме или подруге.
Мы шли и шли, уже начинался закат, а мы всё шли и шли. Часов так в 8, да, по-моему, в 8, тогда ещё светло было. Мы подошли к туннелю, он был миль 20 не меньше. Нам не сказали скидывать рюкзаки и разжигать костры, нет, наоборот нам дали 5 минут покурить и оправиться, может попрощаться…
Я пошел в сторону Джимми и Ллойда, они стояли справа от туннеля и курили. Я подошёл и тоже достал самокрутку, никто так и не произнёс слова. Прошло 5 минут, но мне показалось, что пролетела вся жизнь, и главный окликнул нас. Все стояли и слушали, что он говорил, все кроме меня… Я смотрел на темнеющее небо над головой и думал, что это самый прекрасный закат в моей жизни...
Капитан закончил, и мы всё также бесшумно протискивались в туннель, я смотрел на небо, скрывающееся за бетонным потолком. Я пытался уловить его свет, но оно продолжало стремительно ускользать от моего взора и… Оно исчезло, и в эту же секунду я услышал крики, стрельбу и шлепки падающих тел.
Начался бой…
*Из-под синевы в темноту – на вьетнамском лексиконе означает уход солдат из-под синевы неба в темноту вьетконговских туннелей.
1969 год, Южная граница В.
Я помню, как проснулся в тот день и понял, что никогда не смогу выбраться из этого кошмара. Мои друзья Джимми и Ллойд сидели на бревне и тихо над чем-то посмеивались. Голова гудела, но, собрав силу в кулак, я поднялся и вышел из палатки.
Яркий солнечный свет ударил в лицо, я поморщился и закрыл глаза рукой, позже приглядевшись, я заметил на ней вчерашнюю кровь. Мне стало смешно и горестно оттого, что сегодня, в наш последний день, светит солнце, что Джимми и Ллойд смеются над пошлой шуткой, что Док подбадривающе хлопает Генри по плечу, единственному уцелевшему месту на его теле. Я не мог спокойно на это смотреть, поэтому решил пойти к Рэю, старику лет так 60, низенький, на голове седые, но на удивление густые волосы. Рэй Холл сидел дальше всех от лагеря, на бугре в лесу, я аккуратно подошёл и опустил руку на его плечо. Он обернулся и добро мне улыбнулся, и морщинки заплясали вокруг его печальных глаз.
– Парниша, ты чего тут, а? Вон, молодь ловит миг, а ты тут, со старым хрычом ошиваешься…
– Рэй, да будет тебе, ничего ты не старый. Я не хочу быть с ними, они уж слишком весёлые. А ты здесь один…
– Ха, сынок, иди покуда жив пока, повеселись напоследок…
Минут с 5 мы молчали, каждый думая о своём, я прислушивался к тишине. Птицы не пели, ничего не гремело, никто не кричал. Затишье перед бурей.
– Эх, тихо сегодня, не к добру – сказал старик, доставая самокрутку из кармана.
– М-да-а-а, даже Джимми сегодня про девушек не так громко шутит. – Я усмехнулся. Мне было страшно.
– Ай, этот мальчишка… Он должен вернуться к Бетти. – меня затошнило, но я всё равно безмолвно улыбнулся.
Так мы с приятелем Рэем просидели до вечера, тихо переговариваясь и впитывая разумом и телом последний день…
В 7 часов вечера, это я точно помню, наш лагерь выдвинулся в путь. Я помню, как все шли будто уже мертвы, никто не говорил, не шептал грязные шуточки, все просто следовали за направляющим. Мы все знали, что не вернёмся на базу, не приедем на Рождество к семьям, не услышим новые песни Creedence, не сможем рассказать об этом маме или подруге.
Мы шли и шли, уже начинался закат, а мы всё шли и шли. Часов так в 8, да, по-моему, в 8, тогда ещё светло было. Мы подошли к туннелю, он был миль 20 не меньше. Нам не сказали скидывать рюкзаки и разжигать костры, нет, наоборот нам дали 5 минут покурить и оправиться, может попрощаться…
Я пошел в сторону Джимми и Ллойда, они стояли справа от туннеля и курили. Я подошёл и тоже достал самокрутку, никто так и не произнёс слова. Прошло 5 минут, но мне показалось, что пролетела вся жизнь, и главный окликнул нас. Все стояли и слушали, что он говорил, все кроме меня… Я смотрел на темнеющее небо над головой и думал, что это самый прекрасный закат в моей жизни...
Капитан закончил, и мы всё также бесшумно протискивались в туннель, я смотрел на небо, скрывающееся за бетонным потолком. Я пытался уловить его свет, но оно продолжало стремительно ускользать от моего взора и… Оно исчезло, и в эту же секунду я услышал крики, стрельбу и шлепки падающих тел.
Начался бой…
*Из-под синевы в темноту – на вьетнамском лексиконе означает уход солдат из-под синевы неба в темноту вьетконговских туннелей.
Дмитриева Анна. Может, следующая принесет больше толка
Яркая лампа освещает берёзовый стол: стопку бумаги, белый стаканчики для ручек, жужжание электронного календаря старой модели Б-4 и яркие фотографии в простых рамках. Всё светлое, чистое, и, кажется, даже тень от кружки бледнеет от стыда ли, от волнения, от удивления. В любом случае живо и активно — и как будто бы не под стать этому порядку. Но стол вообще-то тоже живой.
Даже лучше сказать, подвижный. Из стопки выбивается множество краешков листа, на половине ручек нету колпачков, у половины — паста вниз скатилась, и на стаканчике висят степлер, скрепки, зажимы. И фотографии... Нет, мгновения, — настоящие! Настоящие мгновения жизни — сами эти мгновения, переглядываются и хохочут, потому что выглядят в своих нарядах из девяностых нелепо.
"Даже глупее, чем мальчишка за столом," — наверное, думают они, ведь и смех, и даже брюзжание календаря стихает, когда из темноты комнаты за кружкой тянется белая рука.
Юноша трёт глаза, зевает и рассматривает перед собой…
Нет, правда, кажется, что снимки и впрямь вскидывает голову и присматриваются! Будто бы дневник этого самого мальчишки мог представлять из себя что-то важное. Взгляды людей со снимков смущают до того, что молодой человек решительно, но аккуратно роняет их вниз. И лишь после этого вновь возвращается к записям, дополняя выведенные часом ранее:
"Понедельник, 4 марта.
Открылся музей А. С. Пушкина, куда меня позвала коллега К (я согласился от того, что она замечательная). Видели целый зал дневников. Не задержались, коллега озвучила мои мысли:
— Все эти дневники — напрасная трата бумаги и времени.
— Наверное, такие люди писали их, чтобы запомниться в истории не только своими стихами, — добавил я ещё, глядя, как серьёзно К нахмурила брови.
— Или оправдаться.
Ну, мне скрывать нечего, я даже оправдываться не стану. Поэтому у меня не дневник, у меня история лечения. Всё-таки то, что со мной случилось, всего лишь болезнь. Чуть сложнее простуды, не серьёзнее ангины.
Слабость. Началась в середине рабочего дня. Хотелось всё бросить и уйти. И мысли о светлом будущем и всяких перспективах не подбодрили. Хотя, когда директор во время обеда поинтересовалась, в норме ли я, стало как будто бы легче. Я и ляпнул, что в норме, сейчас — уже не знаю. Не знаю и не понимаю, что это, зачем и как бороться.
Может быть, сон поможет. Он всегда помогал при болезнях."
Новая запись появляется на том же берёзовом столе, но теперь — среди нескольких документов и шуршащих шоколадных конфет, а ещё под взглядами снимков:
"Вторник, 5 марта.
Слабость со мной с самого утра. Бесит и отвлекает, пришлось даже пару бумаг с собой взять. Времени на работе совсем нет: пытаюсь не уснуть, — будто хмель на глазах какая-то. На глазах и на плечах. И всё, собака, впитывает мои силы, желания. Работается только со "Нивой" и чаем. Как в детстве, когда математику делал. Даже та самая ностальгия берёт (вспоминал слово, кажется, минут десять). И сразу хочется, может быть, к родителям. Или на дачу, как когда-то.
Может быть, домой съездить. Не зря же хочется — вдруг поможет."
Последние два дня, садясь за стол, молодой человек наблюдал в окне, как брюзжал закат. Теперь же перед ним открылся вид центральной улица, укутавшейся в сумерки, обвесившейся в жёлтые фонари и мерцающей цветными машинами. Они вереницей тянулись издалёка в самую глубь сумерек.
Но уже скоро в стёклах вместо центра отразилась вся белая комната: с застеленной смешным покрывалом кроватью, длинным шкафом, блестящей люстрой. И сгорбленная над столом фигура в этом порядке казалась несколько смешной, особенно когда силилась прицепить к страницам тонкой тетради несколько ярких стикеров, на которых рассыпались неаккуратные узоры. Рядом с ними появляется столь же небрежная надпись:
"Среда, 6 марта, разговор с коллегой М из соседнего отдела.
М вообще-то человек неглупый. Я его всегда уважал, к нему многие относятся внимательно, по-дружески. Но бесед у нас не случалось: я их издалека видел. Тут он предложил чай, вспомнил о доме, детстве, об Эрмитаже…
— А в художники-то метил? — спросил его я ещё. Только шутливо.
— Да, раньше всё думал, что стану кем-нибудь вроде Писсарро, — он ответил, кажется, тоже усмехаясь, но, кажется, и совсем серьёзно, прямо-таки уткнувшись взглядом мне в лоб. — Хотел написать свою улицу П города Л. И в детстве ещё думал, что отвечу на каком-нибудь интервью, что все эти места для меня не просто родные — что-то типо вдохновляющих, заряжающих… А поле моё деревенское — лучистое, греет до сих пор. И представлял, как эти картины потом перерисуют в разных фильтрах, и… Ой, кстати, — и вдруг лицо М, светлое и чистое, словно поле из детства, вдруг превратилось в серый бетон, а глаза-васильки расплылись в мутную лужу. — Уже час, пойду работать.
— Нам ведь в одну сторону? Может, вместе дойдём? Про художников ещё расскажешь?
— Договорились, — и ведь я правда увидел, как у него вновь ресницы отливают голубым-васильковым.
Но это только бы подумал пару месяцев назад, что М странный, глупый, знает бесполезных художников и гордится этим. А сейчас я не работаю, я слаб. И я посмотрел, что за картина — у Писсарро бульвар Монмартр действительно вышел красивым. Живым. И в разных, как сказал М, фильтрах выглядит одинаково здорово. Почему М пошёл в бухгалтеры, если хотел рисовать. Может быть, у него бы что-нибудь дельное вышло.
Художники, писатели, музыканты — они ведь тоже для страны, для внешней политики отчасти, а иногда и для внутреннего спокойствия (или всё же не политики собственной — сердечной. Типо?).
Может быть, мне тоже рисовать?"
Свет лампы ныряет в две пустые кружки, растягивается на старой книге А. С. Пушкина и укрывает календарь Б-4. Он, к слову, не жужжит — затих, потух, стал лишь подставкой для двух пачек ярких стикеров. Молодой человек шуршит фантикам от леденцов, сгребая их в мусорный пакет, чтобы рассыпать новые. Потом. Попозже. Конечно, вместе с зелёненькими обёртками от "Нивы". Главное в ведро не смахнут миленькие фотокарточки из дома: с пасмурным полем, стареньким зданием и какой-то блондинкой. Ну, и ручки было бы хорошо не потревожить — паста, конечно, сползла вниз, однако и для таких немного места в стаканчике найдётся. Хотя новым карандашам придётся потесниться. На столе пространства свободного почти не осталось — кроме книги нашёлся длинный альбом. Стол теперь не просто подвижный — населённый.
А на потухшем экране ноутбука отражается лёгкая улыбка и воодушевлённые глаза молодого человека:
"Четверг, 7 марта.
В офисе отключили свет, был у родителей. В доме пыльная библиотека и пять фотоальбомов. Удивительно. А ещё старенький мой альбом. Я почти и забыл, как ходил в художку на соседней улице. Она и тогда старой была, теперь разваливается! Забавно."
На стопке чистой бумаги лежит альбом, на нём — новый скетчбук, а поверх — кружка с чаем (примерно четвёртая на столе в целом). Красным чаем. Между книжкой А. С. Пушкина и стаканчиком для карандашей, ручек и степлера поместилась длинная ажурная вазочка. Она переливается зелёным, почти вторит огням на дороге, виднеющейся из окна. И вместе с фотографиями по-доброму смеётся над бережными действиями юноша.
Теперь он крепит к странице стикеры и обрывки черновиков, с которых кто улыбается, кто просто наблюдает, а кто закинул ногу и ногу — и в работу:
"Пятница, 8 марта.
Мне почти стыдно, если честно, проработал полдня. И это после выходного! Но работал, пускай и гадко уже. Отрывался, конечно: то на К (удивительно красивую, между прочим, в своей юбке, при этом деловую), то на кого-нибудь попроще. И я собой договорился: тридцать минуты работы, а пять — отдыха. Получилось пятнадцать на десять. Тоже хорошо.
А ещё хорошо, что рисовать (М поправил, что писать, но из меня не то что писарь — художник-то неважный) сегодня получилось, потому что К действительно сегодня будто цветёт.
Я выздоравливаю.
Но, кажется, подхватил новую заразу."
По берёзовому столу бегает тряпка, которая разгоняет застоявшиеся кружки, несуразные стикеры, слетевшие тихими бабочками. Эта же тряпка смывает улыбки с фотографий и шаловливый блеск с вазочки, которая, сникнув, удаляется прочь. "Капитанская дочка" тоже чем-то оскорблена, потому что скрывается в шкафу; календарь никто не обижает, но и он покидает квартиру, только, в отличие от всего прочего, обещает вернутся. В стаканчике пропадают ручки новые, остаётся три штуки, и только одна открытая.
Остается только скетчбук и карандаши на местах, но даже альбом пропадает, прежде потревожив фантики от "Нивы".
"Зараза! Что б её! Конечно!
Идиот я, а не больной, и всё, что пишу, — глупости, несуразица, чепуха. Придумал себе историю болезни, трагедию, а там в другом ведь дело. Лентяй я просто. На справке так и написать: лентяй, лечить работой и наказанием. Принимать каждый день.
К неглупая совсем, а М действительно странный: картины-писатели, хорошо, что не ушёл во всё это с головой, а всё-таки одумался. Значит, у него шанс исправиться есть — пусть работает ещё.
Не зря нам день за четверг поставили, иначе бы К мне и не подсказала, что я есть.
Да, неделя была отличная. Надеюсь, на следующей больше толка будет."
Последние строчки размашистые, гротескные и искусственные – ненастоящие.
Молодой человек убирает фотографии, меняет на календарь Б-6, где сверху горит воскресенье, 9 марта.
Яркая лампа освещает берёзовый стол: стопку бумаги, белый стаканчики для ручек, жужжание электронного календаря старой модели Б-4 и яркие фотографии в простых рамках. Всё светлое, чистое, и, кажется, даже тень от кружки бледнеет от стыда ли, от волнения, от удивления. В любом случае живо и активно — и как будто бы не под стать этому порядку. Но стол вообще-то тоже живой.
Даже лучше сказать, подвижный. Из стопки выбивается множество краешков листа, на половине ручек нету колпачков, у половины — паста вниз скатилась, и на стаканчике висят степлер, скрепки, зажимы. И фотографии... Нет, мгновения, — настоящие! Настоящие мгновения жизни — сами эти мгновения, переглядываются и хохочут, потому что выглядят в своих нарядах из девяностых нелепо.
"Даже глупее, чем мальчишка за столом," — наверное, думают они, ведь и смех, и даже брюзжание календаря стихает, когда из темноты комнаты за кружкой тянется белая рука.
Юноша трёт глаза, зевает и рассматривает перед собой…
Нет, правда, кажется, что снимки и впрямь вскидывает голову и присматриваются! Будто бы дневник этого самого мальчишки мог представлять из себя что-то важное. Взгляды людей со снимков смущают до того, что молодой человек решительно, но аккуратно роняет их вниз. И лишь после этого вновь возвращается к записям, дополняя выведенные часом ранее:
"Понедельник, 4 марта.
Открылся музей А. С. Пушкина, куда меня позвала коллега К (я согласился от того, что она замечательная). Видели целый зал дневников. Не задержались, коллега озвучила мои мысли:
— Все эти дневники — напрасная трата бумаги и времени.
— Наверное, такие люди писали их, чтобы запомниться в истории не только своими стихами, — добавил я ещё, глядя, как серьёзно К нахмурила брови.
— Или оправдаться.
Ну, мне скрывать нечего, я даже оправдываться не стану. Поэтому у меня не дневник, у меня история лечения. Всё-таки то, что со мной случилось, всего лишь болезнь. Чуть сложнее простуды, не серьёзнее ангины.
Слабость. Началась в середине рабочего дня. Хотелось всё бросить и уйти. И мысли о светлом будущем и всяких перспективах не подбодрили. Хотя, когда директор во время обеда поинтересовалась, в норме ли я, стало как будто бы легче. Я и ляпнул, что в норме, сейчас — уже не знаю. Не знаю и не понимаю, что это, зачем и как бороться.
Может быть, сон поможет. Он всегда помогал при болезнях."
Новая запись появляется на том же берёзовом столе, но теперь — среди нескольких документов и шуршащих шоколадных конфет, а ещё под взглядами снимков:
"Вторник, 5 марта.
Слабость со мной с самого утра. Бесит и отвлекает, пришлось даже пару бумаг с собой взять. Времени на работе совсем нет: пытаюсь не уснуть, — будто хмель на глазах какая-то. На глазах и на плечах. И всё, собака, впитывает мои силы, желания. Работается только со "Нивой" и чаем. Как в детстве, когда математику делал. Даже та самая ностальгия берёт (вспоминал слово, кажется, минут десять). И сразу хочется, может быть, к родителям. Или на дачу, как когда-то.
Может быть, домой съездить. Не зря же хочется — вдруг поможет."
Последние два дня, садясь за стол, молодой человек наблюдал в окне, как брюзжал закат. Теперь же перед ним открылся вид центральной улица, укутавшейся в сумерки, обвесившейся в жёлтые фонари и мерцающей цветными машинами. Они вереницей тянулись издалёка в самую глубь сумерек.
Но уже скоро в стёклах вместо центра отразилась вся белая комната: с застеленной смешным покрывалом кроватью, длинным шкафом, блестящей люстрой. И сгорбленная над столом фигура в этом порядке казалась несколько смешной, особенно когда силилась прицепить к страницам тонкой тетради несколько ярких стикеров, на которых рассыпались неаккуратные узоры. Рядом с ними появляется столь же небрежная надпись:
"Среда, 6 марта, разговор с коллегой М из соседнего отдела.
М вообще-то человек неглупый. Я его всегда уважал, к нему многие относятся внимательно, по-дружески. Но бесед у нас не случалось: я их издалека видел. Тут он предложил чай, вспомнил о доме, детстве, об Эрмитаже…
— А в художники-то метил? — спросил его я ещё. Только шутливо.
— Да, раньше всё думал, что стану кем-нибудь вроде Писсарро, — он ответил, кажется, тоже усмехаясь, но, кажется, и совсем серьёзно, прямо-таки уткнувшись взглядом мне в лоб. — Хотел написать свою улицу П города Л. И в детстве ещё думал, что отвечу на каком-нибудь интервью, что все эти места для меня не просто родные — что-то типо вдохновляющих, заряжающих… А поле моё деревенское — лучистое, греет до сих пор. И представлял, как эти картины потом перерисуют в разных фильтрах, и… Ой, кстати, — и вдруг лицо М, светлое и чистое, словно поле из детства, вдруг превратилось в серый бетон, а глаза-васильки расплылись в мутную лужу. — Уже час, пойду работать.
— Нам ведь в одну сторону? Может, вместе дойдём? Про художников ещё расскажешь?
— Договорились, — и ведь я правда увидел, как у него вновь ресницы отливают голубым-васильковым.
Но это только бы подумал пару месяцев назад, что М странный, глупый, знает бесполезных художников и гордится этим. А сейчас я не работаю, я слаб. И я посмотрел, что за картина — у Писсарро бульвар Монмартр действительно вышел красивым. Живым. И в разных, как сказал М, фильтрах выглядит одинаково здорово. Почему М пошёл в бухгалтеры, если хотел рисовать. Может быть, у него бы что-нибудь дельное вышло.
Художники, писатели, музыканты — они ведь тоже для страны, для внешней политики отчасти, а иногда и для внутреннего спокойствия (или всё же не политики собственной — сердечной. Типо?).
Может быть, мне тоже рисовать?"
Свет лампы ныряет в две пустые кружки, растягивается на старой книге А. С. Пушкина и укрывает календарь Б-4. Он, к слову, не жужжит — затих, потух, стал лишь подставкой для двух пачек ярких стикеров. Молодой человек шуршит фантикам от леденцов, сгребая их в мусорный пакет, чтобы рассыпать новые. Потом. Попозже. Конечно, вместе с зелёненькими обёртками от "Нивы". Главное в ведро не смахнут миленькие фотокарточки из дома: с пасмурным полем, стареньким зданием и какой-то блондинкой. Ну, и ручки было бы хорошо не потревожить — паста, конечно, сползла вниз, однако и для таких немного места в стаканчике найдётся. Хотя новым карандашам придётся потесниться. На столе пространства свободного почти не осталось — кроме книги нашёлся длинный альбом. Стол теперь не просто подвижный — населённый.
А на потухшем экране ноутбука отражается лёгкая улыбка и воодушевлённые глаза молодого человека:
"Четверг, 7 марта.
В офисе отключили свет, был у родителей. В доме пыльная библиотека и пять фотоальбомов. Удивительно. А ещё старенький мой альбом. Я почти и забыл, как ходил в художку на соседней улице. Она и тогда старой была, теперь разваливается! Забавно."
На стопке чистой бумаги лежит альбом, на нём — новый скетчбук, а поверх — кружка с чаем (примерно четвёртая на столе в целом). Красным чаем. Между книжкой А. С. Пушкина и стаканчиком для карандашей, ручек и степлера поместилась длинная ажурная вазочка. Она переливается зелёным, почти вторит огням на дороге, виднеющейся из окна. И вместе с фотографиями по-доброму смеётся над бережными действиями юноша.
Теперь он крепит к странице стикеры и обрывки черновиков, с которых кто улыбается, кто просто наблюдает, а кто закинул ногу и ногу — и в работу:
"Пятница, 8 марта.
Мне почти стыдно, если честно, проработал полдня. И это после выходного! Но работал, пускай и гадко уже. Отрывался, конечно: то на К (удивительно красивую, между прочим, в своей юбке, при этом деловую), то на кого-нибудь попроще. И я собой договорился: тридцать минуты работы, а пять — отдыха. Получилось пятнадцать на десять. Тоже хорошо.
А ещё хорошо, что рисовать (М поправил, что писать, но из меня не то что писарь — художник-то неважный) сегодня получилось, потому что К действительно сегодня будто цветёт.
Я выздоравливаю.
Но, кажется, подхватил новую заразу."
По берёзовому столу бегает тряпка, которая разгоняет застоявшиеся кружки, несуразные стикеры, слетевшие тихими бабочками. Эта же тряпка смывает улыбки с фотографий и шаловливый блеск с вазочки, которая, сникнув, удаляется прочь. "Капитанская дочка" тоже чем-то оскорблена, потому что скрывается в шкафу; календарь никто не обижает, но и он покидает квартиру, только, в отличие от всего прочего, обещает вернутся. В стаканчике пропадают ручки новые, остаётся три штуки, и только одна открытая.
Остается только скетчбук и карандаши на местах, но даже альбом пропадает, прежде потревожив фантики от "Нивы".
"Зараза! Что б её! Конечно!
Идиот я, а не больной, и всё, что пишу, — глупости, несуразица, чепуха. Придумал себе историю болезни, трагедию, а там в другом ведь дело. Лентяй я просто. На справке так и написать: лентяй, лечить работой и наказанием. Принимать каждый день.
К неглупая совсем, а М действительно странный: картины-писатели, хорошо, что не ушёл во всё это с головой, а всё-таки одумался. Значит, у него шанс исправиться есть — пусть работает ещё.
Не зря нам день за четверг поставили, иначе бы К мне и не подсказала, что я есть.
Да, неделя была отличная. Надеюсь, на следующей больше толка будет."
Последние строчки размашистые, гротескные и искусственные – ненастоящие.
Молодой человек убирает фотографии, меняет на календарь Б-6, где сверху горит воскресенье, 9 марта.
Иванова Мария. Обратный отсчет
С самого детства, сколько себя помню, я был смелым ребёнком, не боялся монстров под кроватью, собак или маргиналов в подворотнях моего района, пусть порой они и вызывали отвращение и желание поскорее убраться подальше от столь неприглядного контингента, но в остальном можно было сказать, что меня ничего не может застать врасплох. Пожалуй, кроме одной вещи. Вещи, которой я боялся больше всего на свете, стоит упомянуть, что моей главной страстью детства были разнообразные энциклопедии о космосе: с упоением смотря очередной документальный фильм о планетах, звёздах и вселенных перед сном, я не мог не представлять себя как отважного учёного-астронома, положившего всю свою жизнь на изучение феноменов безграничного космоса. На удивление, в отличие от своих сверстников у меня и в мыслях не было становиться космонавтом, выходящим в открытый космос самолично, поскольку меня влекли куда более далёкие просторы, не ограниченные нашей Солнечной системой. Наверное, так бы все и продолжалось, моя вера в собственное будущее бы росла, а уверенность в предстоящей профессии стала бы обыденной частью жизни, но к несчастью, в один момент все сломалось. Родители решили прекратить любое общение, когда мне было всего 8 или 9 лет, я не был готов к такому, и с момента их нарастающих ссор и криков за стеной моей комнаты, где я тщетно пытался уснуть, мне начали сниться ужасающие кошмары, они повторялись, да и сюжет был один: катастрофа планетарного масштаба, метеорит, рассекающий космическое пространство с неописуемой скоростью, конечно, размерами он отнюдь не был обделен, каждый раз он прилетал точно в цель, аккурат в момент столкновения с поверхностью планеты я открывал глаза, возвращаясь в суровую, но все еще существующую реальность; По лицу стекали капли холодного пота, а мурашки охватывали тело, казалось не оставляя, ни единого свободного места. Часто после подобных снов я еще долго не мог сомкнуть глаз, потому подходил к окну, из которого мягко лился лунный свет, хотя, конечно, свет был солнечный, и он просто отражался от поверхности луны. Но думать об этом совсем не хотелось, потому я предпочитал рассматриванию небосклона в поиске любимых созвездий, бездумное наблюдение за потоком машин прямо под моим окном, тогда, пожалуй, я впервые был благодарен родителям за комнату с видом на проезжую часть, шум автомобилей, их быстро мелькающий вид перед глазами, помогали отвлечься и забыть о космосе и тем более о пресловутом метеорите, который еще долго не давал мне покоя...
Время шло своим размеренным чередом, и постепенно я стал забывать свое детское увлечение, которым горел так яро, родителям какое то время и вовсе не было до меня дела, отец нашел себе, как он сам выражался "семью получше". Матери же до меня вовсе ни было дела.
Что же говоря о снах, они перестали меня преследовать по пятам, уставший взгляд бывало подниму наверх посреди ночи, в холодном парке, куда я частенько сбегал из дома, и смотрю совершенно безразличным взглядом, хоть все еще узнавал средь звезд несколько рисунков, в общем конец средней школы оказался для меня не самым веселым временем.
И вот я здесь. Посреди пустой квартиры, скромно обставленной самой дешевой мебелью, да и я не самый требовательный человек, много мне не нужно для комфортного существования, потому, как то, что я влачил изо дня в день жизнью было никак не назвать, пусть не так давно мне и было 18, в пору бегать по клубам и тому подобное, но я не мог себе позволить подобное, сейчас мне 23, в том году умерла женщина, что в детстве была моей матерью, но за последние годы мы с ней так рассорились, что узнав о ее кончине, я почти ничего не ощутил, разве что был несколько опечален, да и расходов на похороны я не планировал, хоть делать было нечего, пришлось оплачивать все, благо у нее все же нашлись хоть какие-то сбережения. Наследства в должной мере я не получил, почти все ценные вещи были успешно утеряны за время моего отсутствия в ее доме.
Вернувшись не так давно с улицы, я ощутил ужасное предчувствие: мало того, что эти идиотские детские кошмары снова стали донимать меня, вероятно, пора прекращать пить столько кофе, так еще и среди людей неспокойно, все перешептывались о каких-то новостях, которые я предпочитал не смотреть, во избежание еще большей апатии, ведь всегда можно достичь еще большего дна... Упав на диван, почти без сил, несмотря на то что часы показывали лишь половину первого часа, мои жизненные силы уже были почти на нуле, нащупав под подушкой пульт от телевизора, я ткнул на кнопку питания, в надежде отвлечься от своих навязчивых мыслей, как внезапно увидел сводку новостей и по привычке пролистнул список каналов дальше, каково же было мое удивление, когда и на втором, и на третьем включенном мной канале я видел все тот же сюжет. Тогда я поднялся на ноги и подошёл ближе к телевизору, заметив лица ведущих. На них явно читалось 3 эмоции: страх, отчаяние, печаль – тогда я невольно стал вслушиваться в текст экстренного сюжета, услышанное повергло меня в шок. Нет...это недостаточно сильно описывает мое состояние, просто не существует таких слов что могли передать весь спектр моего непонимания в тот момент когда до моего мозга отчётливо дошли фразы: "Прямо сейчас на землю стремится метеорит, столь внушительных размеров, что столкновение неизбежно...", "Летальный исход для всего человечества!, "Проведите эти последние 2 часа в кругу своей семьи и любящих вас людей, это ваша последняя возможность.. "
Ведущие продолжали что-то говорить, но я уже не слышал, голова разрывалась от неразборчивого потока мыслей, среди которых была одна, что была отчётливее всех "Это случилось, оно произошло", будто все эти сны были пророческие. Схватив с кухонного стола, забытую ещё с утра, остывшую чашку крепкого кофе, я вышел на балкон своего 4 этажа, дабы разведать обстановку.
Что ж первое, что я увидел - паника.
Люди как спятившие букашки метались туда-сюда, некоторые уже успели забежать в магазины, став первыми мародёрами, когда земле остается жить буквально пару часов, у людей не остаётся морали, законны и цивилизации, есть только они, их желания и инстинкты. Я же в это время медленно поднес чашку к губам и отпил кофе. Я все еще не могу поверить что все что происходит действительно реально...
Вторая стадия - отчаяние
Из открытого окна балкона ясно слышались крики, плач и слезы, детские - от непонимания происходящего, взрослые - от осознания неизбежности случившегося, ужас от предстоящей и неминуемой смерти, разбитые в дребезги мечты и желания вмиг стали бременем каждого человека, кроме меня и таких как я пожалуй, мне нечего терять, у меня нет близких людей, я не живу, а существую изо дня в день, в поисках стабильной работы. Сделал второй глоток.
Стадия третья - сожаление
Должно быть сеть сейчас была как никогда перегружена, ведь букашки под моими окнами принялись кому-то звонить, некоторые даже смогли встретиться друг с другом лично, хоть прошло не так много времени, по моим ощущениям, на часы я не смотрю, не вижу в этом смысла, а люди всё не унимались, обычно сравнительно спокойные дороги внезапно заполнились автомобилями гудящими друг другу и стоящими в огромной пробке, настолько плотной и медленной, что многие просто выбегали из своих машин и бежали изо всех сил на своих двоих, признаться честно я даже завидовал, ведь этим людям есть к кому торопиться, у них есть место которое они могут по праву назвать домом, не только по документам владения.
Когда моя жизнь свернула не туда? Кофе становиться противным, но я не жалуюсь, разве это имеет значение в такой ситуации? Я так не думаю.
Стадия четвертая - опустошение
Людей на улицах почти не осталось, по крайней мере пешеходов. На душе пустота, а голову окутали странные мысли, это ведь нормально думать о своей никчёмной жизни в подобной ситуации? Вот как всё обернулось, я был весьма амбициозным и смышлёным, и что в конце? Всё что у меня осталось - ледяная чашка горького кофе, да вопросы о жизни и смерти, на которые уж не сыскать мне ответов, не в этой жизни. А если бы все сложилось по другому? Если бы тогда родители не предали меня так жестоко, мы бы сейчас сидели вместе, держась за руки или может даже обнимаясь? Как я устал. Теперь я вдоволь отдохну, по крайней мере надеюсь на это. Прямо передо мной только что пролетела вниз пара человек, вероятно сломали замок на крышу, потом еще и еще люди, но уже из соседних домов, не могу их судить, но и понять не в состоянии. Какой в этом смысл? Но мне нет дела, я в который раз делаю глоток из почти опустевшей чашки
Стадия пятая - смирение
Все стихло, на удивление быстро и спокойно, опустевшие улицы выглядят удручающе, да и их нынешнее состояние оставляет желать лучшего. Разбросанный мусор, следы потасовок, пара дтп, сломанный светофор и многое другое, что не делало зрелище пред моими глазами хоть малость приятнее. Я уже смирился, как и многие оставшиеся в домах, вместе с дорогими людьми, как и советовал тот ведущий из новостей. Раньше я часто задавал себе вопрос "Какое чувство сможет наконец меня прикончить?" и вот наконец ответ прямо у меня под носом, в пустой квартире. Одиночество. Смертельная тоска овладела моим сердцем, до этого момента холодным и эгоистичным, не знающим хоть капли тёплых чувств, сейчас я глубоко жалею об этом, в момент своей смерти я буду абсолютно один... А существовал ли я тогда вообще? Бродил по улицам, подобно призраку, никто не знал обо мне, но стремился ли я к общению? Вряд-ли, иначе компанию мне составляла бы не только пустая чашка, странно однако, обычно после кофе на голодный желудок мне становилось чертовски плохо, но в этот раз все по другому...
Надеюсь в следующей жизни мне повезёт куда больше. А пока я ещё жив, позволю себе заварить ещё немного кофе.
С самого детства, сколько себя помню, я был смелым ребёнком, не боялся монстров под кроватью, собак или маргиналов в подворотнях моего района, пусть порой они и вызывали отвращение и желание поскорее убраться подальше от столь неприглядного контингента, но в остальном можно было сказать, что меня ничего не может застать врасплох. Пожалуй, кроме одной вещи. Вещи, которой я боялся больше всего на свете, стоит упомянуть, что моей главной страстью детства были разнообразные энциклопедии о космосе: с упоением смотря очередной документальный фильм о планетах, звёздах и вселенных перед сном, я не мог не представлять себя как отважного учёного-астронома, положившего всю свою жизнь на изучение феноменов безграничного космоса. На удивление, в отличие от своих сверстников у меня и в мыслях не было становиться космонавтом, выходящим в открытый космос самолично, поскольку меня влекли куда более далёкие просторы, не ограниченные нашей Солнечной системой. Наверное, так бы все и продолжалось, моя вера в собственное будущее бы росла, а уверенность в предстоящей профессии стала бы обыденной частью жизни, но к несчастью, в один момент все сломалось. Родители решили прекратить любое общение, когда мне было всего 8 или 9 лет, я не был готов к такому, и с момента их нарастающих ссор и криков за стеной моей комнаты, где я тщетно пытался уснуть, мне начали сниться ужасающие кошмары, они повторялись, да и сюжет был один: катастрофа планетарного масштаба, метеорит, рассекающий космическое пространство с неописуемой скоростью, конечно, размерами он отнюдь не был обделен, каждый раз он прилетал точно в цель, аккурат в момент столкновения с поверхностью планеты я открывал глаза, возвращаясь в суровую, но все еще существующую реальность; По лицу стекали капли холодного пота, а мурашки охватывали тело, казалось не оставляя, ни единого свободного места. Часто после подобных снов я еще долго не мог сомкнуть глаз, потому подходил к окну, из которого мягко лился лунный свет, хотя, конечно, свет был солнечный, и он просто отражался от поверхности луны. Но думать об этом совсем не хотелось, потому я предпочитал рассматриванию небосклона в поиске любимых созвездий, бездумное наблюдение за потоком машин прямо под моим окном, тогда, пожалуй, я впервые был благодарен родителям за комнату с видом на проезжую часть, шум автомобилей, их быстро мелькающий вид перед глазами, помогали отвлечься и забыть о космосе и тем более о пресловутом метеорите, который еще долго не давал мне покоя...
Время шло своим размеренным чередом, и постепенно я стал забывать свое детское увлечение, которым горел так яро, родителям какое то время и вовсе не было до меня дела, отец нашел себе, как он сам выражался "семью получше". Матери же до меня вовсе ни было дела.
Что же говоря о снах, они перестали меня преследовать по пятам, уставший взгляд бывало подниму наверх посреди ночи, в холодном парке, куда я частенько сбегал из дома, и смотрю совершенно безразличным взглядом, хоть все еще узнавал средь звезд несколько рисунков, в общем конец средней школы оказался для меня не самым веселым временем.
И вот я здесь. Посреди пустой квартиры, скромно обставленной самой дешевой мебелью, да и я не самый требовательный человек, много мне не нужно для комфортного существования, потому, как то, что я влачил изо дня в день жизнью было никак не назвать, пусть не так давно мне и было 18, в пору бегать по клубам и тому подобное, но я не мог себе позволить подобное, сейчас мне 23, в том году умерла женщина, что в детстве была моей матерью, но за последние годы мы с ней так рассорились, что узнав о ее кончине, я почти ничего не ощутил, разве что был несколько опечален, да и расходов на похороны я не планировал, хоть делать было нечего, пришлось оплачивать все, благо у нее все же нашлись хоть какие-то сбережения. Наследства в должной мере я не получил, почти все ценные вещи были успешно утеряны за время моего отсутствия в ее доме.
Вернувшись не так давно с улицы, я ощутил ужасное предчувствие: мало того, что эти идиотские детские кошмары снова стали донимать меня, вероятно, пора прекращать пить столько кофе, так еще и среди людей неспокойно, все перешептывались о каких-то новостях, которые я предпочитал не смотреть, во избежание еще большей апатии, ведь всегда можно достичь еще большего дна... Упав на диван, почти без сил, несмотря на то что часы показывали лишь половину первого часа, мои жизненные силы уже были почти на нуле, нащупав под подушкой пульт от телевизора, я ткнул на кнопку питания, в надежде отвлечься от своих навязчивых мыслей, как внезапно увидел сводку новостей и по привычке пролистнул список каналов дальше, каково же было мое удивление, когда и на втором, и на третьем включенном мной канале я видел все тот же сюжет. Тогда я поднялся на ноги и подошёл ближе к телевизору, заметив лица ведущих. На них явно читалось 3 эмоции: страх, отчаяние, печаль – тогда я невольно стал вслушиваться в текст экстренного сюжета, услышанное повергло меня в шок. Нет...это недостаточно сильно описывает мое состояние, просто не существует таких слов что могли передать весь спектр моего непонимания в тот момент когда до моего мозга отчётливо дошли фразы: "Прямо сейчас на землю стремится метеорит, столь внушительных размеров, что столкновение неизбежно...", "Летальный исход для всего человечества!, "Проведите эти последние 2 часа в кругу своей семьи и любящих вас людей, это ваша последняя возможность.. "
Ведущие продолжали что-то говорить, но я уже не слышал, голова разрывалась от неразборчивого потока мыслей, среди которых была одна, что была отчётливее всех "Это случилось, оно произошло", будто все эти сны были пророческие. Схватив с кухонного стола, забытую ещё с утра, остывшую чашку крепкого кофе, я вышел на балкон своего 4 этажа, дабы разведать обстановку.
Что ж первое, что я увидел - паника.
Люди как спятившие букашки метались туда-сюда, некоторые уже успели забежать в магазины, став первыми мародёрами, когда земле остается жить буквально пару часов, у людей не остаётся морали, законны и цивилизации, есть только они, их желания и инстинкты. Я же в это время медленно поднес чашку к губам и отпил кофе. Я все еще не могу поверить что все что происходит действительно реально...
Вторая стадия - отчаяние
Из открытого окна балкона ясно слышались крики, плач и слезы, детские - от непонимания происходящего, взрослые - от осознания неизбежности случившегося, ужас от предстоящей и неминуемой смерти, разбитые в дребезги мечты и желания вмиг стали бременем каждого человека, кроме меня и таких как я пожалуй, мне нечего терять, у меня нет близких людей, я не живу, а существую изо дня в день, в поисках стабильной работы. Сделал второй глоток.
Стадия третья - сожаление
Должно быть сеть сейчас была как никогда перегружена, ведь букашки под моими окнами принялись кому-то звонить, некоторые даже смогли встретиться друг с другом лично, хоть прошло не так много времени, по моим ощущениям, на часы я не смотрю, не вижу в этом смысла, а люди всё не унимались, обычно сравнительно спокойные дороги внезапно заполнились автомобилями гудящими друг другу и стоящими в огромной пробке, настолько плотной и медленной, что многие просто выбегали из своих машин и бежали изо всех сил на своих двоих, признаться честно я даже завидовал, ведь этим людям есть к кому торопиться, у них есть место которое они могут по праву назвать домом, не только по документам владения.
Когда моя жизнь свернула не туда? Кофе становиться противным, но я не жалуюсь, разве это имеет значение в такой ситуации? Я так не думаю.
Стадия четвертая - опустошение
Людей на улицах почти не осталось, по крайней мере пешеходов. На душе пустота, а голову окутали странные мысли, это ведь нормально думать о своей никчёмной жизни в подобной ситуации? Вот как всё обернулось, я был весьма амбициозным и смышлёным, и что в конце? Всё что у меня осталось - ледяная чашка горького кофе, да вопросы о жизни и смерти, на которые уж не сыскать мне ответов, не в этой жизни. А если бы все сложилось по другому? Если бы тогда родители не предали меня так жестоко, мы бы сейчас сидели вместе, держась за руки или может даже обнимаясь? Как я устал. Теперь я вдоволь отдохну, по крайней мере надеюсь на это. Прямо передо мной только что пролетела вниз пара человек, вероятно сломали замок на крышу, потом еще и еще люди, но уже из соседних домов, не могу их судить, но и понять не в состоянии. Какой в этом смысл? Но мне нет дела, я в который раз делаю глоток из почти опустевшей чашки
Стадия пятая - смирение
Все стихло, на удивление быстро и спокойно, опустевшие улицы выглядят удручающе, да и их нынешнее состояние оставляет желать лучшего. Разбросанный мусор, следы потасовок, пара дтп, сломанный светофор и многое другое, что не делало зрелище пред моими глазами хоть малость приятнее. Я уже смирился, как и многие оставшиеся в домах, вместе с дорогими людьми, как и советовал тот ведущий из новостей. Раньше я часто задавал себе вопрос "Какое чувство сможет наконец меня прикончить?" и вот наконец ответ прямо у меня под носом, в пустой квартире. Одиночество. Смертельная тоска овладела моим сердцем, до этого момента холодным и эгоистичным, не знающим хоть капли тёплых чувств, сейчас я глубоко жалею об этом, в момент своей смерти я буду абсолютно один... А существовал ли я тогда вообще? Бродил по улицам, подобно призраку, никто не знал обо мне, но стремился ли я к общению? Вряд-ли, иначе компанию мне составляла бы не только пустая чашка, странно однако, обычно после кофе на голодный желудок мне становилось чертовски плохо, но в этот раз все по другому...
Надеюсь в следующей жизни мне повезёт куда больше. А пока я ещё жив, позволю себе заварить ещё немного кофе.
Букина Александра. Родильный браслетик
Обычное воскресное утро. За окном светит весеннее солнце. Мама печёт блинчики, а папа с братьями собирает самолёт из конструктора. В доме, в нашем уютном гнёздышке, где я чувствую себя так хорошо, царит спокойствие и умиротворение. Лениво прохаживаясь по комнате и не зная, чем себя занять, я обратила внимание на то, что тёплый солнечный свет как бы невзначай пал на стеллаж, где, помимо всяких безделушек, лежали очень дорогие моему сердцу вещи: здесь и плюшевый мишка, с которым я не расстаюсь с детства, и морские камни, добытые мной во время путешествий, и книги детства. Моя рука невольно потянулась к семейному фотоальбому, но, листая памятные страницы, вдруг моё внимание перетянула небольшая и ничем не примечательная деревянная шкатулочка. Я открыла её: какой-то конвертик, маленькая фотография, родильный браслетик… Я прикоснулась к этому маленькому предмету, который висел на моей ручке уже в первые часы жизни, взяла его в руки… в комнате потемнело, звуки стихли…
…Зимняя ночь, мама лежит в палате, улыбчиво, хотя и очень устало, глядит в окно, где на чёрном небе кружат крупные снежные хлопья, они слипаются между собой, а после – стремительно летят вниз. Я испуганно подошла к ней, чтобы спросить, в чём дело, как мы оказались в больнице, но мама не услышала меня. «В чём дело?» - панически повторяла я, всё также незаметная ни для кого вокруг. Я пригляделась к лицу мамы. Оно было другим…молодым…
Снова потемнение.. Снова палата, но уже утро, маме принесли маленький, до безумия крошечный свёрток. Она улыбалась, с нежностью беря в руки этот комочек. Унесли…Мама переживает… Темнота…Выписка из роддома. Тут и дедушка с бабушкой, и мамина сестра с братом. Крошечную малышку в розовом одеяле каждый по очереди берёт на руки, нежно, стараясь не сделать лишнего движения, прикасается к младенческой коже. Её называют Сашей. Она это я.
Весна. Папа вернулся из командировки. Я уже подросла, хотя всё ещё совсем маленькая. Отец видит меня впервые. В его глазах читается неподдельный, щенячий восторг, бесконечная любовь и радость, и мама рядом…Поворот головы - дом детства… Дедушка смотрит телевизор, то и дело заглядывая в комнату, где сплю я, бабушка суетится на кухне. Все они: и мама, и папа, и бабушка, и дедушка - практически не говорят, а может просто я их не слышу, однако это неважно, в этом молчании и скрыто главное – открыта новая страница жизни семьи, родилась первая дочь, первая внучка.
Беспамятство. Сквозь пелену проглядывается совершенно новая картина – переезд. Коробки, сборы, суета. Я собираю игрушки, вот беру того самого плюшевого мишку, ещё не догадываясь, что пройду с ним всю свою жизнь. Мне грустно, я привыкла к дому, я считаю его родным. Новая квартира. Мама будит меня непривычно рано – пора идти в детский сад. Я переживаю, даже плачу. Что меня ждёт? Группа, первая воспитательница, дети, друг, завтрак, тихий час, утренник – все события ураганом проносятся перед моими глазами. Пауза. Ураган стих, теперь ощущается лишь лёгкое дуновение ветерка. Солнечное доброе утро, я проснулась очень поздно. Мама спросила, как назовём брата, я не ответила. Меня уже отвезли к бабушке с дедушкой. Родителей нет рядом. Я бегаю по улице, смеюсь. Снова провал… Мы дома, но теперь здесь есть ещё один человечек – мой первый младший брат. Я плачу, не знаю от чего, от счастья или…от страха? На мне теперь больше ответственности, я должна повзрослеть. Мама даёт мне на руки братика, но, глядя на маленького человечка, являющегося моим самым родным и близким, я вдруг начала видеть в нём конкурента, конкурента за любовь и внимание родителей. Больно, непонятно…Почти сразу же на меня обрушилось ещё одно испытание – первый класс и вынужденный второй переезд.
Август, в комнате ещё почти нет мебели, в уголке сидит девочка, она плачет, пока родители разрываются между вещами и родившимся малышом. В ней я вновь узнаю себя.
Прошло пару месяцев, я первоклашка, настоящая прилежная ученица. За это время в моей голове прокрутилось множество мыслей. Я наконец-то поняла, что и родители, и другие родственники не стали любить меня меньше после появления брата, напротив, теперь они видят во мне опору, поддержку. С тех пор мы не разлей вода. Я смело и уверенно перелистнула эту страницу своей жизни, которая по-настоящему может считаться сложной и многогранной.
Снова буря воспоминаний: школьные дни бегут один за другим, первые контрольные работы и оценки, новые друзья и знакомые. День рождения. Мама сама испекла торт для этого праздника, а все родные приехали к нам, чтобы поздравить именинницу – взрослеющую меня. Мой братишка нарисовал рисунок- нашу дружную семью. Этот рисунок стал для меня одним из самых дорогих подарков.
Страшный удар - брата забрали в больницу, я звоню маме каждый день, очень переживаю, папа не находит себе места. Но вот выписка, всё хорошо, я бегу к брату, обнимаю его. Мы стали ещё ближе.
Мне 11. Пока мама готовится к рождению малыша – моего второго младшего брата, я стараюсь ей помогать. Я посмотрела в окно: теперь уже мы всей семьёй готовимся забирать дорогих нам людей домой. Я впервые увидела очаровательного младенца: его крошечные ручки медленно двигались, он не плакал и не кричал, а вскоре и вовсе заснул. Мы дома: крошка спит в кроватке. В моей памяти сразу всплыл фрагмент из прошлого – рождение первого младшего брата. Я правда повзрослела, я не вижу в малыше конкурента, напротив, мне хочется поделиться с ним любовью, заботой, всем, что есть у меня. Теперь нас трое! Мы самые родные друг другу люди! Я старшая, я должна быть примером для братьев и опорой для родителей.
А дальше кадры в ускоренном темпе: школьные будни, праздники, поездки, окончание художественной школы, первые экзамены… Темнота….
Я открыла глаза, из которых тут же полились слёзы. Я снова в своей комнате, держу родильный браслетик в руке, из глубины квартиры слышатся голоса моих родных. Прошло всего несколько минут, хотя прямо сейчас передо мной пронеслась вся моя жизнь, все 16 лет, каждое важное событие, оставшееся в памяти и сердце, каждый дорогой миг нашей жизни. Вот так браслетик новорождённого стал моей «машиной времени» и помог совершить самое важное путешествие в моей жизни- путешествие в начало начал. Эти страницы моей книги уже написаны, но как я счастлива, что смогла вернуться к истокам этой истории, пережить всё это заново. Наша жизнь наполнена разными событиями, но мы должны помнить о том, что прошлое хоть и влияет на будущее, жить надо здесь и сейчас, в настоящем принимать решения, совершать правильные поступки, писать свою историю, перелистывать страницы, завершать главы…И я к этому готова!
Обычное воскресное утро. За окном светит весеннее солнце. Мама печёт блинчики, а папа с братьями собирает самолёт из конструктора. В доме, в нашем уютном гнёздышке, где я чувствую себя так хорошо, царит спокойствие и умиротворение. Лениво прохаживаясь по комнате и не зная, чем себя занять, я обратила внимание на то, что тёплый солнечный свет как бы невзначай пал на стеллаж, где, помимо всяких безделушек, лежали очень дорогие моему сердцу вещи: здесь и плюшевый мишка, с которым я не расстаюсь с детства, и морские камни, добытые мной во время путешествий, и книги детства. Моя рука невольно потянулась к семейному фотоальбому, но, листая памятные страницы, вдруг моё внимание перетянула небольшая и ничем не примечательная деревянная шкатулочка. Я открыла её: какой-то конвертик, маленькая фотография, родильный браслетик… Я прикоснулась к этому маленькому предмету, который висел на моей ручке уже в первые часы жизни, взяла его в руки… в комнате потемнело, звуки стихли…
…Зимняя ночь, мама лежит в палате, улыбчиво, хотя и очень устало, глядит в окно, где на чёрном небе кружат крупные снежные хлопья, они слипаются между собой, а после – стремительно летят вниз. Я испуганно подошла к ней, чтобы спросить, в чём дело, как мы оказались в больнице, но мама не услышала меня. «В чём дело?» - панически повторяла я, всё также незаметная ни для кого вокруг. Я пригляделась к лицу мамы. Оно было другим…молодым…
Снова потемнение.. Снова палата, но уже утро, маме принесли маленький, до безумия крошечный свёрток. Она улыбалась, с нежностью беря в руки этот комочек. Унесли…Мама переживает… Темнота…Выписка из роддома. Тут и дедушка с бабушкой, и мамина сестра с братом. Крошечную малышку в розовом одеяле каждый по очереди берёт на руки, нежно, стараясь не сделать лишнего движения, прикасается к младенческой коже. Её называют Сашей. Она это я.
Весна. Папа вернулся из командировки. Я уже подросла, хотя всё ещё совсем маленькая. Отец видит меня впервые. В его глазах читается неподдельный, щенячий восторг, бесконечная любовь и радость, и мама рядом…Поворот головы - дом детства… Дедушка смотрит телевизор, то и дело заглядывая в комнату, где сплю я, бабушка суетится на кухне. Все они: и мама, и папа, и бабушка, и дедушка - практически не говорят, а может просто я их не слышу, однако это неважно, в этом молчании и скрыто главное – открыта новая страница жизни семьи, родилась первая дочь, первая внучка.
Беспамятство. Сквозь пелену проглядывается совершенно новая картина – переезд. Коробки, сборы, суета. Я собираю игрушки, вот беру того самого плюшевого мишку, ещё не догадываясь, что пройду с ним всю свою жизнь. Мне грустно, я привыкла к дому, я считаю его родным. Новая квартира. Мама будит меня непривычно рано – пора идти в детский сад. Я переживаю, даже плачу. Что меня ждёт? Группа, первая воспитательница, дети, друг, завтрак, тихий час, утренник – все события ураганом проносятся перед моими глазами. Пауза. Ураган стих, теперь ощущается лишь лёгкое дуновение ветерка. Солнечное доброе утро, я проснулась очень поздно. Мама спросила, как назовём брата, я не ответила. Меня уже отвезли к бабушке с дедушкой. Родителей нет рядом. Я бегаю по улице, смеюсь. Снова провал… Мы дома, но теперь здесь есть ещё один человечек – мой первый младший брат. Я плачу, не знаю от чего, от счастья или…от страха? На мне теперь больше ответственности, я должна повзрослеть. Мама даёт мне на руки братика, но, глядя на маленького человечка, являющегося моим самым родным и близким, я вдруг начала видеть в нём конкурента, конкурента за любовь и внимание родителей. Больно, непонятно…Почти сразу же на меня обрушилось ещё одно испытание – первый класс и вынужденный второй переезд.
Август, в комнате ещё почти нет мебели, в уголке сидит девочка, она плачет, пока родители разрываются между вещами и родившимся малышом. В ней я вновь узнаю себя.
Прошло пару месяцев, я первоклашка, настоящая прилежная ученица. За это время в моей голове прокрутилось множество мыслей. Я наконец-то поняла, что и родители, и другие родственники не стали любить меня меньше после появления брата, напротив, теперь они видят во мне опору, поддержку. С тех пор мы не разлей вода. Я смело и уверенно перелистнула эту страницу своей жизни, которая по-настоящему может считаться сложной и многогранной.
Снова буря воспоминаний: школьные дни бегут один за другим, первые контрольные работы и оценки, новые друзья и знакомые. День рождения. Мама сама испекла торт для этого праздника, а все родные приехали к нам, чтобы поздравить именинницу – взрослеющую меня. Мой братишка нарисовал рисунок- нашу дружную семью. Этот рисунок стал для меня одним из самых дорогих подарков.
Страшный удар - брата забрали в больницу, я звоню маме каждый день, очень переживаю, папа не находит себе места. Но вот выписка, всё хорошо, я бегу к брату, обнимаю его. Мы стали ещё ближе.
Мне 11. Пока мама готовится к рождению малыша – моего второго младшего брата, я стараюсь ей помогать. Я посмотрела в окно: теперь уже мы всей семьёй готовимся забирать дорогих нам людей домой. Я впервые увидела очаровательного младенца: его крошечные ручки медленно двигались, он не плакал и не кричал, а вскоре и вовсе заснул. Мы дома: крошка спит в кроватке. В моей памяти сразу всплыл фрагмент из прошлого – рождение первого младшего брата. Я правда повзрослела, я не вижу в малыше конкурента, напротив, мне хочется поделиться с ним любовью, заботой, всем, что есть у меня. Теперь нас трое! Мы самые родные друг другу люди! Я старшая, я должна быть примером для братьев и опорой для родителей.
А дальше кадры в ускоренном темпе: школьные будни, праздники, поездки, окончание художественной школы, первые экзамены… Темнота….
Я открыла глаза, из которых тут же полились слёзы. Я снова в своей комнате, держу родильный браслетик в руке, из глубины квартиры слышатся голоса моих родных. Прошло всего несколько минут, хотя прямо сейчас передо мной пронеслась вся моя жизнь, все 16 лет, каждое важное событие, оставшееся в памяти и сердце, каждый дорогой миг нашей жизни. Вот так браслетик новорождённого стал моей «машиной времени» и помог совершить самое важное путешествие в моей жизни- путешествие в начало начал. Эти страницы моей книги уже написаны, но как я счастлива, что смогла вернуться к истокам этой истории, пережить всё это заново. Наша жизнь наполнена разными событиями, но мы должны помнить о том, что прошлое хоть и влияет на будущее, жить надо здесь и сейчас, в настоящем принимать решения, совершать правильные поступки, писать свою историю, перелистывать страницы, завершать главы…И я к этому готова!
Исаева Валерия. Самое заветное желание
Какая же чудесная пора - детство! Все кажется новым, волшебным и сказочным. Каждый день наполнен яркими эмоциями… Только в детстве мы искренне верим в чудеса. Верила в чудо и Лерочка.
День, о котором пойдет речь, должен был стать волшебным, потому что Лера ждала Новый год. Она только научилась писать, поэтому решила самостоятельно отправить письмо Дедушке Морозу. «Хачу платье для мамы», - выводила Лерочка каждую букву. Потом, задумавшись, дописала: «И куклу с разнацветными валасами». После этого девочка бережно сложила письмо в конверт, а сверху наклеила свою самую любимую наклейку, ведь Дедушка Мороз должен увидеть, что именно ей, маленькой послушной девочке, важно, чтобы ее желание было исполнено. Эх, если бы Дедушка Мороз знал, как хочется маме новое лиловое платье. Лера много раз ходила с мамой мимо магазина, на витрине которого красуется манекен. Мама даже шаг замедляла, когда видела это платье, иногда она тихонечко вздыхала. «Дорого, да, мам?» - спрашивала Лерочка. Мама в ответ всегда только молча кивала. И каждый раз Лера сильнее сжимала мамину руку, думая про себя, что обязательно попросит у Деда Мороза заветное платье. Для этого она даже почти не баловалась в детском саду.
Лерочка погладила для верности конверт, еще раз подумала, что была достаточно послушной, а то, что она больно-пребольно ущипнула хулигана Димку, не в счет, он сам виноват-кидал в Лерочку жуков. Она их вовсе не боится, но их ей было жалко, они же маленькие, а Димка обижал малышей. Еще раз перебрав в памяти все шалости за этот год, Лера пошла отправлять письмо Дедушке Морозу. Она знала, что послания самому главному волшебнику надо класть в морозилку. Они с мамой так делали каждый год.
С чувством выполненного долга Лера отправилась гулять во двор. Но ей хотелось, чтобы поскорее наступил вечер: они накроют с мамой на стол, будут мандарины и конфеты… А утром случится настоящее чудо - Лерочка откроет глаза, а мама в лиловом платье принесет ей куклу с разноцветными волосами…
Ребята из двора стали расходиться, и Лера вприпрыжку побежала домой. Мама была на кухне. Пока Лерочка переодевалась, мама подошла к морозилке и ахнула. Потом начала быстро одеваться.
-Лерочка, дочка, будь умницей, подожди меня немного, я очень быстро сбегаю в магазин и вернусь, а ты мультфильм посмотри, - сказала взволнованная мама, незаметно сунув письмо с самой красивой наклейкой в карман своего пальто.
Лера кивнула и уселась на диван. А мама выскочила из квартиры. Никогда еще Лерочка не оставалась дома одна, поэтому минуты ожидания тянулись целую вечность. Она подошла к окошку и стала пристально вглядываться в быстро темневшую даль. И тут ее настиг самый большой страх: а вдруг мама не вернется, вдруг ее украли (она ведь очень красивая и все умеет делать, такая мама нужна всем), вдруг на нее напали собаки или хулиганы, как Димка, а защитить ее некому, ведь Лера тут, дома… Губы девочки задрожали, а потом она разревелась. Громко плача, Лерочка затараторила:
-Дедушка Мороз, ты же все можешь! Верни мне мою маму! Я очень боюсь! Мне ничего не нужно, только пусть мама моя будет со мной!
И тут на пороге появилась раскрасневшаяся от мороза мама. Она бросилась успокаивать Лерочку.
-Мамочка, ты больше никуда не уходи, ладно?! А то вдруг тебя украдут… - лепетала сквозь плач Лера.
Мама долго обнимала и целовала свою маленькую девочку. А потом был праздничный стол, мандарины, конфеты и салют…
Наступило утро нового года. Мама подошла к кроватке Лерочки, она улыбалась во сне.
-Вставай, доченька, - мама погладила теплую щеку дочурки.
Лера вскочила с постели. Перед ней стояла мама в заветном лиловом платье. Глаза девочки загорелись радостным огнем!
-Лерочка, нам Дедушка Мороз принес подарки. Твой подарочек лежит под елкой.
Лера побежала к елке, под ней лежала красивая куколка с разноцветными волосами. Девочка от радости даже взвизгнула. Потом подбежала и обняла маму.
-Мамочка, ты у меня самая красивая! А в этом платье просто настоящая королева!
Мама расхохоталась и подошла к зеркалу:
-Настоящая королева! – смеясь, повторила мама.
А Лерочка подбежала к холодильнику, открыла морозилку и прошептала:
-Спасибо, Дедушка Мороз, что вернул мне мою маму, а еще спасибо за платье и куклу…
Какая же чудесная пора - детство! Все кажется новым, волшебным и сказочным. Каждый день наполнен яркими эмоциями… Только в детстве мы искренне верим в чудеса. Верила в чудо и Лерочка.
День, о котором пойдет речь, должен был стать волшебным, потому что Лера ждала Новый год. Она только научилась писать, поэтому решила самостоятельно отправить письмо Дедушке Морозу. «Хачу платье для мамы», - выводила Лерочка каждую букву. Потом, задумавшись, дописала: «И куклу с разнацветными валасами». После этого девочка бережно сложила письмо в конверт, а сверху наклеила свою самую любимую наклейку, ведь Дедушка Мороз должен увидеть, что именно ей, маленькой послушной девочке, важно, чтобы ее желание было исполнено. Эх, если бы Дедушка Мороз знал, как хочется маме новое лиловое платье. Лера много раз ходила с мамой мимо магазина, на витрине которого красуется манекен. Мама даже шаг замедляла, когда видела это платье, иногда она тихонечко вздыхала. «Дорого, да, мам?» - спрашивала Лерочка. Мама в ответ всегда только молча кивала. И каждый раз Лера сильнее сжимала мамину руку, думая про себя, что обязательно попросит у Деда Мороза заветное платье. Для этого она даже почти не баловалась в детском саду.
Лерочка погладила для верности конверт, еще раз подумала, что была достаточно послушной, а то, что она больно-пребольно ущипнула хулигана Димку, не в счет, он сам виноват-кидал в Лерочку жуков. Она их вовсе не боится, но их ей было жалко, они же маленькие, а Димка обижал малышей. Еще раз перебрав в памяти все шалости за этот год, Лера пошла отправлять письмо Дедушке Морозу. Она знала, что послания самому главному волшебнику надо класть в морозилку. Они с мамой так делали каждый год.
С чувством выполненного долга Лера отправилась гулять во двор. Но ей хотелось, чтобы поскорее наступил вечер: они накроют с мамой на стол, будут мандарины и конфеты… А утром случится настоящее чудо - Лерочка откроет глаза, а мама в лиловом платье принесет ей куклу с разноцветными волосами…
Ребята из двора стали расходиться, и Лера вприпрыжку побежала домой. Мама была на кухне. Пока Лерочка переодевалась, мама подошла к морозилке и ахнула. Потом начала быстро одеваться.
-Лерочка, дочка, будь умницей, подожди меня немного, я очень быстро сбегаю в магазин и вернусь, а ты мультфильм посмотри, - сказала взволнованная мама, незаметно сунув письмо с самой красивой наклейкой в карман своего пальто.
Лера кивнула и уселась на диван. А мама выскочила из квартиры. Никогда еще Лерочка не оставалась дома одна, поэтому минуты ожидания тянулись целую вечность. Она подошла к окошку и стала пристально вглядываться в быстро темневшую даль. И тут ее настиг самый большой страх: а вдруг мама не вернется, вдруг ее украли (она ведь очень красивая и все умеет делать, такая мама нужна всем), вдруг на нее напали собаки или хулиганы, как Димка, а защитить ее некому, ведь Лера тут, дома… Губы девочки задрожали, а потом она разревелась. Громко плача, Лерочка затараторила:
-Дедушка Мороз, ты же все можешь! Верни мне мою маму! Я очень боюсь! Мне ничего не нужно, только пусть мама моя будет со мной!
И тут на пороге появилась раскрасневшаяся от мороза мама. Она бросилась успокаивать Лерочку.
-Мамочка, ты больше никуда не уходи, ладно?! А то вдруг тебя украдут… - лепетала сквозь плач Лера.
Мама долго обнимала и целовала свою маленькую девочку. А потом был праздничный стол, мандарины, конфеты и салют…
Наступило утро нового года. Мама подошла к кроватке Лерочки, она улыбалась во сне.
-Вставай, доченька, - мама погладила теплую щеку дочурки.
Лера вскочила с постели. Перед ней стояла мама в заветном лиловом платье. Глаза девочки загорелись радостным огнем!
-Лерочка, нам Дедушка Мороз принес подарки. Твой подарочек лежит под елкой.
Лера побежала к елке, под ней лежала красивая куколка с разноцветными волосами. Девочка от радости даже взвизгнула. Потом подбежала и обняла маму.
-Мамочка, ты у меня самая красивая! А в этом платье просто настоящая королева!
Мама расхохоталась и подошла к зеркалу:
-Настоящая королева! – смеясь, повторила мама.
А Лерочка подбежала к холодильнику, открыла морозилку и прошептала:
-Спасибо, Дедушка Мороз, что вернул мне мою маму, а еще спасибо за платье и куклу…
Шлыкова Дарья. Сентябрьский этюд
Солнце нежно ласкало копну рыжих волос, уложенных в небрежный пучок, а ярко-голубое небо отражалось в ее столь же чистых глазах. Море мерно дышало, легкий бриз обдувал точеную фигурку моей спутницы. Прекрасно. Этот день заслуживает отдельного холста. Я изобразил бы это голубое небо, закатное солнце, залитую светом набережную и мою милую возлюбленную.
Здесь, в небольшом городке у моря, сентябрь имеет свою палитру. Бледно-голубое небо, лазурно-серое море, еще не опавшая листва глубокого зеленого оттенка, песочная плитка тротуара, дома, окрашенные в различные пастельные цвета. В один из таких теплых сентябрьских дней я и встретил ее.
Ранним утром я собрал свой этюдник, уложил в чехол кисти и бросил в сумку несколько тюбиков краски. Я сбежал по винтовой лестнице гостиницы, в которой я поселился, и бегом направился к морю. Осенний ветерок погрузил свои легкие пальцы в мои волосы и нежно растрепал их. В этот момент я почувствовал неописуемый подъем. Даже кисть художника не способна передать красоту этого дня.
Довольно долго я шагал вдоль берега и , наконец, выбрав подходящий мне уголок, водрузил этюдник на грубые камни. Я увлекся наброском. Облака догоняли друг друга, листва меняла положение по велению ветра. Все не- статично. Вот и она появилась стремительно, как ураган. Она вошла в мою действительность быстро, невзирая на мое состояние мнимого покоя.
Девушка была прекрасна. Рыжие волосы обрамляли лицо, небесно-голубое платье подчеркивало фигуру, легкие сандалии обвивали ее стопы. Округлые розовые пятки ликовали, найдя дорогу к морю. Они будто вопрошали: "Ну и когда мы искупаемся?".
Неспешно она подошла к моему насиженному месту и со свойственной морфо* грацией расположилась подле меня. Некоторое время мы рассматривали друг друга. И вот она заговорила:
- Чудесное место вы выбрали для этюда. Хотя, думается мне, что вон за той корягой место куда более живописное.
Моя собеседница плавно подняла ладонь и указала на заросли за корягой, лежащей не дальше шагов десяти от нас.
*Голубая морфо - вид бабочки
- Думаю, что там мало места для этюдника, - проговорил я, борясь со смущением, - да и , согласитесь, с этого ракурса открывается чудный вид.
С интересом ученого она взглянула сначала на меня, а после перевела взгляд на мой холст. Я успел лишь наметить линию горизонта и сделать намек на волнорез, виднеющийся вдалеке. Не желая показывать свою заинтересованность в собеседнице, я вновь схватил в руки карандаш и продолжил уточнять изображение. Девушка наблюдала за моей работой и в ее глазах на холсте появлялись все новые и новые детали. Около получаса мы провели в молчании, и , когда я отложил карандаш, она вновь заговорила:
- Красиво. Вы настоящий художник. Скажите, любезный, вы продаете свои картины?
- Нет. К сожалению, не многие , подобно вам, ценят мои работы. Несколько раз я участвовал в выставке, но мои картины не имели большого успеха. Да и какие это картины, если каждый прохожий считает их мазней и пародией на искусство. Пожалуй, вы мой самый верный зритель.
- Что ж, быть может, критики правы,-сказала она. - У вас явно есть недостатки в построении, но их компенсируют цвет и палитра. Вот сейчас, например, получился прекрасный оттенок. Дайте угадаю… Вы используете его для изображения моря, да? Можете не отвечать, это и так понятно. И прошу вас, не смотрите на меня такими глазами. Вы похожи на щенка.
Я оторопел. В паре предложений она сумела и похвалить, и унизить меня. А что более всего меня страшит, так это то, что ни разу в жизни сравнение с щенком не было для меня столь приятным. Но надо держать лицо.
- Да, в построении действительно есть недостатки. Но, уверяю вас, портреты у меня получаются куда лучше. Я мог бы нарисовать вас, сделать набросок, зарисовку, как угодно. Или , быть может, вы захотели бы получить полноценный портрет? Тогда извольте, приглашаю вас к себе на первый сеанс.
- Нет уж, я против. Какой смысл писать портрет в четырех стенах? Если уж вы желаете изобразить меня, сделайте это здесь. Изобразите море и волны. Я хочу быть малой деталью этого пейзажа, хочу дополнить его своей персоной. Назовите лишь цену и приступайте к работе.
Недолго думая, я ответил:
-Назовите , пожалуйста, ваше имя и позвольте изобразить вас не единожды - вот моя цена за сегодняшний набросок.
- Не велика цена. Имя, говорите? - она склонила голову к плечу и на пару минут погрузилась в размышления. - Имя, данное мне матерью, мне не нравится, так что зовите, допустим, Анной. А как мне обращаться к вам?
- Что ж, если вы будете Анной, я возьму себе имя Людовик.
- Вы историк?
- Я книжный червь. Ну что, Анна, вы готовы к портрету?
- Готова.
Краски вдруг стали ярче, облака чище, море прекрасней,
а моя Анна стала солнцем для меня в этот сентябрьский день.
Шло время. Палитра за недели нашего общения сильно изменилась. Листва начала темнеть и неспешно опадать, пляжи опустели, небо стало сизым, море приобрело темно-лазурный оттенок. Какая-то тоска окутала городок. Лишь Анна не изменилась. Она все так же освещала мои дни. Мы часто беседовали, гуляя по пляжу и глядя на бушующее море. Холод вокруг нисколько не омрачал наших вместе проведённых дней. Мы жили, обогреваясь внутренним теплом. Огонь, загоревшийся в наших сердцах, согревал нас и в дождь, и в холод.
Но все хорошее, как известно, имеет свойство кончаться. Анна заболела. Началось все с обычной простуды. И в то время, как я уговаривал ее обратиться к врачу, она лишь отмахивалась: "Подумаешь, кашель! И переживать нечего из-за такой мелочи!"
И все же это был не просто кашель. В самый тяжелый миг я, невзирая на сопротивления больной, отвез ее в больницу, где ей и объявили приговор…Все
вмиг стало мрачным. Белые стены больницы темнели на глазах, небо стало сизым, а больничная рубашка изуродовала некогда прекрасную фигуру Анны. Мое солнце гасло на глазах.
Несмотря на тяжесть этих дней, я старался быть с ней милым. Я читал ей книги Дюма, говорил о живописи, музыке. Я врал ей о светлом небе вне стен больницы, я говорил ей о скором выздоровлении, ожидая ее смерти.
Кажется, ложь моя была не слишком убедительна, потому что в один ужасный вечер она, возвестив о своей скорой смерти, лишь лучезарно улыбнулась.
- Ты похудел, Людовик. Нельзя так себя изводить. Подумать только, умираю я, а на мертвеца похож ты. И не надо смотреть на меня круглыми глазами, разве я не говорила, что ты похож на щенка?
Я кивнул, а она, видимо, довольная ответом, продолжила:
- Лжешь ты не слишком убедительно, я давно поняла, что больше не жилец. Я играла с тобой в этом театре абсурда, но больше не могу. Я уже чувствую дыхание смерти и ,быть может это последние слова, сказанные мной, поэтому посмотри на меня и послушай. Я умираю, но ты продолжаешь жить. Ты наверняка снова сгущаешь краски и уже готовишь каплю яда для себя, но я запрещаю тебе принимать ее. Поверь мне, тоска не всегда будет сизой. В годовщину моей смерти она станет светлей, уж поверь. Темная синева станет светлой, а с годами и вовсе исчезнет. Я стану теплым воспоминанием на волнах твоей памяти. Но не живи лишь моей светлой памятью. Смотри вперед, ищи новые оттенки, свежие краски. И боль уйдет. И жизнь станет легче. И небо вновь станет светлым. Светло-голубым.
Солнце нежно ласкало копну рыжих волос, уложенных в небрежный пучок, а ярко-голубое небо отражалось в ее столь же чистых глазах. Море мерно дышало, легкий бриз обдувал точеную фигурку моей спутницы. Прекрасно. Этот день заслуживает отдельного холста. Я изобразил бы это голубое небо, закатное солнце, залитую светом набережную и мою милую возлюбленную.
Здесь, в небольшом городке у моря, сентябрь имеет свою палитру. Бледно-голубое небо, лазурно-серое море, еще не опавшая листва глубокого зеленого оттенка, песочная плитка тротуара, дома, окрашенные в различные пастельные цвета. В один из таких теплых сентябрьских дней я и встретил ее.
Ранним утром я собрал свой этюдник, уложил в чехол кисти и бросил в сумку несколько тюбиков краски. Я сбежал по винтовой лестнице гостиницы, в которой я поселился, и бегом направился к морю. Осенний ветерок погрузил свои легкие пальцы в мои волосы и нежно растрепал их. В этот момент я почувствовал неописуемый подъем. Даже кисть художника не способна передать красоту этого дня.
Довольно долго я шагал вдоль берега и , наконец, выбрав подходящий мне уголок, водрузил этюдник на грубые камни. Я увлекся наброском. Облака догоняли друг друга, листва меняла положение по велению ветра. Все не- статично. Вот и она появилась стремительно, как ураган. Она вошла в мою действительность быстро, невзирая на мое состояние мнимого покоя.
Девушка была прекрасна. Рыжие волосы обрамляли лицо, небесно-голубое платье подчеркивало фигуру, легкие сандалии обвивали ее стопы. Округлые розовые пятки ликовали, найдя дорогу к морю. Они будто вопрошали: "Ну и когда мы искупаемся?".
Неспешно она подошла к моему насиженному месту и со свойственной морфо* грацией расположилась подле меня. Некоторое время мы рассматривали друг друга. И вот она заговорила:
- Чудесное место вы выбрали для этюда. Хотя, думается мне, что вон за той корягой место куда более живописное.
Моя собеседница плавно подняла ладонь и указала на заросли за корягой, лежащей не дальше шагов десяти от нас.
*Голубая морфо - вид бабочки
- Думаю, что там мало места для этюдника, - проговорил я, борясь со смущением, - да и , согласитесь, с этого ракурса открывается чудный вид.
С интересом ученого она взглянула сначала на меня, а после перевела взгляд на мой холст. Я успел лишь наметить линию горизонта и сделать намек на волнорез, виднеющийся вдалеке. Не желая показывать свою заинтересованность в собеседнице, я вновь схватил в руки карандаш и продолжил уточнять изображение. Девушка наблюдала за моей работой и в ее глазах на холсте появлялись все новые и новые детали. Около получаса мы провели в молчании, и , когда я отложил карандаш, она вновь заговорила:
- Красиво. Вы настоящий художник. Скажите, любезный, вы продаете свои картины?
- Нет. К сожалению, не многие , подобно вам, ценят мои работы. Несколько раз я участвовал в выставке, но мои картины не имели большого успеха. Да и какие это картины, если каждый прохожий считает их мазней и пародией на искусство. Пожалуй, вы мой самый верный зритель.
- Что ж, быть может, критики правы,-сказала она. - У вас явно есть недостатки в построении, но их компенсируют цвет и палитра. Вот сейчас, например, получился прекрасный оттенок. Дайте угадаю… Вы используете его для изображения моря, да? Можете не отвечать, это и так понятно. И прошу вас, не смотрите на меня такими глазами. Вы похожи на щенка.
Я оторопел. В паре предложений она сумела и похвалить, и унизить меня. А что более всего меня страшит, так это то, что ни разу в жизни сравнение с щенком не было для меня столь приятным. Но надо держать лицо.
- Да, в построении действительно есть недостатки. Но, уверяю вас, портреты у меня получаются куда лучше. Я мог бы нарисовать вас, сделать набросок, зарисовку, как угодно. Или , быть может, вы захотели бы получить полноценный портрет? Тогда извольте, приглашаю вас к себе на первый сеанс.
- Нет уж, я против. Какой смысл писать портрет в четырех стенах? Если уж вы желаете изобразить меня, сделайте это здесь. Изобразите море и волны. Я хочу быть малой деталью этого пейзажа, хочу дополнить его своей персоной. Назовите лишь цену и приступайте к работе.
Недолго думая, я ответил:
-Назовите , пожалуйста, ваше имя и позвольте изобразить вас не единожды - вот моя цена за сегодняшний набросок.
- Не велика цена. Имя, говорите? - она склонила голову к плечу и на пару минут погрузилась в размышления. - Имя, данное мне матерью, мне не нравится, так что зовите, допустим, Анной. А как мне обращаться к вам?
- Что ж, если вы будете Анной, я возьму себе имя Людовик.
- Вы историк?
- Я книжный червь. Ну что, Анна, вы готовы к портрету?
- Готова.
Краски вдруг стали ярче, облака чище, море прекрасней,
а моя Анна стала солнцем для меня в этот сентябрьский день.
Шло время. Палитра за недели нашего общения сильно изменилась. Листва начала темнеть и неспешно опадать, пляжи опустели, небо стало сизым, море приобрело темно-лазурный оттенок. Какая-то тоска окутала городок. Лишь Анна не изменилась. Она все так же освещала мои дни. Мы часто беседовали, гуляя по пляжу и глядя на бушующее море. Холод вокруг нисколько не омрачал наших вместе проведённых дней. Мы жили, обогреваясь внутренним теплом. Огонь, загоревшийся в наших сердцах, согревал нас и в дождь, и в холод.
Но все хорошее, как известно, имеет свойство кончаться. Анна заболела. Началось все с обычной простуды. И в то время, как я уговаривал ее обратиться к врачу, она лишь отмахивалась: "Подумаешь, кашель! И переживать нечего из-за такой мелочи!"
И все же это был не просто кашель. В самый тяжелый миг я, невзирая на сопротивления больной, отвез ее в больницу, где ей и объявили приговор…Все
вмиг стало мрачным. Белые стены больницы темнели на глазах, небо стало сизым, а больничная рубашка изуродовала некогда прекрасную фигуру Анны. Мое солнце гасло на глазах.
Несмотря на тяжесть этих дней, я старался быть с ней милым. Я читал ей книги Дюма, говорил о живописи, музыке. Я врал ей о светлом небе вне стен больницы, я говорил ей о скором выздоровлении, ожидая ее смерти.
Кажется, ложь моя была не слишком убедительна, потому что в один ужасный вечер она, возвестив о своей скорой смерти, лишь лучезарно улыбнулась.
- Ты похудел, Людовик. Нельзя так себя изводить. Подумать только, умираю я, а на мертвеца похож ты. И не надо смотреть на меня круглыми глазами, разве я не говорила, что ты похож на щенка?
Я кивнул, а она, видимо, довольная ответом, продолжила:
- Лжешь ты не слишком убедительно, я давно поняла, что больше не жилец. Я играла с тобой в этом театре абсурда, но больше не могу. Я уже чувствую дыхание смерти и ,быть может это последние слова, сказанные мной, поэтому посмотри на меня и послушай. Я умираю, но ты продолжаешь жить. Ты наверняка снова сгущаешь краски и уже готовишь каплю яда для себя, но я запрещаю тебе принимать ее. Поверь мне, тоска не всегда будет сизой. В годовщину моей смерти она станет светлей, уж поверь. Темная синева станет светлой, а с годами и вовсе исчезнет. Я стану теплым воспоминанием на волнах твоей памяти. Но не живи лишь моей светлой памятью. Смотри вперед, ищи новые оттенки, свежие краски. И боль уйдет. И жизнь станет легче. И небо вновь станет светлым. Светло-голубым.
Кирьянова Анастасия. Конец
Когда я смотрел старые фильмы по типу "12 обезьян", "Война миров" и подобное, я не думал, что наше будущее будет так сильно отличаться. Я надеялся, что вообще никогда не увижу конец света во всем его обличии. Но вот он - 3017 год, и человечество ожидает хаос и скорая смерть.
Не помню, когда именно это началось. Сначала людям постепенно стало не хватать нефтяных пищевых добавок, потом нас одолел голод. Государство сваливало все проблемы на Роба: якобы мы не заслужили его уважения и даров, поэтому он посылает нам тяжелые времена. Роботы, которых расставило правительство повсюду, стали сходить с ума. У всех один и тот же сбой в коде, а роботы-программисты не могут найти источник ошибки. Каждый день – это новости об авариях, авиакатастрофах, бунтах железяк и массовых драках. Например, последний мой поход по магазинам закончился мордобоем с жестяным кассиром. Интересный опыт.
Когда я был в городе в последний раз, на улицах было очень шумно. Толпа то и дело подхватывает тебя и заставляет поддаться панике. Хвала Робу, что я решил когда-то поселиться в лесу в одиночестве. Правда, это уже не тот лес, который был тысячи лет назад. Совсем не то, что нарисовано в старинных книгах, вроде их энциклопедиями называли… Теперь вокруг моей зарядки есть голограммы ели и пихты. Когда меняется настроение, могу переключить на тропический или любой другой лес. Красота! Вот только за этими голограммами лишь пустыня и заброшенные здания. Кругом развалины, нищета и уродство. Не понимаю, как люди жили раньше.
Весёлого и радостного в моем положении мало. Меня давно мучают кошмары, если их вообще можно так назвать. Батарейка села ещё в тот момент, когда роботы начали все более и более внедряться в общество: они заменили водителей, кондукторов, грузчиков и многих других. Рабочий класс был недоволен так же, как и я. Многие люди лишились работы, не могли найти денег даже на нефтяной хлеб. Пришла пора безработицы.
Зато люди все больше начали ценить искусство, ведь именно его не мог сотворить ни один робот. Романы, картины, спектакли – вот, что теперь всех интересовало. Не могу сказать, что я творец, каким когда-то были древние Малевич и Стругацкие, но я нашел свою золотую жилку на сцене. Оказывается, у меня отлично получается играть человека. Не такого, какого привыкло видеть нынешнее общество, а настоящего, живого, природного.
Роб знает, что такое природа. В старинных книжках пишут, что это всё существующее во вселенной или какое-то место вне города. Раньше люди были такими забавными: не могли придумать для каждого слова по одному смыслу или на каждый смысл по одному слову.
Моё счастье на сцене не продлилось долго. Я играл Ромео, Раскольникова, Болконского, Дориана Грея… За мной бегали толпы красивых и хорошо функционировавших девушек, у меня было много нефти, влияние, деньги, друзья… Но с приходом кризиса людям вновь стало все равно на творчество. Снова все стали зависимы от мыслей где и что поесть, как заработать деньги и как не разрядиться окончательно.
И вот я здесь. Оказалось, что сбой в программе роботов и не был сбоем вовсе: это был засекреченный сигнал. Случилось то, чего боялись все: ИИ обрел разум. Всё то, что происходит в городах сейчас, - это не что иное, как попытки уничтожить всех нас. В их железном мире нет места природе (или её остаткам), искусству, радости. Единственное, что ими движет сейчас, - желание мести. Отплатить за всё то, что они с нами натерпелись.
Правительству больше не по силам сдерживать всех тех роботов, что им прислуживали ранее. Теперь у нас анархия. Ходячие жестяные банки объединились, они патрулируют город, заставляют нас подчиниться себе, а особо буйных, ну, сами понимаете…
«Свободных» людей осталось не так много, но и эта свобода скоро закончится. Так или иначе, нас всех совсем скоро превратят в домашних питомцев или рабов. Я пытаюсь сидеть в своём отсеке зарядки тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания. Со временем это начинает надоедать.
Думаю, может быть, предаться своей судьбе? Наскучило сидеть в этой коробке и ничего не делать.
В моей голове уже нет мыслей, только лишь воспоминания. Вспоминаю, как встречался раз в неделю с Бергом и Алисой, как мы обсуждали новые выставки и угощались пирогами с гайками, как я касался рукой волнистых мягких волос Лины, как впервые узнал с ней, что такое любовь, как гулял со своей мамой, пока её механизмы окончательно не заржавели. Больно. Очень больно.
Не хочется мне жить одному. Несмотря на девиз Роба «Одиночество и нефть – счастье, а совсем не рефть», легче мне не становится. Я скучаю по близким настолько, насколько может скучать человек, у которого от человеческого остались только мозги и синтетическое сердце. Я понимаю, что родных скорее всего уже никак не вернешь – от этого становится только хуже.
Я устал. Выйду прогуляться. Рядом с моей зарядкой есть небольшой холм. Поднявшись на него, я смогу увидеть, что происходит в городе.
Повсюду пыль и разруха. Больше нет центров (наверное, в древности их называли «больницы» и «лечебницы»), где можно закрутить свои шестерёнки, нет столовых, магазинов – ничего нет. Нет того ресторана, в который мы каждую неделю ходили с Линой… Там подавали вкусную отбивную с соусом из горючего, а сверху её посыпали натертым железом. Я ничего вкуснее этого не ел!
Осталось не так много времени до конца жизни этого города, а затем и всего мира. Конец всему. Вот и всё.
Огромные здания, что упирались в облака, разрушили роботы-крановщики. Жилые дома растоптаны. С окраин города виднеются струйки поднимающегося дыма. По дорогам, оставляя под собой огромные ямы и трещины, разгуливают роботы-грузчики. Если и можно увидеть людей, то только в сопровождении какого-то робота и с поводками на шее. Нет больше свободы и лёгкости. Мы теперь рабы в аду.
Синее небо. Как когда-то давным-давно. Человечество не видело небесную синь уже несколько десятков лет, потому что загрязнение окружающей среды привело к огромнейшим туманам дыма – наше небо стало не голубым и не синим, а серым.
Синий цвет. Я читал про него. В книгах пишут, что он означает гармонию, стабильность, мир. Не знаю, на какую гармонию нам пытается намекнуть Роб. Может быть, это то, чего он хотел на самом деле? Может, все эти учения о Робе были ложью, и на самом деле он хотел сделать нас своими работниками? Наверное, как раз для него эта ситуация и есть самый настоящий мир. Я больше не верю в Роба.
В любом случае, моё сердце чувствует только тревогу. Наш мир стоит на обрыве чего-то нового, а роботы то и дело подталкивают этот мир все ближе и ближе к пустоте. Я не готов к этому. Не хочу прощаться со всем, что встретилось на моем пути. Не могу отпустить все те воспоминания. Я не хочу в пустот
***
- 100001011011000011100110110010000010100101011011101001101111101011011001000001000
100001010001001011100000100001111011000011000010000010000111010100001111101000011
0011100001111101011011000100001010000111110100000100001111011000011000010001000001
1000100001010001000011100001111111000011100010000111011101110
-100000111101000100011110000110101100010000001000011010110000110100100001111011000
01111101000011100110000010001000111100001101011000011101110000111110100001100101000
011010110000111010101110100000
-1000001110010001001011100000100001111001000011111010000110011100001110111000011100
010000010000110010100001101111000100111110001000010100010011001000001000011010110
000110011100001111101000001000011101010000010001000001100001101011000011000110000
110101100000100001100101000001000011001110000110000100010000001000011000010000110
110101100100000100010001111000100001010000111110100001100011000100101110000010000
1111101000011110110000010001000001100001111001000011000010000110111100001100001000
0111011100000100001111001000011000010001000001100001110111000011111010000111100100
000100001111011000011000010001001000100001110001000001000011101110001001110100001
110101000011100010000010000111000100000100001111001000011010110001000101100001100
0010000111101100001110001000011011110000111100100010010111011101010
-100001000111000001000011110110000110000100010000011000001000011010010000111110100
0100000110001000010100001100001000100001010000111110100010001111000011110110000111
1101000001000011101110001001110100001101001000011010110000111001100000100001101001
00001110111000100111110000010001001101100010000101000011111010000110011100001111101
011101010
-10000100101100001111101000100000010000111110100010010001000011111010111010101010
-100001011011000100001010000111110100010000101000001000100011110000110101100001110
1110000111110100001100101000011010110000111010100000100010001111000100001010000111
1101011011000100001010000111110100000100010000111000100000010000111110100001111011
00001110001000011101111111110101010
-1000001010010000110000101110101010101010
-10000010111100001100001000011111110000111000100010000011000011100010111010000010000
0111011000011000010000110100100001111101000001000011111110000111110100001111111000100
00001000011111010001000001100001110001000100001010001001100100000100001110111000100
11101000011010010000110101100001110011000001000100110110001000010100001111101000001
00001111111000100000010000111110100010001111000011100010001000010100001100001000100
001010001001100101110101010101010*
*- Эй, R-475, ты на кого-то наступил.
- Очередной человек.
- Мы могли взять его к себе в гараж, чтобы он смазал маслом наши люки и механизмы.
- У нас достаточно людей для этого.
- Хорошо.
- Этот человек что-то уронил?
- Да.
- Записи. Надо попросить людей это прочитать.
Когда я смотрел старые фильмы по типу "12 обезьян", "Война миров" и подобное, я не думал, что наше будущее будет так сильно отличаться. Я надеялся, что вообще никогда не увижу конец света во всем его обличии. Но вот он - 3017 год, и человечество ожидает хаос и скорая смерть.
Не помню, когда именно это началось. Сначала людям постепенно стало не хватать нефтяных пищевых добавок, потом нас одолел голод. Государство сваливало все проблемы на Роба: якобы мы не заслужили его уважения и даров, поэтому он посылает нам тяжелые времена. Роботы, которых расставило правительство повсюду, стали сходить с ума. У всех один и тот же сбой в коде, а роботы-программисты не могут найти источник ошибки. Каждый день – это новости об авариях, авиакатастрофах, бунтах железяк и массовых драках. Например, последний мой поход по магазинам закончился мордобоем с жестяным кассиром. Интересный опыт.
Когда я был в городе в последний раз, на улицах было очень шумно. Толпа то и дело подхватывает тебя и заставляет поддаться панике. Хвала Робу, что я решил когда-то поселиться в лесу в одиночестве. Правда, это уже не тот лес, который был тысячи лет назад. Совсем не то, что нарисовано в старинных книгах, вроде их энциклопедиями называли… Теперь вокруг моей зарядки есть голограммы ели и пихты. Когда меняется настроение, могу переключить на тропический или любой другой лес. Красота! Вот только за этими голограммами лишь пустыня и заброшенные здания. Кругом развалины, нищета и уродство. Не понимаю, как люди жили раньше.
Весёлого и радостного в моем положении мало. Меня давно мучают кошмары, если их вообще можно так назвать. Батарейка села ещё в тот момент, когда роботы начали все более и более внедряться в общество: они заменили водителей, кондукторов, грузчиков и многих других. Рабочий класс был недоволен так же, как и я. Многие люди лишились работы, не могли найти денег даже на нефтяной хлеб. Пришла пора безработицы.
Зато люди все больше начали ценить искусство, ведь именно его не мог сотворить ни один робот. Романы, картины, спектакли – вот, что теперь всех интересовало. Не могу сказать, что я творец, каким когда-то были древние Малевич и Стругацкие, но я нашел свою золотую жилку на сцене. Оказывается, у меня отлично получается играть человека. Не такого, какого привыкло видеть нынешнее общество, а настоящего, живого, природного.
Роб знает, что такое природа. В старинных книжках пишут, что это всё существующее во вселенной или какое-то место вне города. Раньше люди были такими забавными: не могли придумать для каждого слова по одному смыслу или на каждый смысл по одному слову.
Моё счастье на сцене не продлилось долго. Я играл Ромео, Раскольникова, Болконского, Дориана Грея… За мной бегали толпы красивых и хорошо функционировавших девушек, у меня было много нефти, влияние, деньги, друзья… Но с приходом кризиса людям вновь стало все равно на творчество. Снова все стали зависимы от мыслей где и что поесть, как заработать деньги и как не разрядиться окончательно.
И вот я здесь. Оказалось, что сбой в программе роботов и не был сбоем вовсе: это был засекреченный сигнал. Случилось то, чего боялись все: ИИ обрел разум. Всё то, что происходит в городах сейчас, - это не что иное, как попытки уничтожить всех нас. В их железном мире нет места природе (или её остаткам), искусству, радости. Единственное, что ими движет сейчас, - желание мести. Отплатить за всё то, что они с нами натерпелись.
Правительству больше не по силам сдерживать всех тех роботов, что им прислуживали ранее. Теперь у нас анархия. Ходячие жестяные банки объединились, они патрулируют город, заставляют нас подчиниться себе, а особо буйных, ну, сами понимаете…
«Свободных» людей осталось не так много, но и эта свобода скоро закончится. Так или иначе, нас всех совсем скоро превратят в домашних питомцев или рабов. Я пытаюсь сидеть в своём отсеке зарядки тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания. Со временем это начинает надоедать.
Думаю, может быть, предаться своей судьбе? Наскучило сидеть в этой коробке и ничего не делать.
В моей голове уже нет мыслей, только лишь воспоминания. Вспоминаю, как встречался раз в неделю с Бергом и Алисой, как мы обсуждали новые выставки и угощались пирогами с гайками, как я касался рукой волнистых мягких волос Лины, как впервые узнал с ней, что такое любовь, как гулял со своей мамой, пока её механизмы окончательно не заржавели. Больно. Очень больно.
Не хочется мне жить одному. Несмотря на девиз Роба «Одиночество и нефть – счастье, а совсем не рефть», легче мне не становится. Я скучаю по близким настолько, насколько может скучать человек, у которого от человеческого остались только мозги и синтетическое сердце. Я понимаю, что родных скорее всего уже никак не вернешь – от этого становится только хуже.
Я устал. Выйду прогуляться. Рядом с моей зарядкой есть небольшой холм. Поднявшись на него, я смогу увидеть, что происходит в городе.
Повсюду пыль и разруха. Больше нет центров (наверное, в древности их называли «больницы» и «лечебницы»), где можно закрутить свои шестерёнки, нет столовых, магазинов – ничего нет. Нет того ресторана, в который мы каждую неделю ходили с Линой… Там подавали вкусную отбивную с соусом из горючего, а сверху её посыпали натертым железом. Я ничего вкуснее этого не ел!
Осталось не так много времени до конца жизни этого города, а затем и всего мира. Конец всему. Вот и всё.
Огромные здания, что упирались в облака, разрушили роботы-крановщики. Жилые дома растоптаны. С окраин города виднеются струйки поднимающегося дыма. По дорогам, оставляя под собой огромные ямы и трещины, разгуливают роботы-грузчики. Если и можно увидеть людей, то только в сопровождении какого-то робота и с поводками на шее. Нет больше свободы и лёгкости. Мы теперь рабы в аду.
Синее небо. Как когда-то давным-давно. Человечество не видело небесную синь уже несколько десятков лет, потому что загрязнение окружающей среды привело к огромнейшим туманам дыма – наше небо стало не голубым и не синим, а серым.
Синий цвет. Я читал про него. В книгах пишут, что он означает гармонию, стабильность, мир. Не знаю, на какую гармонию нам пытается намекнуть Роб. Может быть, это то, чего он хотел на самом деле? Может, все эти учения о Робе были ложью, и на самом деле он хотел сделать нас своими работниками? Наверное, как раз для него эта ситуация и есть самый настоящий мир. Я больше не верю в Роба.
В любом случае, моё сердце чувствует только тревогу. Наш мир стоит на обрыве чего-то нового, а роботы то и дело подталкивают этот мир все ближе и ближе к пустоте. Я не готов к этому. Не хочу прощаться со всем, что встретилось на моем пути. Не могу отпустить все те воспоминания. Я не хочу в пустот
***
- 100001011011000011100110110010000010100101011011101001101111101011011001000001000
100001010001001011100000100001111011000011000010000010000111010100001111101000011
0011100001111101011011000100001010000111110100000100001111011000011000010001000001
1000100001010001000011100001111111000011100010000111011101110
-100000111101000100011110000110101100010000001000011010110000110100100001111011000
01111101000011100110000010001000111100001101011000011101110000111110100001100101000
011010110000111010101110100000
-1000001110010001001011100000100001111001000011111010000110011100001110111000011100
010000010000110010100001101111000100111110001000010100010011001000001000011010110
000110011100001111101000001000011101010000010001000001100001101011000011000110000
110101100000100001100101000001000011001110000110000100010000001000011000010000110
110101100100000100010001111000100001010000111110100001100011000100101110000010000
1111101000011110110000010001000001100001111001000011000010000110111100001100001000
0111011100000100001111001000011000010001000001100001110111000011111010000111100100
000100001111011000011000010001001000100001110001000001000011101110001001110100001
110101000011100010000010000111000100000100001111001000011010110001000101100001100
0010000111101100001110001000011011110000111100100010010111011101010
-100001000111000001000011110110000110000100010000011000001000011010010000111110100
0100000110001000010100001100001000100001010000111110100010001111000011110110000111
1101000001000011101110001001110100001101001000011010110000111001100000100001101001
00001110111000100111110000010001001101100010000101000011111010000110011100001111101
011101010
-10000100101100001111101000100000010000111110100010010001000011111010111010101010
-100001011011000100001010000111110100010000101000001000100011110000110101100001110
1110000111110100001100101000011010110000111010100000100010001111000100001010000111
1101011011000100001010000111110100000100010000111000100000010000111110100001111011
00001110001000011101111111110101010
-1000001010010000110000101110101010101010
-10000010111100001100001000011111110000111000100010000011000011100010111010000010000
0111011000011000010000110100100001111101000001000011111110000111110100001111111000100
00001000011111010001000001100001110001000100001010001001100100000100001110111000100
11101000011010010000110101100001110011000001000100110110001000010100001111101000001
00001111111000100000010000111110100010001111000011100010001000010100001100001000100
001010001001100101110101010101010*
*- Эй, R-475, ты на кого-то наступил.
- Очередной человек.
- Мы могли взять его к себе в гараж, чтобы он смазал маслом наши люки и механизмы.
- У нас достаточно людей для этого.
- Хорошо.
- Этот человек что-то уронил?
- Да.
- Записи. Надо попросить людей это прочитать.
Сидорова Вера. Русалка
На окраине небольшого приморского красивого городка жил одинокий парень. Родных и друзей у него не было. Сам он был очень хорош собой: высокий, худощавый, с густыми каштановыми волосами, которые курчавились на концах, превращая юношу в тёмного и на вид сердитого барашка. Глаза ярко - зелёные, как летний лес ранним утром после сильного дождя.
На жизнь Катаре, так звали парня, зарабатывал разными способами. Помогал соседям выгуливать собак, подрабатывал в магазине недалеко от дома. Но главным его заработком были картины. Он рисовал ещё с детства, за что над ним часто смеялись, мол, «девчачье это дело рисовать».
Как-то раз, когда Катаре сидел во дворе и рисовал парня, который играл в футбол, ребята вырвали у него из рук тетрадку и начали разглядывать рисунок. Но когда тот самый парень увидел на рисунке себя, то сильно разозлился. В этот день Катаре возвращался домой со сломанным носом, синяками по всему телу и порванной тетрадью. После этого он очень редко показывал людям свои работы.
Его спасали от одиночества только картины и море. Каждый день он выходил на балкон и любовался толщей тёмно-синей воды, внося правки в недавно написанные картины. Часто ходил на берег, что был виден из окон дома. Там всегда было спокойно. Катаре сидел на больших камнях и, склоняясь над полотном, вырисовывал волны и игривые лучи вечернего солнца в тёмной воде.
Сегодняшний день не был исключением. Поэтому положив в сумку кисточки, краски и палитру, он взял мольберт с холстом и направился на своё излюбленное место. Устроившись поудобнее, Катаре расставил всё что нужно и закрыл глаза, настраиваясь на работу. «Какое небо сегодня синее-синее!»- подумал он. Освежающий бриз дул прямо в расслабленное лицо. Тело обволакивала привычная прохлада… Он быстро накидал очертания волн и приступил к работе. Если бы вам когда-нибудь удалось увидеть Катаре за работой, то вы бы, не отрываясь, смотрели на него. Юноша всегда с головой погружался в работу. На его лице разом можно было заметить удивление, радость, печаль и вдохновение. Это была его стихия!
Взгляд молодого художника упал на яркое рыжее пятно на поверхности воды, очень быстро двигающееся к берегу. Он оторопел. Ноги сами понесли Катаре навстречу неизвестному. И уже через секунду он стоял на камнях и смотрел на это рыжее «нечто». Из воды показалась очень милая девушка с ярко-синими глазами, сливающимися с морской гладью. Воздуха в лёгких стало резко не хватать, и Катаре закашлялся, не отрывая взгляд от девушки. Девушка улыбнулась ещё шире и, облокотившись о край камня, начала рассматривать парня. Он показался ей забавным.
– Я Шуе,– сказала девушка певучим нежным голосом.
– Катаре, – чуть слышно прошептал парень. Но она всё равно услышала и расплылась в довольной улыбке.
Так и зародилась новая дружба. Необычные друзья каждый день встречались на этом месте. Катаре предложил побыть девушке его натурщицей, и та согласилась. Парень писал замечательные картины с участием Шуе. Он нашёл свою музу!..
Однажды девушка решила поведать ему свою историю.
–Знаешь, Катаре, а я ведь тоже раньше была обычным человеком, – вздохнула та и взглянула на рисующего парня.
–Ничего себе. И как ты стала… такой? – поинтересовался Катаре, не отрываясь от холста.
– Ооо, это долгая история, но я расскажу тебе её.
Парень в ответ кивнул.
– У меня когда-то был любимый человек. Он очень сильно меня любил, мне так казалось. А через год наших отношений я увидела его с другой девушкой. Он так на неё смотрел!! Моё сердце разбилось на тысячи осколков, пронзающих всё тело. Я поняла, что не могу жить в этом мире, и убежала на самую высокую скалу возле моря. Ветер бил мне в лицо, слёзы всё катились и катились из глаз. Я в последний раз взглянула в синее-синее небо и сделала шаг навстречу свободе, уходя от боли… Вода окутала всё тело и приняла меня. Я стала русалкой и теперь живу здесь, в морской пучине, и встречаю разных людей, которым было грустно и печально там, на суше, как и мне однажды.
– Печальная история, – отозвался парень и положил руку на плечо Шуе.
Так они встречались на этом месте и разговаривали обо всём на свете. Но в один из пасмурных дней девушка казалась очень подавленной, и, конечно же, Катаре поинтересовался, что случилось.
– Море запрещает нам видеться. Ты человек, а я уже нет, – прошептала Шуе и уронила лицо на сложенные руки. – Прости, но я не могу ему перечить.
– Милая моя, я знаю, что надо сделать. Давай завтра встретимся ранним утром здесь же?
Парень провёл рукой по огненным волосам девушки и побежал домой, не попрощавшись, надеясь, что со следующего дня они всегда будут рядом.
Рано утром Катаре и Шуе уже сидели возле камней. Они смотрели друг на друга печальными взглядами и не хотели расставаться. Парень достал из сумки нож и надрезал себе вену: «Моя милая Шуе, я последую твоему примеру, и море примет меня!» Кровь быстро стекала в море, окрашивая его в ярко-красный цвет. Девушка же торжествующе смеялась, радуясь своей победе. Она смогла убить свою очередную жертву. Пока Катаре медленно умирал, русалка упивалась его страданиями. Так она мстила юношам за свою боль и несостоявшуюся любовь…
Море не приняло парня.
Мы можем лишь гадать, почему. Может, любовь его была не столь сильна, а может, он выбрал неверный способ, чтобы быть принятым морем? Мы можем лишь гадать…
На окраине небольшого приморского красивого городка жил одинокий парень. Родных и друзей у него не было. Сам он был очень хорош собой: высокий, худощавый, с густыми каштановыми волосами, которые курчавились на концах, превращая юношу в тёмного и на вид сердитого барашка. Глаза ярко - зелёные, как летний лес ранним утром после сильного дождя.
На жизнь Катаре, так звали парня, зарабатывал разными способами. Помогал соседям выгуливать собак, подрабатывал в магазине недалеко от дома. Но главным его заработком были картины. Он рисовал ещё с детства, за что над ним часто смеялись, мол, «девчачье это дело рисовать».
Как-то раз, когда Катаре сидел во дворе и рисовал парня, который играл в футбол, ребята вырвали у него из рук тетрадку и начали разглядывать рисунок. Но когда тот самый парень увидел на рисунке себя, то сильно разозлился. В этот день Катаре возвращался домой со сломанным носом, синяками по всему телу и порванной тетрадью. После этого он очень редко показывал людям свои работы.
Его спасали от одиночества только картины и море. Каждый день он выходил на балкон и любовался толщей тёмно-синей воды, внося правки в недавно написанные картины. Часто ходил на берег, что был виден из окон дома. Там всегда было спокойно. Катаре сидел на больших камнях и, склоняясь над полотном, вырисовывал волны и игривые лучи вечернего солнца в тёмной воде.
Сегодняшний день не был исключением. Поэтому положив в сумку кисточки, краски и палитру, он взял мольберт с холстом и направился на своё излюбленное место. Устроившись поудобнее, Катаре расставил всё что нужно и закрыл глаза, настраиваясь на работу. «Какое небо сегодня синее-синее!»- подумал он. Освежающий бриз дул прямо в расслабленное лицо. Тело обволакивала привычная прохлада… Он быстро накидал очертания волн и приступил к работе. Если бы вам когда-нибудь удалось увидеть Катаре за работой, то вы бы, не отрываясь, смотрели на него. Юноша всегда с головой погружался в работу. На его лице разом можно было заметить удивление, радость, печаль и вдохновение. Это была его стихия!
Взгляд молодого художника упал на яркое рыжее пятно на поверхности воды, очень быстро двигающееся к берегу. Он оторопел. Ноги сами понесли Катаре навстречу неизвестному. И уже через секунду он стоял на камнях и смотрел на это рыжее «нечто». Из воды показалась очень милая девушка с ярко-синими глазами, сливающимися с морской гладью. Воздуха в лёгких стало резко не хватать, и Катаре закашлялся, не отрывая взгляд от девушки. Девушка улыбнулась ещё шире и, облокотившись о край камня, начала рассматривать парня. Он показался ей забавным.
– Я Шуе,– сказала девушка певучим нежным голосом.
– Катаре, – чуть слышно прошептал парень. Но она всё равно услышала и расплылась в довольной улыбке.
Так и зародилась новая дружба. Необычные друзья каждый день встречались на этом месте. Катаре предложил побыть девушке его натурщицей, и та согласилась. Парень писал замечательные картины с участием Шуе. Он нашёл свою музу!..
Однажды девушка решила поведать ему свою историю.
–Знаешь, Катаре, а я ведь тоже раньше была обычным человеком, – вздохнула та и взглянула на рисующего парня.
–Ничего себе. И как ты стала… такой? – поинтересовался Катаре, не отрываясь от холста.
– Ооо, это долгая история, но я расскажу тебе её.
Парень в ответ кивнул.
– У меня когда-то был любимый человек. Он очень сильно меня любил, мне так казалось. А через год наших отношений я увидела его с другой девушкой. Он так на неё смотрел!! Моё сердце разбилось на тысячи осколков, пронзающих всё тело. Я поняла, что не могу жить в этом мире, и убежала на самую высокую скалу возле моря. Ветер бил мне в лицо, слёзы всё катились и катились из глаз. Я в последний раз взглянула в синее-синее небо и сделала шаг навстречу свободе, уходя от боли… Вода окутала всё тело и приняла меня. Я стала русалкой и теперь живу здесь, в морской пучине, и встречаю разных людей, которым было грустно и печально там, на суше, как и мне однажды.
– Печальная история, – отозвался парень и положил руку на плечо Шуе.
Так они встречались на этом месте и разговаривали обо всём на свете. Но в один из пасмурных дней девушка казалась очень подавленной, и, конечно же, Катаре поинтересовался, что случилось.
– Море запрещает нам видеться. Ты человек, а я уже нет, – прошептала Шуе и уронила лицо на сложенные руки. – Прости, но я не могу ему перечить.
– Милая моя, я знаю, что надо сделать. Давай завтра встретимся ранним утром здесь же?
Парень провёл рукой по огненным волосам девушки и побежал домой, не попрощавшись, надеясь, что со следующего дня они всегда будут рядом.
Рано утром Катаре и Шуе уже сидели возле камней. Они смотрели друг на друга печальными взглядами и не хотели расставаться. Парень достал из сумки нож и надрезал себе вену: «Моя милая Шуе, я последую твоему примеру, и море примет меня!» Кровь быстро стекала в море, окрашивая его в ярко-красный цвет. Девушка же торжествующе смеялась, радуясь своей победе. Она смогла убить свою очередную жертву. Пока Катаре медленно умирал, русалка упивалась его страданиями. Так она мстила юношам за свою боль и несостоявшуюся любовь…
Море не приняло парня.
Мы можем лишь гадать, почему. Может, любовь его была не столь сильна, а может, он выбрал неверный способ, чтобы быть принятым морем? Мы можем лишь гадать…
Устьянцева Арина. Петух
Мало кто знает об этой маленькой сибирской деревушке под смешным названием Зулумай, разве что охотники и любители рыбалки, потому что самое дорогое богатство некогда зажиточного поселка с большим леспромхозным хозяйством – почти нетронутая тайга и речка со смешным, но уже привычным для местных именем Зима. Здесь доживают свой век те, кто когда-то, после войны, возводил хозяйство, строил теперь уже на ладан дышащие дома и для кого другой родины никогда не было и не будет.
А время от времени в Зулумай приезжают новенькие, те, кому некуда больше ехать и кто, как правило, решил здесь, так сказать, пересидеть, переждать до лучших времен. Именно так в Зулумае появились родители Аришки (которой тогда еще и в помине не было), молодые и очень нужные местной школе учителя. Приехали на год, а прожили полных деревенских забот, школьных будней, интересных, счастливых 13 лет. Растили старшую Иринку, которая в 3 года научилась читать и поражала соседских бабушек своим умением не по-детски рассуждать на самые разные темы.
Совсем другой получилась ее сестра, Аришка, непослушная, любопытная девчонка, за которой нужен глаз да глаз. Особенно летом, когда не надо укутываться во сто шуб, надел сандалики – и вперед. На поиски приключений. То устроит лаз по полю с картошкой, то засядет в зарослях гороха и застрянет там на полдня, то залезет на сеновал, который был для них с Иринкой личной базой. Одно успокаивало родителей: рядом с Аришкой всегда была ее мудрая, старше на целых 7 лет сестра.
Был у Аришки один страшный враг – петух, важный красавец, повелитель семи куриц. Идет, бывало, по двору, трясет своим красным гребешком, который всегда хочется потрогать, проходя мимо, разноцветным хвостом подергивает. Одним словом, хозяин. Почему они с Аришкой не подружились – было загадкой для всех. Как только Аришка во двор – петух тут же навострит свой зоркий взгляд и вприпрыжку за ней. Та бежит что есть мочи, только маленькие пятки сверкают. Так что боялась своего злейшего врага Аришка страшно.
И вот настал день, когда петух в очередной раз на правах хозяина расхаживал по двору и контролировал порядок всей куриной стаи. Гордый и яркий вожак сразу привлек внимание четырехлетней девочки, уже давно скучавшей у окна. Аришка сразу обулась и выбежала к петуху, оставаясь, однако, на безопасном от него расстоянии. Стоя перед красочной птицей, она делает глубокий вдох и кричит:
- Петька дурак! Петька дурак!
Звонкий смех раздается по двору, и Аришка драпает что есть мочи от Петьки-дурака на веранду. Там закрывается, а потом, высунувшись в выставленный оконный проем, издевательским «бе-бе-бе» добивает опозоренного вожака.
- Так вот почему он тебя не любит! - вскрикнула мама, которая стала невольным свидетелем этой картины. – Ты сама его задираешь, а потом боишься нос показать из дома. Еще и жалуешься на бедного Петьку! Хулиганка!
Как бы то ни было, но остаться одной посреди двора, когда некуда забежать и негде спрятаться, Аришке было нельзя, и она это прекрасно понимала. Петух был всегда наготове. И у него даже вышло несколько раз получить сатисфакцию. С тех пор Петька стал самым большим страхом Аришки. Зимой еще куда ни шло, она его почти и не встречала. А вот летом… Житья от него не стало.
И вот однажды, в прекрасный летний день, Иринка и Аришка да пара деревенских ребятишек решили поиграть в прятки. Благо, места, куда можно спрятаться, навалом: и сарай, и огород, и старый чулан. Иринка спряталась в кустах картошки и стала наблюдать за остальными. И вот она видит Аришку, но малая ее не замечает и продолжает бродить между борозд в поисках сестры. Казалось бы, все хорошо, Иринка сидит и тихо хихикает, понимая, как это выглядит со стороны, уверенная в том, что победа за ней. Но вот сбоку от нее раздается быстрый топот маленьких ножек.
Она мигом оборачивается в сторону приближающегося звука и в ту же секунду видит бегущего на нее того самого Петьку-дурака. Что делать? Куда бежать посреди картофельного поля? Детский разум плохо соображал, что нужно предпринять, но понимал одно: либо будет больно, либо надо действовать. Она схватила петуха за его шикарный хвост и отбросила от себя как можно дальше. Петька пролетел почти через все картофельное поле, рухнул на землю и, кудахтая, как общипанная курица, убежал. Возможно, он ощутил то, чего хотят многие курочки, - чувство полета. Но какой ценой! Ценой собственного достоинства.
Веселью и заливистому смеху не было конца. Прятки тут же прекратились. А гордая птица с того момента стала шарахаться от людей, а от Иришки - в первую очередь.
Сколько бы лет ни прошло, каждый раз встречаясь, сестры (уже взрослые девушки) вспоминают эту историю. Иринка – ради смеха, ну а для Аришки это был один из главных жизненных уроков: далеко убежать от своих страхов не получится – их нужно побеждать.
Мало кто знает об этой маленькой сибирской деревушке под смешным названием Зулумай, разве что охотники и любители рыбалки, потому что самое дорогое богатство некогда зажиточного поселка с большим леспромхозным хозяйством – почти нетронутая тайга и речка со смешным, но уже привычным для местных именем Зима. Здесь доживают свой век те, кто когда-то, после войны, возводил хозяйство, строил теперь уже на ладан дышащие дома и для кого другой родины никогда не было и не будет.
А время от времени в Зулумай приезжают новенькие, те, кому некуда больше ехать и кто, как правило, решил здесь, так сказать, пересидеть, переждать до лучших времен. Именно так в Зулумае появились родители Аришки (которой тогда еще и в помине не было), молодые и очень нужные местной школе учителя. Приехали на год, а прожили полных деревенских забот, школьных будней, интересных, счастливых 13 лет. Растили старшую Иринку, которая в 3 года научилась читать и поражала соседских бабушек своим умением не по-детски рассуждать на самые разные темы.
Совсем другой получилась ее сестра, Аришка, непослушная, любопытная девчонка, за которой нужен глаз да глаз. Особенно летом, когда не надо укутываться во сто шуб, надел сандалики – и вперед. На поиски приключений. То устроит лаз по полю с картошкой, то засядет в зарослях гороха и застрянет там на полдня, то залезет на сеновал, который был для них с Иринкой личной базой. Одно успокаивало родителей: рядом с Аришкой всегда была ее мудрая, старше на целых 7 лет сестра.
Был у Аришки один страшный враг – петух, важный красавец, повелитель семи куриц. Идет, бывало, по двору, трясет своим красным гребешком, который всегда хочется потрогать, проходя мимо, разноцветным хвостом подергивает. Одним словом, хозяин. Почему они с Аришкой не подружились – было загадкой для всех. Как только Аришка во двор – петух тут же навострит свой зоркий взгляд и вприпрыжку за ней. Та бежит что есть мочи, только маленькие пятки сверкают. Так что боялась своего злейшего врага Аришка страшно.
И вот настал день, когда петух в очередной раз на правах хозяина расхаживал по двору и контролировал порядок всей куриной стаи. Гордый и яркий вожак сразу привлек внимание четырехлетней девочки, уже давно скучавшей у окна. Аришка сразу обулась и выбежала к петуху, оставаясь, однако, на безопасном от него расстоянии. Стоя перед красочной птицей, она делает глубокий вдох и кричит:
- Петька дурак! Петька дурак!
Звонкий смех раздается по двору, и Аришка драпает что есть мочи от Петьки-дурака на веранду. Там закрывается, а потом, высунувшись в выставленный оконный проем, издевательским «бе-бе-бе» добивает опозоренного вожака.
- Так вот почему он тебя не любит! - вскрикнула мама, которая стала невольным свидетелем этой картины. – Ты сама его задираешь, а потом боишься нос показать из дома. Еще и жалуешься на бедного Петьку! Хулиганка!
Как бы то ни было, но остаться одной посреди двора, когда некуда забежать и негде спрятаться, Аришке было нельзя, и она это прекрасно понимала. Петух был всегда наготове. И у него даже вышло несколько раз получить сатисфакцию. С тех пор Петька стал самым большим страхом Аришки. Зимой еще куда ни шло, она его почти и не встречала. А вот летом… Житья от него не стало.
И вот однажды, в прекрасный летний день, Иринка и Аришка да пара деревенских ребятишек решили поиграть в прятки. Благо, места, куда можно спрятаться, навалом: и сарай, и огород, и старый чулан. Иринка спряталась в кустах картошки и стала наблюдать за остальными. И вот она видит Аришку, но малая ее не замечает и продолжает бродить между борозд в поисках сестры. Казалось бы, все хорошо, Иринка сидит и тихо хихикает, понимая, как это выглядит со стороны, уверенная в том, что победа за ней. Но вот сбоку от нее раздается быстрый топот маленьких ножек.
Она мигом оборачивается в сторону приближающегося звука и в ту же секунду видит бегущего на нее того самого Петьку-дурака. Что делать? Куда бежать посреди картофельного поля? Детский разум плохо соображал, что нужно предпринять, но понимал одно: либо будет больно, либо надо действовать. Она схватила петуха за его шикарный хвост и отбросила от себя как можно дальше. Петька пролетел почти через все картофельное поле, рухнул на землю и, кудахтая, как общипанная курица, убежал. Возможно, он ощутил то, чего хотят многие курочки, - чувство полета. Но какой ценой! Ценой собственного достоинства.
Веселью и заливистому смеху не было конца. Прятки тут же прекратились. А гордая птица с того момента стала шарахаться от людей, а от Иришки - в первую очередь.
Сколько бы лет ни прошло, каждый раз встречаясь, сестры (уже взрослые девушки) вспоминают эту историю. Иринка – ради смеха, ну а для Аришки это был один из главных жизненных уроков: далеко убежать от своих страхов не получится – их нужно побеждать.
Богачева Алёна. Сделай шаг вперед
«Страхи. Фобии. Сколько же их?!»-удивлённо воскликнула Виктория, сидя поздним вечером за компьютером и рассматривая их названия. Одни страхи казались ей такими ужасающими, что она боялась представить их. От этих мыслей у Вики выделялся холодный пот, по всему телу пробегали табуны мелких жучков-мурашек. Зеленые глаза и так были крупные, но страх удивительным образом их расширял, и на лице были только они, похожие на два огромных прожектора, пускающих зеленые световые волны во Вселенную с сигналами SOS. А волосы, волосы… В предчувствии страха они будто в вихре бурана поднимались от корней вверх. Даже фен не оказывал такое действие на ее кудрявые золотистые локоны.
Иван Прохорович, восьмидесятилетний старик, наблюдал за испуганной внучкой. Он долго не хотел подходить и беспокоить ребенка, но напряжённые глаза Виктории вызывали у него опасение. Тихо подойдя поближе, он обнял внучку за плечи и спросил, что произошло. Девочка была любимицей деда и ничего от него не скрывала.
- Дедуля, оказывается на свете столько всего непредсказуемого и опасного!
- Каждый человек имеет страхи, у всех они абсолютно разные. Даже тот, кто говорит, что ничего не боится, лукавит: все равно в нем заложен страх, может, пустяковый, но все же… Бояться не страшно, страшно струсить. Чтобы преодолеть свои страхи, с ними нужно столкнуться лицом к лицу, и не стоит избегать, важно – побороть. А давай я расскажу тебе «страшную» историю из детства.
- Давай, дедуля, - сказала Вика, приготовившись к новому дедушкиному рассказу.
- Мне было тогда лет пять, — начал дедушка, — дела былые, как видишь. Мой отец, Прохор, погиб, защищая Ленинград. И тогда нас с младшим братом передали дедушке и бабушке.
Наступил 1942 год. Голод и холод подступали и к нашей деревне. Зазнавшиеся немцы увели у нас корову-кормилицу, отобрали кур и теплые вещи.
В нашей деревне делать было нечего, и немцы, отдохнув и набрав запасов, выдвинулись дальше. Однако в деревне для соблюдения порядков оставили своего полицая Ганса, упитанного, наглого фрица с копной рыжих кудряшек. Он то и дело мелькал передо мной. Я видел, как он разгуливал по улицам в одних трусах с висящим наперевес автоматом да занимался обследованием съестных запасов крестьян.
Жили мы в маленькой избушке, стоявшей на высоком берегу реки, на самом краю деревни. Наша чистенькая и уютненькая комнатка, убранная по-старинному, помнится мне до сих пор: в углу высился огромный шкаф с посудой, на стене висели лубочные картины, около входа основательно расположилась огромная белокаменная печь, рядом с подтопком висела лубовая люлька, украшенная у изголовья солнцем, а в ножках – месяцем и звездами. Мне казалось, она никогда ни за что не развалится, ведь в ней и батюшка спал, и дядюшки, и мы с братом…
Стояла июньская жара. Было так знойно, что даже птицы попрятались в тень, а травы сникли от палящего солнца. Маленькому, мне очень хотелось сбегать на речку искупаться, но брат Алёшка никак не хотел засыпать. Он ворочался, хныкал, дрыгал ногами. Бабушка дала наказ укачать братца, и я старался изо всех сил: нагонял сон, убаюкивающе качая люльку, даже пел песни своим «мурлыкающим» голосом. И вот братец наконец засопел и заснул. Моей радости не было предела, и я в своих мыслях уже купался в прохладной реке.
Но вдруг распахнулась дверь, и на пороге во всей своей красе появился самолюбивый Ганс. По лицу немца было видно, что ему было скучно. Он подошел к люльке и отодвинул полог, где сладко сопел Алёшка. Немец усмехнулся, вынул изо рта дымящуюся папиросу и вставил ее в рот малышу. Я молчал, а он с интересом, чмокая губами, наблюдал за содеянным и чувствовал себя прекрасно, ухмыляясь и мерзко кривя свои толстые губы. Горячий дым больно обжег губы брата, и он проснулся. Его громкий испуганный плач разлетелся по всей деревне, и Ганс, расхохотавшись, полез в погреб, искать провизию. Я был возмущен до бешенства и раскраснелся как рак. Недолго думая, я подпрыгнул к люку погреба и судорожным движением руки захлопнул его. Гадкий Ганс остался в одних трусах в холодном темном подвале…
Я обрадовался и был очень горд собой! Даже сейчас мне приятно вспоминать тогдашние впечатления. Решив обрадовать деда, я, что было сил, побежал на бригаду с новостью, что Ганс в плену. Выслушав мой рассказ, дедушка оцепенел от ужаса, представив последствия моей детской выходки, и побежал вызволять пленника. Его бледное, морщинистое лицо выражало тревогу и потрясение. Всю дорогу домой старик был рассерженным и долго не мог успокоиться. Перед тем как зайти в горницу, он наказал мне спрятаться за домом. Я притаился около поленницы и начал всматриваться в глубь комнаты. Когда дед открыл щеколду замка, немец выскочил с криками: «Киндер! Киндер!». Он весь дрожал, и я чувствовал, как от холода или злости стучали его челюсти…Спасением моим было лишь то, что дед умел говорить на немецком языке. За самоваром он и уговорил фрица не трогать нас.
С тех пор я обходил стороной Ганса, все время оглядывался и боялся встретить полицая. Порой быстрые ноги не раз выручали от преследования, и до моих ушей долетали только крики рассерженного немца: «Киндер капут!».
- Дедушка, а это была первая и последняя страшная история из твоей жизни? – спросила Виктория.
- Таких историй, как бусинок в твоем бисерном ожерелье. Но я старался не пасовать. Каждый страх желает, чтобы к нему сделали шаг навстречу и предложили вступить в борьбу. Как на ринге. Борясь, ты делаешь себя сильнее…
Уже засыпая, девочка вспомнила все свои «страшилки», но что-то подсказывало, что шаг навстречу страху надо делать первой, тогда ты точно сможешь его победить!
«Страхи. Фобии. Сколько же их?!»-удивлённо воскликнула Виктория, сидя поздним вечером за компьютером и рассматривая их названия. Одни страхи казались ей такими ужасающими, что она боялась представить их. От этих мыслей у Вики выделялся холодный пот, по всему телу пробегали табуны мелких жучков-мурашек. Зеленые глаза и так были крупные, но страх удивительным образом их расширял, и на лице были только они, похожие на два огромных прожектора, пускающих зеленые световые волны во Вселенную с сигналами SOS. А волосы, волосы… В предчувствии страха они будто в вихре бурана поднимались от корней вверх. Даже фен не оказывал такое действие на ее кудрявые золотистые локоны.
Иван Прохорович, восьмидесятилетний старик, наблюдал за испуганной внучкой. Он долго не хотел подходить и беспокоить ребенка, но напряжённые глаза Виктории вызывали у него опасение. Тихо подойдя поближе, он обнял внучку за плечи и спросил, что произошло. Девочка была любимицей деда и ничего от него не скрывала.
- Дедуля, оказывается на свете столько всего непредсказуемого и опасного!
- Каждый человек имеет страхи, у всех они абсолютно разные. Даже тот, кто говорит, что ничего не боится, лукавит: все равно в нем заложен страх, может, пустяковый, но все же… Бояться не страшно, страшно струсить. Чтобы преодолеть свои страхи, с ними нужно столкнуться лицом к лицу, и не стоит избегать, важно – побороть. А давай я расскажу тебе «страшную» историю из детства.
- Давай, дедуля, - сказала Вика, приготовившись к новому дедушкиному рассказу.
- Мне было тогда лет пять, — начал дедушка, — дела былые, как видишь. Мой отец, Прохор, погиб, защищая Ленинград. И тогда нас с младшим братом передали дедушке и бабушке.
Наступил 1942 год. Голод и холод подступали и к нашей деревне. Зазнавшиеся немцы увели у нас корову-кормилицу, отобрали кур и теплые вещи.
В нашей деревне делать было нечего, и немцы, отдохнув и набрав запасов, выдвинулись дальше. Однако в деревне для соблюдения порядков оставили своего полицая Ганса, упитанного, наглого фрица с копной рыжих кудряшек. Он то и дело мелькал передо мной. Я видел, как он разгуливал по улицам в одних трусах с висящим наперевес автоматом да занимался обследованием съестных запасов крестьян.
Жили мы в маленькой избушке, стоявшей на высоком берегу реки, на самом краю деревни. Наша чистенькая и уютненькая комнатка, убранная по-старинному, помнится мне до сих пор: в углу высился огромный шкаф с посудой, на стене висели лубочные картины, около входа основательно расположилась огромная белокаменная печь, рядом с подтопком висела лубовая люлька, украшенная у изголовья солнцем, а в ножках – месяцем и звездами. Мне казалось, она никогда ни за что не развалится, ведь в ней и батюшка спал, и дядюшки, и мы с братом…
Стояла июньская жара. Было так знойно, что даже птицы попрятались в тень, а травы сникли от палящего солнца. Маленькому, мне очень хотелось сбегать на речку искупаться, но брат Алёшка никак не хотел засыпать. Он ворочался, хныкал, дрыгал ногами. Бабушка дала наказ укачать братца, и я старался изо всех сил: нагонял сон, убаюкивающе качая люльку, даже пел песни своим «мурлыкающим» голосом. И вот братец наконец засопел и заснул. Моей радости не было предела, и я в своих мыслях уже купался в прохладной реке.
Но вдруг распахнулась дверь, и на пороге во всей своей красе появился самолюбивый Ганс. По лицу немца было видно, что ему было скучно. Он подошел к люльке и отодвинул полог, где сладко сопел Алёшка. Немец усмехнулся, вынул изо рта дымящуюся папиросу и вставил ее в рот малышу. Я молчал, а он с интересом, чмокая губами, наблюдал за содеянным и чувствовал себя прекрасно, ухмыляясь и мерзко кривя свои толстые губы. Горячий дым больно обжег губы брата, и он проснулся. Его громкий испуганный плач разлетелся по всей деревне, и Ганс, расхохотавшись, полез в погреб, искать провизию. Я был возмущен до бешенства и раскраснелся как рак. Недолго думая, я подпрыгнул к люку погреба и судорожным движением руки захлопнул его. Гадкий Ганс остался в одних трусах в холодном темном подвале…
Я обрадовался и был очень горд собой! Даже сейчас мне приятно вспоминать тогдашние впечатления. Решив обрадовать деда, я, что было сил, побежал на бригаду с новостью, что Ганс в плену. Выслушав мой рассказ, дедушка оцепенел от ужаса, представив последствия моей детской выходки, и побежал вызволять пленника. Его бледное, морщинистое лицо выражало тревогу и потрясение. Всю дорогу домой старик был рассерженным и долго не мог успокоиться. Перед тем как зайти в горницу, он наказал мне спрятаться за домом. Я притаился около поленницы и начал всматриваться в глубь комнаты. Когда дед открыл щеколду замка, немец выскочил с криками: «Киндер! Киндер!». Он весь дрожал, и я чувствовал, как от холода или злости стучали его челюсти…Спасением моим было лишь то, что дед умел говорить на немецком языке. За самоваром он и уговорил фрица не трогать нас.
С тех пор я обходил стороной Ганса, все время оглядывался и боялся встретить полицая. Порой быстрые ноги не раз выручали от преследования, и до моих ушей долетали только крики рассерженного немца: «Киндер капут!».
- Дедушка, а это была первая и последняя страшная история из твоей жизни? – спросила Виктория.
- Таких историй, как бусинок в твоем бисерном ожерелье. Но я старался не пасовать. Каждый страх желает, чтобы к нему сделали шаг навстречу и предложили вступить в борьбу. Как на ринге. Борясь, ты делаешь себя сильнее…
Уже засыпая, девочка вспомнила все свои «страшилки», но что-то подсказывало, что шаг навстречу страху надо делать первой, тогда ты точно сможешь его победить!
Люлька Ульяна. Здравствуй, юность!
Море тихо перебирало выточенные водой камни берега, лениво играя своими волнами с галькой, то собирая её в причудливые пирамидки, то в грозном порыве вновь разрушая их. С неба постепенно улетучивалось розовое марево заката, оставляя после себя однотонное синее полотно, которое могло бы служить своеобразным холстом для некого ночного художника, изо дня в день старательно вырисовывавшего своими перламутровыми красками аккуратную луну, а после бравшего кисточку побольше и разбрызгивавшего по всему небосводу яркие звезды.
Ане в это чудо и вправду хотелось верить. Закрыть глаза, подставить лицо свежему порыву ветра и просто наслаждаться моментом, каникулами у бабушки, последним беззаботным летом. Ведь скоро экзамены, выпускной класс, поступление в вуз и… Много чего на самом деле. Девушка легко улыбнулась, разглядывая рассеянным васильковым взором мелкие камешки под ногами. Бесконечное небо заметно сгустило свои краски, вытесняя приятный голубовато-синий цвет более мрачным и холодным. Подчас практически сизо-черным. Таким же гнетущим, как и мысли в Аниной голове: как переступить порог отрочества и найти свой собственный путь во взрослую жизнь, второй попытки уже не будет – надо взвешивать каждое своё решение, ведь так важно не допустить ошибку в самом начале.
Ветер что-то беззвучно нашёптывал Ане на ушко. Она вспоминала свои детские, отроческие годы – сколько всего интересного было…Волшебное небо цвета индиго окончательно затянулось непроглядной пеленой, словно нарядной вуалью, но этот вид больше не вызывал тревогу, а наоборот, дарил чувство некой стабильности и спокойствия. Постепенно стали вырисовываться звезды, украшая небосвод своим холодным блеском. На одно мгновение девушке показалось, что всё вокруг замерло. Даже ветер стих, больше не волнуя своими навязчиво-лёгкими прикосновениями море. Время будто бы остановилось, позволяя Ане почувствовать себя хотя бы ненадолго не зависящей от мира вокруг. Прохладная вода щекотала ноги, заставляя поджать озябшие пальцы, освободившиеся от резиновых шлёпанцев. Глаза снова устремились вверх, словно изучая таинственное и манящее небесное пространство. Густеющая ночь даровала покой, а её насыщенный синий цвет, напоминающий чудесные узоры гжельской росписи, вселял веру в то, что всё будет хорошо. Не отрывая взгляда от загадочного небосвода, Аня легла на спину, коснувшись лопатками шероховатых камней; руки легли на мерно вздымающуюся грудь, и в глубоких васильковых омутах отразилась ночь, а вместе с нею вновь страхи, тревоги, смятения и в противовес им светлые надежды, связанные с ближайшим будущим. Далёкие звезды казались сейчас невероятно близкими и родными, будто бы только они могли понять странные и непонятные мысли, с которыми ни с кем не хотелось делиться. Всё это слишком сокровенное и личное, непредсказуемое, но одновременно завораживающее, волнующее ещё совсем юное сердце. Взрослые часто говорят, что молодое поколение слишком сложное, чересчур зацикливается на себе и совершенно не думает о своём будущем. Аня с этими словами ни капли не согласна. Ей кажется, что её ровесники, наоборот, до мозга костей простые, отзывчивые и впечатлительные. По крайней мере она точно находится в достойном окружении и знает, что эти люди могут помочь ей, а она им. Им вместе творить будущее! Чувствовать себя важным, нужным и полезным в таком деле - разве это не прекрасно? От таких мыслей становится немного легче, ведь всегда приятно понимать, что ты не один на своем пути.
Размышления прервали шаркающие шаги неподалеку. Слишком знакомые, чтобы спутать их с чьими-либо ещё. Аня, поднявшись с нагретых камней, тепло улыбнулась знакомому силуэту. Это её любимая бабушка, Надежда Ильинична, женщина солнечная, душевная. К таким людям тянутся, такими хотят быть многие, но становятся лишь единицы.
- Снова размышляешь? – спрашивает улыбчивая старушка, а в этот момент забавные морщинки собираются в уголках её глаз, что только добавляет ей некоего шарма.
-Тебе не надоело ходить сюда за мной каждый вечер? – Аня по-доброму ёрничает, принимая из её заботливых рук свою толстовку.
- Знаешь, тебя редко можно застать такой…открытой. Только вот в подобные вечера, – бабушка забавно морщит нос. Они довольно часто говорят друг с другом, и искренняя заинтересованность близкого человека трогает до глубины души.
Аня, укутавшись в толстовку, замерла около бабушки, разглядывая ночной пейзаж перед собой. По небу разбрелась едва уловимая дымка луны. Мягкий блеск звезд напоминал жемчужины в мамином любимом ожерелье, что так же сияло под софитами в праздники. Морская гладь рябила отблесками волшебного перламутра, гипнотизируя причудливой игрой волн между собой. Тихо. Приятно.
- Посетила я в молодости Третьяковскую галерею, в которой залюбовалась картиной «Чёрное море», написанной…
- Айвазовским?
- Да, верно. Она мне так напомнила ночи у моря. Хотя на полотне показана разыгрывавшаяся буря, мне было до того спокойно, что на несколько мгновений я даже ощутила себя снова дома, – Надежда Ильинична элегически вздохнула, медленно присаживаясь на огромный булыжник и похлопывая ладонью по месту рядом с собой.
Аня, садясь около бабушки, нежно опустила голову на её плечо. Внезапная усталость нахлынула сокрушительной волной, заставляя все тревожные мысли рассеяться в любимых объятиях.
- А мне всегда нравилось, как он рисует небо…Так чувственно, будто бы и не картина, написанная маслом, а настоящий бескрайний небосклон, – проговорила Аня и притихла, прикрывая глаза и слушая размеренное дыхание бабушки и монотонные всплески волн, ощущая разморенным телом прохладный морской ветерок.
- Теперь я поняла, что ты мне напоминаешь - летнее небо. Вот что ты так смотришь? Вы разительно похожи! Своенравные, буйные и непредсказуемые. Вас в такие моменты лучше обходить стороной, а то вдруг еще грозу вызовешь! – бабушка игриво потрепала внучку за нос, смеясь вместе с ней в унисон.
Вдруг Надежда Ильинична неожиданно серьезно посмотрела в Анютины васильковые глаза, подбадривающе сжимая девичье плечико.
- Но главное сходство между вами, Аня, - это искренность. Вы радуете людей своей чистотой и ясностью, добротой и позитивностью. Небо завораживает всеми оттенками синего – оно символ вечного мира, а ты - своими чудесными васильковыми глазами. Вы созданы для настоящего волшебства, любви, закатов, рассветов и вот таких ночей. У тебя есть два собственных неба. Недаром говорят, что глаза – зеркало души. По ним слишком легко читать человека. А уж тебя особенно.
Аня улыбалась, обдумывая слова бабушки: именно разговора по душам ей не хватало, чтобы упорядочить стремительный водоворот событий и мыслей. «Всюду синий цвет – символ тайны, мудрости и откровения, - вертелись в голове мечтательницы слова Надежды Ильиничны, - это цвет вечности, соединяющий настоящее с прошлым и будущим». Размеренный ласковый голос родного человека, ночное небо, море, лето – всё это было таким привычным и обыденным ранее. А сейчас от одной лишь мысли о том, что этого просто может не быть, болит душа, разгорается пожар в самом сердце, спирает дыхание. На глаза навернулись слезы, а в горле встал ком из невысказанных слов благодарности и любви.
Женщина замолчала, нежно обнимая содрогающуюся от всхлипов внучку, что так доверительно уткнулась своей белокурой головкой в бабушкину грудь. Ладони непроизвольно сжали край толстовки. То ли от накопившихся переживаний и тревоги, то ли из-за трогательной речи близкого человека что-то внутри Ани словно сломалось, наконец-то позволяя выплеснуть самые сокровенные чувства наружу. Всё вокруг: небо, морской бриз, даже эти мерцающие звёзды - было так созвучно её настроению.
- И всегда помни: здесь тебя любят и ждут. Это твое место с самого рождения, также оно всю жизнь будет и вот здесь, – обжигающая ладонь легла прямо на сердце, что сейчас отбивало бешеный ритм, пуская волны приятных мурашек по всему телу.
Глубокий вдох помог вернуть ясность уму. Щеки и уши пылали, а редкие всхлипы иногда заставляли неловко морщиться. Теплый поцелуй в лоб остался приятным фантомным прикосновением, после которого и вправду стало легче.
Сейчас слова казались лишними. Впервые за последнее время внутри царила тишина. Приятная тишина. Тревога больше не разрывала на куски, заставляя ждать будущее в паническом страхе.
- Неизвестность не является причиной для волнения. Твоя жизнь зависит исключительно от тебя. Будет трудно - никто с этим не спорит. Придётся метаться между несколькими решениями одной проблемы, научиться выбирать правильных людей, сразу замечать особенных. Важно понимать, что всем когда-то придётся сделать судьбоносный выбор и прожить с его последствиями всю жизнь. Возможно, ответы на некоторые вопросы нужно будет искать годами. Главное - не останавливайся и иди дальше…быстро, медленно, с неохотой или блеском азарта в глазах. Пробуй делать всё то, о чем мечтала или хоть когда-то задумывалась, чтобы после не сожалеть о невоплощённом. Узнай, как устроен мир, что общего между всеми нами, не бойся знакомиться и общаться, любить и расставаться, отпускать и самой оставаться в одиночестве. Только для начала, Анечка, пойми саму себя.
Резвый ветер играл короткими белокурыми волосами девушки. Этим июльским утром небо было непривычно насыщено синим цветом, будто бы всё такой же неумелый художник испачкал в аквамариновую краску весь свой холст, добавив лишь лёгкую белую мглу, смутно напоминающую облака. Васильковые глаза с детским восторгом разглядывали необъятный небосвод. Откуда-то издалека неспешно приплыли по-детски милые, пушистые барашки облаков, разбавляя бескрайние синие просторы своей воздушностью и наивностью. Солнце всеми силами показывало, насколько оно радо присутствию на побережье давней подруги, одаривая ту настоящим ливнем из обжигающих кожу лучей. Море приятно щекотало теплой водой ноги, слегка ободранные о гальку, заполняющую дно. Волны всё резвились, с оглушительным грохотом, пеной и плеском разбиваясь о скалы и камни, торчащие на мелководье.
Бабушка была права. Здесь её помнят и ждут. То лето было последним в отрочестве Ани. Это станет первым в юности.
Море тихо перебирало выточенные водой камни берега, лениво играя своими волнами с галькой, то собирая её в причудливые пирамидки, то в грозном порыве вновь разрушая их. С неба постепенно улетучивалось розовое марево заката, оставляя после себя однотонное синее полотно, которое могло бы служить своеобразным холстом для некого ночного художника, изо дня в день старательно вырисовывавшего своими перламутровыми красками аккуратную луну, а после бравшего кисточку побольше и разбрызгивавшего по всему небосводу яркие звезды.
Ане в это чудо и вправду хотелось верить. Закрыть глаза, подставить лицо свежему порыву ветра и просто наслаждаться моментом, каникулами у бабушки, последним беззаботным летом. Ведь скоро экзамены, выпускной класс, поступление в вуз и… Много чего на самом деле. Девушка легко улыбнулась, разглядывая рассеянным васильковым взором мелкие камешки под ногами. Бесконечное небо заметно сгустило свои краски, вытесняя приятный голубовато-синий цвет более мрачным и холодным. Подчас практически сизо-черным. Таким же гнетущим, как и мысли в Аниной голове: как переступить порог отрочества и найти свой собственный путь во взрослую жизнь, второй попытки уже не будет – надо взвешивать каждое своё решение, ведь так важно не допустить ошибку в самом начале.
Ветер что-то беззвучно нашёптывал Ане на ушко. Она вспоминала свои детские, отроческие годы – сколько всего интересного было…Волшебное небо цвета индиго окончательно затянулось непроглядной пеленой, словно нарядной вуалью, но этот вид больше не вызывал тревогу, а наоборот, дарил чувство некой стабильности и спокойствия. Постепенно стали вырисовываться звезды, украшая небосвод своим холодным блеском. На одно мгновение девушке показалось, что всё вокруг замерло. Даже ветер стих, больше не волнуя своими навязчиво-лёгкими прикосновениями море. Время будто бы остановилось, позволяя Ане почувствовать себя хотя бы ненадолго не зависящей от мира вокруг. Прохладная вода щекотала ноги, заставляя поджать озябшие пальцы, освободившиеся от резиновых шлёпанцев. Глаза снова устремились вверх, словно изучая таинственное и манящее небесное пространство. Густеющая ночь даровала покой, а её насыщенный синий цвет, напоминающий чудесные узоры гжельской росписи, вселял веру в то, что всё будет хорошо. Не отрывая взгляда от загадочного небосвода, Аня легла на спину, коснувшись лопатками шероховатых камней; руки легли на мерно вздымающуюся грудь, и в глубоких васильковых омутах отразилась ночь, а вместе с нею вновь страхи, тревоги, смятения и в противовес им светлые надежды, связанные с ближайшим будущим. Далёкие звезды казались сейчас невероятно близкими и родными, будто бы только они могли понять странные и непонятные мысли, с которыми ни с кем не хотелось делиться. Всё это слишком сокровенное и личное, непредсказуемое, но одновременно завораживающее, волнующее ещё совсем юное сердце. Взрослые часто говорят, что молодое поколение слишком сложное, чересчур зацикливается на себе и совершенно не думает о своём будущем. Аня с этими словами ни капли не согласна. Ей кажется, что её ровесники, наоборот, до мозга костей простые, отзывчивые и впечатлительные. По крайней мере она точно находится в достойном окружении и знает, что эти люди могут помочь ей, а она им. Им вместе творить будущее! Чувствовать себя важным, нужным и полезным в таком деле - разве это не прекрасно? От таких мыслей становится немного легче, ведь всегда приятно понимать, что ты не один на своем пути.
Размышления прервали шаркающие шаги неподалеку. Слишком знакомые, чтобы спутать их с чьими-либо ещё. Аня, поднявшись с нагретых камней, тепло улыбнулась знакомому силуэту. Это её любимая бабушка, Надежда Ильинична, женщина солнечная, душевная. К таким людям тянутся, такими хотят быть многие, но становятся лишь единицы.
- Снова размышляешь? – спрашивает улыбчивая старушка, а в этот момент забавные морщинки собираются в уголках её глаз, что только добавляет ей некоего шарма.
-Тебе не надоело ходить сюда за мной каждый вечер? – Аня по-доброму ёрничает, принимая из её заботливых рук свою толстовку.
- Знаешь, тебя редко можно застать такой…открытой. Только вот в подобные вечера, – бабушка забавно морщит нос. Они довольно часто говорят друг с другом, и искренняя заинтересованность близкого человека трогает до глубины души.
Аня, укутавшись в толстовку, замерла около бабушки, разглядывая ночной пейзаж перед собой. По небу разбрелась едва уловимая дымка луны. Мягкий блеск звезд напоминал жемчужины в мамином любимом ожерелье, что так же сияло под софитами в праздники. Морская гладь рябила отблесками волшебного перламутра, гипнотизируя причудливой игрой волн между собой. Тихо. Приятно.
- Посетила я в молодости Третьяковскую галерею, в которой залюбовалась картиной «Чёрное море», написанной…
- Айвазовским?
- Да, верно. Она мне так напомнила ночи у моря. Хотя на полотне показана разыгрывавшаяся буря, мне было до того спокойно, что на несколько мгновений я даже ощутила себя снова дома, – Надежда Ильинична элегически вздохнула, медленно присаживаясь на огромный булыжник и похлопывая ладонью по месту рядом с собой.
Аня, садясь около бабушки, нежно опустила голову на её плечо. Внезапная усталость нахлынула сокрушительной волной, заставляя все тревожные мысли рассеяться в любимых объятиях.
- А мне всегда нравилось, как он рисует небо…Так чувственно, будто бы и не картина, написанная маслом, а настоящий бескрайний небосклон, – проговорила Аня и притихла, прикрывая глаза и слушая размеренное дыхание бабушки и монотонные всплески волн, ощущая разморенным телом прохладный морской ветерок.
- Теперь я поняла, что ты мне напоминаешь - летнее небо. Вот что ты так смотришь? Вы разительно похожи! Своенравные, буйные и непредсказуемые. Вас в такие моменты лучше обходить стороной, а то вдруг еще грозу вызовешь! – бабушка игриво потрепала внучку за нос, смеясь вместе с ней в унисон.
Вдруг Надежда Ильинична неожиданно серьезно посмотрела в Анютины васильковые глаза, подбадривающе сжимая девичье плечико.
- Но главное сходство между вами, Аня, - это искренность. Вы радуете людей своей чистотой и ясностью, добротой и позитивностью. Небо завораживает всеми оттенками синего – оно символ вечного мира, а ты - своими чудесными васильковыми глазами. Вы созданы для настоящего волшебства, любви, закатов, рассветов и вот таких ночей. У тебя есть два собственных неба. Недаром говорят, что глаза – зеркало души. По ним слишком легко читать человека. А уж тебя особенно.
Аня улыбалась, обдумывая слова бабушки: именно разговора по душам ей не хватало, чтобы упорядочить стремительный водоворот событий и мыслей. «Всюду синий цвет – символ тайны, мудрости и откровения, - вертелись в голове мечтательницы слова Надежды Ильиничны, - это цвет вечности, соединяющий настоящее с прошлым и будущим». Размеренный ласковый голос родного человека, ночное небо, море, лето – всё это было таким привычным и обыденным ранее. А сейчас от одной лишь мысли о том, что этого просто может не быть, болит душа, разгорается пожар в самом сердце, спирает дыхание. На глаза навернулись слезы, а в горле встал ком из невысказанных слов благодарности и любви.
Женщина замолчала, нежно обнимая содрогающуюся от всхлипов внучку, что так доверительно уткнулась своей белокурой головкой в бабушкину грудь. Ладони непроизвольно сжали край толстовки. То ли от накопившихся переживаний и тревоги, то ли из-за трогательной речи близкого человека что-то внутри Ани словно сломалось, наконец-то позволяя выплеснуть самые сокровенные чувства наружу. Всё вокруг: небо, морской бриз, даже эти мерцающие звёзды - было так созвучно её настроению.
- И всегда помни: здесь тебя любят и ждут. Это твое место с самого рождения, также оно всю жизнь будет и вот здесь, – обжигающая ладонь легла прямо на сердце, что сейчас отбивало бешеный ритм, пуская волны приятных мурашек по всему телу.
Глубокий вдох помог вернуть ясность уму. Щеки и уши пылали, а редкие всхлипы иногда заставляли неловко морщиться. Теплый поцелуй в лоб остался приятным фантомным прикосновением, после которого и вправду стало легче.
Сейчас слова казались лишними. Впервые за последнее время внутри царила тишина. Приятная тишина. Тревога больше не разрывала на куски, заставляя ждать будущее в паническом страхе.
- Неизвестность не является причиной для волнения. Твоя жизнь зависит исключительно от тебя. Будет трудно - никто с этим не спорит. Придётся метаться между несколькими решениями одной проблемы, научиться выбирать правильных людей, сразу замечать особенных. Важно понимать, что всем когда-то придётся сделать судьбоносный выбор и прожить с его последствиями всю жизнь. Возможно, ответы на некоторые вопросы нужно будет искать годами. Главное - не останавливайся и иди дальше…быстро, медленно, с неохотой или блеском азарта в глазах. Пробуй делать всё то, о чем мечтала или хоть когда-то задумывалась, чтобы после не сожалеть о невоплощённом. Узнай, как устроен мир, что общего между всеми нами, не бойся знакомиться и общаться, любить и расставаться, отпускать и самой оставаться в одиночестве. Только для начала, Анечка, пойми саму себя.
Резвый ветер играл короткими белокурыми волосами девушки. Этим июльским утром небо было непривычно насыщено синим цветом, будто бы всё такой же неумелый художник испачкал в аквамариновую краску весь свой холст, добавив лишь лёгкую белую мглу, смутно напоминающую облака. Васильковые глаза с детским восторгом разглядывали необъятный небосвод. Откуда-то издалека неспешно приплыли по-детски милые, пушистые барашки облаков, разбавляя бескрайние синие просторы своей воздушностью и наивностью. Солнце всеми силами показывало, насколько оно радо присутствию на побережье давней подруги, одаривая ту настоящим ливнем из обжигающих кожу лучей. Море приятно щекотало теплой водой ноги, слегка ободранные о гальку, заполняющую дно. Волны всё резвились, с оглушительным грохотом, пеной и плеском разбиваясь о скалы и камни, торчащие на мелководье.
Бабушка была права. Здесь её помнят и ждут. То лето было последним в отрочестве Ани. Это станет первым в юности.
Цветкова Аксинья. Преданность спорту
– Алёна, либо ты делаешь сейчас чистый прогон, либо в соревнованиях не участвуешь! – прокричала тренер!
Девушка, еле сдерживая слёзы, уже четырнадцатый раз подряд встала на начало упражнения.
Зазвучала музыка, Алёна подбросила левой ногой обруч, но тут же сделала потерю на первом элементе... Тренер, ничего не сказав, встала и вышла из зала.
Это была последняя тренировка по художественной гимнастике перед самыми важными соревнованиями в карьере Алёны. К этому времени, она уже имела высокие титулы спортсменки и показать плохой результат не имела права, ведь тогда она подведёт не только себя, но и тренера.
Алёна пошла попить в раздевалку.
– Думаешь, вода тебе поможет? Да у тебя даже растяжка пропала, у моего дедушки и то шпагат лучше, – с насмешкой обратилась соперница к Алёне.
– Вот, вот, о соревнованиях можешь даже не мечтать! – поддержала подругу Таня.
– Хватит! – воскликнула Алёна. – Если вы такие умные, то...
Она хотела продолжить, но из зала раздался пронзительный голос тренера:
– Девочки, быстро на ковёр! Сколько можно воду глушить!
Последующие полтора часа тренировки тренер не обращала никакого внимания на Алёну, а отрабатывала сложные элементы лишь с другими гимнастками. Алёна была в замешательстве и не знала, что думать. В результате она решилась подойти к тренеру.
– Елена Александровна, скажите, пожалуйста, что мне делать? Завтра соревнования, мне нужно отрабатывать программу с булавами и мячом под музыку, но за последние часы вы меня ни разу не поставили.
Пятисекундная пауза и Елена Александровна произносит:
– Я в тебе разочаровалась. Алёна, ты не думаешь своей головой, у тебя много потерь, все валится из рук. Я снимаю тебя с соревнований!
– Елена Александровна, пожалуйста, дайте мне шанс! Я очень хочу выступить.
– Может ты и хочешь, но я этого не вижу...
– Я соберусь. Я вас не подведу, обещаю!
– Ты меня уже подвела.
– Но... – хотела продолжить девушка, как тренер крикнула вызывающим тоном. – Свободна!
В зале стояла напряжённая тишина. Алёна в слезах убежала в раздевалку. Все гимнастки были в растерянности.
Полночи, пока мама не заставила спать, Алёна оттачивала упражнения в небольшой комнате. С осторожностью подбрасывала ярко желтые булавы, крутила фуэте, задевая плотные шторы, вновь и вновь повторяла сложные прыжки и повороты, ударяясь об углы мебели.
Ее взгляд все время возвращался к новому голубому купальнику, который сшили специально для этого турнира. Яркие стразы сверкали от электрического света. Девушке казалось, что он обязательно должен принести ей удачу. Только как найти силы, не опустить руки и продолжать тренироваться дальше?
На следующий день Алёна проснулась пораньше.
За завтраком мама спросила:
– Доча, почему ты не участвуешь? Ты же так долго готовилась, мечтала об этом турнире.
– Не знаю, мам... Тренер так решила.
В эту же минуту раздался звонок.
– Ало, да Елена Александровна. Нет, Алёна не спит, а что?
Дочка пыталась понять, о чём они разговаривают. Мама положила телефон и спешно начала объяснять, что через час Алёна выступает.
Макияж, причёска, купальник, разогрев – на всё было очень мало времени.
До выступления остаются считанные минуты. Девочка пыталась мысленно сосредоточиться. Сзади подошла тренер и дотронулась до плеча. Внутри у гимнастки всё сжалось...
– Алёна, прости меня. Мне сказали, что после турнира ты собираешься переходить к другому тренеру. А я ведь в тебя столько сил вложила, десять лет ежедневно работали вместе.
– Что? Елена Александровна, да я бы никогда в жизни...
– Постой, дай договорю. Я, конечно, взъелась на тебя, когда это услышала, но до конца не могла поверить. А сегодня утром Вера с Таней перед разминкой подсыпали сильное снотворное соперницам, чтобы снизить конкуренцию. Их вычислили по камерам и исключили с соревнований. Они также сознались и про обман с твоим уходом из школы. Алёна, сейчас для тебя главное хорошо выступить. Следи за коленями, смотри за высокими бросками, сильнее прогибайся в прыжке. Я в тебя верю, у тебя обязательно все получится.
Гимнастка обняла тренера и услышала: "Войковская Алёна приглашается на площадку".
Прошло десять лет, сейчас Войковская Алёна в том же самом зале, только не на площадке для выступления, а на мягком кресле среди судейской бригады. Когда она вспоминает эту историю, её одолевают разные чувства, но на всю жизнь она запомнила: если всё плохо, значит, это ещё не конец!
А на стене в ее тренерском кабинете до сих пор висит пожелтевшая фотография, где за идеальное выступление вручают медаль худенькой девушке в голубом купальнике. Это тот самый памятный турнир, который научил её верить в людей и собственные силы!
– Алёна, либо ты делаешь сейчас чистый прогон, либо в соревнованиях не участвуешь! – прокричала тренер!
Девушка, еле сдерживая слёзы, уже четырнадцатый раз подряд встала на начало упражнения.
Зазвучала музыка, Алёна подбросила левой ногой обруч, но тут же сделала потерю на первом элементе... Тренер, ничего не сказав, встала и вышла из зала.
Это была последняя тренировка по художественной гимнастике перед самыми важными соревнованиями в карьере Алёны. К этому времени, она уже имела высокие титулы спортсменки и показать плохой результат не имела права, ведь тогда она подведёт не только себя, но и тренера.
Алёна пошла попить в раздевалку.
– Думаешь, вода тебе поможет? Да у тебя даже растяжка пропала, у моего дедушки и то шпагат лучше, – с насмешкой обратилась соперница к Алёне.
– Вот, вот, о соревнованиях можешь даже не мечтать! – поддержала подругу Таня.
– Хватит! – воскликнула Алёна. – Если вы такие умные, то...
Она хотела продолжить, но из зала раздался пронзительный голос тренера:
– Девочки, быстро на ковёр! Сколько можно воду глушить!
Последующие полтора часа тренировки тренер не обращала никакого внимания на Алёну, а отрабатывала сложные элементы лишь с другими гимнастками. Алёна была в замешательстве и не знала, что думать. В результате она решилась подойти к тренеру.
– Елена Александровна, скажите, пожалуйста, что мне делать? Завтра соревнования, мне нужно отрабатывать программу с булавами и мячом под музыку, но за последние часы вы меня ни разу не поставили.
Пятисекундная пауза и Елена Александровна произносит:
– Я в тебе разочаровалась. Алёна, ты не думаешь своей головой, у тебя много потерь, все валится из рук. Я снимаю тебя с соревнований!
– Елена Александровна, пожалуйста, дайте мне шанс! Я очень хочу выступить.
– Может ты и хочешь, но я этого не вижу...
– Я соберусь. Я вас не подведу, обещаю!
– Ты меня уже подвела.
– Но... – хотела продолжить девушка, как тренер крикнула вызывающим тоном. – Свободна!
В зале стояла напряжённая тишина. Алёна в слезах убежала в раздевалку. Все гимнастки были в растерянности.
Полночи, пока мама не заставила спать, Алёна оттачивала упражнения в небольшой комнате. С осторожностью подбрасывала ярко желтые булавы, крутила фуэте, задевая плотные шторы, вновь и вновь повторяла сложные прыжки и повороты, ударяясь об углы мебели.
Ее взгляд все время возвращался к новому голубому купальнику, который сшили специально для этого турнира. Яркие стразы сверкали от электрического света. Девушке казалось, что он обязательно должен принести ей удачу. Только как найти силы, не опустить руки и продолжать тренироваться дальше?
На следующий день Алёна проснулась пораньше.
За завтраком мама спросила:
– Доча, почему ты не участвуешь? Ты же так долго готовилась, мечтала об этом турнире.
– Не знаю, мам... Тренер так решила.
В эту же минуту раздался звонок.
– Ало, да Елена Александровна. Нет, Алёна не спит, а что?
Дочка пыталась понять, о чём они разговаривают. Мама положила телефон и спешно начала объяснять, что через час Алёна выступает.
Макияж, причёска, купальник, разогрев – на всё было очень мало времени.
До выступления остаются считанные минуты. Девочка пыталась мысленно сосредоточиться. Сзади подошла тренер и дотронулась до плеча. Внутри у гимнастки всё сжалось...
– Алёна, прости меня. Мне сказали, что после турнира ты собираешься переходить к другому тренеру. А я ведь в тебя столько сил вложила, десять лет ежедневно работали вместе.
– Что? Елена Александровна, да я бы никогда в жизни...
– Постой, дай договорю. Я, конечно, взъелась на тебя, когда это услышала, но до конца не могла поверить. А сегодня утром Вера с Таней перед разминкой подсыпали сильное снотворное соперницам, чтобы снизить конкуренцию. Их вычислили по камерам и исключили с соревнований. Они также сознались и про обман с твоим уходом из школы. Алёна, сейчас для тебя главное хорошо выступить. Следи за коленями, смотри за высокими бросками, сильнее прогибайся в прыжке. Я в тебя верю, у тебя обязательно все получится.
Гимнастка обняла тренера и услышала: "Войковская Алёна приглашается на площадку".
Прошло десять лет, сейчас Войковская Алёна в том же самом зале, только не на площадке для выступления, а на мягком кресле среди судейской бригады. Когда она вспоминает эту историю, её одолевают разные чувства, но на всю жизнь она запомнила: если всё плохо, значит, это ещё не конец!
А на стене в ее тренерском кабинете до сих пор висит пожелтевшая фотография, где за идеальное выступление вручают медаль худенькой девушке в голубом купальнике. Это тот самый памятный турнир, который научил её верить в людей и собственные силы!
Манько Иван. Коммуналка
Трудно сказать, как это по-научному, но у ребенка лет пяти фантазии в тысячу раз больше, чем у взрослого. Молодая душа совершенно чиста и не забита всяческой глупостью, от того делает то, для чего создана – бесконечно созидает.
Во всем мире, из известных мне людей, одновременно быть великим художником, изобретателем, музыкантом, одним словом «универсальным человеком» удавалось только Леонардо да Винчи и Степе, который жил со своей мамой в нашей коммуналке.
Этот милый мальчишка часто приходил ко мне, пока его мама была на работе. Он ел печеньки и либо рисовал, либо играл в моих старых оловянных солдатиков, редко подбегая сделать глоточек из выделенной ему кружки чая.
Странно, но я совсем не помню его маму, она, кажется, работала так много, что Степа проводил со мной гораздо больше времени, чем с ней, а я проводил с ним гораздо больше времени, чем с кем-либо еще. Так я фактически завел себе внука, чего не удосужился сделать в предыдущие 62 года.
Тогда была может зима, а может лето, этого я не помню, но в один из последних дней нашего дома, который тогда расселяли по программе реновации, комнаты пустели на глазах, оставляя меня, мой бронхит и Степу все в большем отчуждение от мира. Я думал, что, если его с мамой заселят слишком далеко от меня, мы больше не сможем видеться и мне станет совсем одиноко. За этими мыслями, когда я сидел с чашкой чая, он подошел ко мне и начал разговор, который навел меня на мысль, перевернувшую мою жизнь…
– Деда Гриша, а чего ты боялся в детстве?
– Я… Думаю, что одиночества и потерять Родину.
– А теперь?
– Ну, Родину я уже потерял, а одиночества, не знаю… С тобой оно не страшно, – посмеялся я.
– А как родину потерял?
– Было дело, лучше тебе, друг, не знать.
Мы немножко помолчали, пока он смотрел на меня задумчивыми глазами.
– А ты, Степан, чего боишься?
– Стать глупым и быть одному, а еще черного человека и, хм, потерять наш дом.
Потерять дом. С чего этому мальчишу бояться потерять дом, к тому же такой старый и гиблый. Он даже родился не здесь: они переехали сюда только два года назад. Может, это было из-за меня. Ведь сам человек подобен родному дому для другого человека. У меня, кажется, такого никогда не было, чтобы друг или член семьи, который как домашний очаг. У меня был только мой дом, который вот-вот должны были забрать.
Про дом я решил больше не говорить, чтобы мы вместе не загрустили совсем.
– А что это за черный человек такой? – спросил я.
– Мне мама про него рассказывала, он по ночам приходит к непослушным детям.
– И что же, приходил он к тебе?
– Нет, я ведь послушный.
Удивительно, но, когда Степа заговорил о черном человеке, я вспомнил, что он приходил и ко мне. Будучи подростком лет 16 я видел этого самого человека. Он приходил и стоял ночами над моей кроватью, заставляя все тело неметь от страха и вечерами бояться каждого шороха. А потом умер папа и мне стало совсем не до него… И он перестал ко мне приходить.
Я не стал пугать Степу этой историей, а только приободрил его, что это всего лишь выдумка, после чего мы опять помолчали.
– Ой, а еще я очень боюсь маньяка с верхнего этажа, – сказал Степа.
– Какого маньяка?
– Очень злого. Я почту, когда для мамы забирал, сверху вдруг кто-то страшно закричал: «Стой! Иди сюда!» Там темно было, я так испугался и побежал вниз, быстро-быстро и забежал домой.
– Да ну, что ты, это просто какой-то алкоголик с похмелья случайно тебя испугал.
– Нет, это страшный маньяк с топором.
Я попытался спорить, но Степан не сдавался, и я смирился, а он ушел рисовать.
Через десять минут он принес мне рисунок с красной машиной, похожей на Жигули.
– Смотрите, я вырасту и продам эту картину за пять мильёнов рублей.
Тогда я впал в печаль окончательно, рассматривая картину. На такой машине разбилась моя мама, когда мне было 24. Тогда мне было очень одиноко и страшно, а теперь тоскливо и гнусно.
Как мог этот маленький мальчишка пяти лет так точно, еще и без злого умысла, выдавливать самое больное из моей души.
Мне нужен был свежий воздух.
– Красивая картина, обязательно продашь, – сказал я. – Степан, а хочешь конфет?
– Хочу.
– Давай я в магазин схожу, а ты тут немного посидишь?
– Я боюсь быть один.
– Ты не бойся, я быстро, а ты пока нарисуй, что-нибудь еще.
Я надел старые брюки и свитер, единственный сохранившийся из теплых времен моей жизни. Затем проверил деньги, которых ни в одном кармане не оказалось. Видно, вся пенсия тогда закончилась и пришлось искать заначку. В полках и за уголком стены оказалось пусто. Пришлось приступить к книгам. Я пролистал десяток изданий, пока из томика чеховских рассказов не посыпалась куча купюр.
К несчастью, пользы от них было мало, так как все они были либо с профилем Ильича, либо с архитектурными достопримечательностями Беларуси. Вторые коллекционировала жена – привозила их из наших поездок в Минск. Она любила там отдыхать. А потом – сгорела от болезни 25 февраля, три года назад.
День был гнусный. Мне пришлось взять у Степы 100 рублей в долг, которые он достал из-под стельки моего же ботинка, оставленного мной в общей прихожей.
Я ушел. На лестнице мне стало неприятно от того, что болели колени и из-за ощущения, что кто-то на меня смотрит.
Потом была дорога к Дикси. Я думал, как плохо, что в детстве я боялся одиночества, и оно раз за разом кусало меня и теперь готово окончательно повалить. Я врал тогда Степану, что теперь не боюсь одиночества. Я боялся его больше всего на свете.
Потом я шел совершенно без мыслей. Купил упаковку «барбарисок» и пошел обратно.
И вдруг, уже недалеко от дома, у меня мелькнула картинка из детства. Мне было пять лет, и я, проверяя почтовый ящик, ранним еще темным утром, услышал страшный крик «Стой! Иди сюда!». Я тогда побежал, как никогда не бегал и потом несколько месяцев перебегал, как мог, от входа в парадную до квартиры. Это был пьяница Валера с верхнего этажа. Но… Ведь именно эту историю рассказывал мне Стёпа!
Я что-то понял, но отказывался принимать этого. Ноги сами побежали, как могли, сквозь ветер. Спотыкаясь и еле дыша, я не помня себя оказался в коммунальной квартире, в которой прожил 62 года. Она была совершенно пуста. Многие двери были опечатаны, на полке лежали предупреждения о сносе здания. Никакого Степу я искать не пытался, его не было здесь никогда, он был частью меня.
Сквозь боль я дополз до кровати и улегся. Было страшно. Я был смертельно болен одиночеством. Я представил, что одиноко плыву по океану в маленькой лодке, когда последним отголоском реальности из-под кровати раздался детский смешок пятилетнего мальчика.
Трудно сказать, как это по-научному, но у ребенка лет пяти фантазии в тысячу раз больше, чем у взрослого. Молодая душа совершенно чиста и не забита всяческой глупостью, от того делает то, для чего создана – бесконечно созидает.
Во всем мире, из известных мне людей, одновременно быть великим художником, изобретателем, музыкантом, одним словом «универсальным человеком» удавалось только Леонардо да Винчи и Степе, который жил со своей мамой в нашей коммуналке.
Этот милый мальчишка часто приходил ко мне, пока его мама была на работе. Он ел печеньки и либо рисовал, либо играл в моих старых оловянных солдатиков, редко подбегая сделать глоточек из выделенной ему кружки чая.
Странно, но я совсем не помню его маму, она, кажется, работала так много, что Степа проводил со мной гораздо больше времени, чем с ней, а я проводил с ним гораздо больше времени, чем с кем-либо еще. Так я фактически завел себе внука, чего не удосужился сделать в предыдущие 62 года.
Тогда была может зима, а может лето, этого я не помню, но в один из последних дней нашего дома, который тогда расселяли по программе реновации, комнаты пустели на глазах, оставляя меня, мой бронхит и Степу все в большем отчуждение от мира. Я думал, что, если его с мамой заселят слишком далеко от меня, мы больше не сможем видеться и мне станет совсем одиноко. За этими мыслями, когда я сидел с чашкой чая, он подошел ко мне и начал разговор, который навел меня на мысль, перевернувшую мою жизнь…
– Деда Гриша, а чего ты боялся в детстве?
– Я… Думаю, что одиночества и потерять Родину.
– А теперь?
– Ну, Родину я уже потерял, а одиночества, не знаю… С тобой оно не страшно, – посмеялся я.
– А как родину потерял?
– Было дело, лучше тебе, друг, не знать.
Мы немножко помолчали, пока он смотрел на меня задумчивыми глазами.
– А ты, Степан, чего боишься?
– Стать глупым и быть одному, а еще черного человека и, хм, потерять наш дом.
Потерять дом. С чего этому мальчишу бояться потерять дом, к тому же такой старый и гиблый. Он даже родился не здесь: они переехали сюда только два года назад. Может, это было из-за меня. Ведь сам человек подобен родному дому для другого человека. У меня, кажется, такого никогда не было, чтобы друг или член семьи, который как домашний очаг. У меня был только мой дом, который вот-вот должны были забрать.
Про дом я решил больше не говорить, чтобы мы вместе не загрустили совсем.
– А что это за черный человек такой? – спросил я.
– Мне мама про него рассказывала, он по ночам приходит к непослушным детям.
– И что же, приходил он к тебе?
– Нет, я ведь послушный.
Удивительно, но, когда Степа заговорил о черном человеке, я вспомнил, что он приходил и ко мне. Будучи подростком лет 16 я видел этого самого человека. Он приходил и стоял ночами над моей кроватью, заставляя все тело неметь от страха и вечерами бояться каждого шороха. А потом умер папа и мне стало совсем не до него… И он перестал ко мне приходить.
Я не стал пугать Степу этой историей, а только приободрил его, что это всего лишь выдумка, после чего мы опять помолчали.
– Ой, а еще я очень боюсь маньяка с верхнего этажа, – сказал Степа.
– Какого маньяка?
– Очень злого. Я почту, когда для мамы забирал, сверху вдруг кто-то страшно закричал: «Стой! Иди сюда!» Там темно было, я так испугался и побежал вниз, быстро-быстро и забежал домой.
– Да ну, что ты, это просто какой-то алкоголик с похмелья случайно тебя испугал.
– Нет, это страшный маньяк с топором.
Я попытался спорить, но Степан не сдавался, и я смирился, а он ушел рисовать.
Через десять минут он принес мне рисунок с красной машиной, похожей на Жигули.
– Смотрите, я вырасту и продам эту картину за пять мильёнов рублей.
Тогда я впал в печаль окончательно, рассматривая картину. На такой машине разбилась моя мама, когда мне было 24. Тогда мне было очень одиноко и страшно, а теперь тоскливо и гнусно.
Как мог этот маленький мальчишка пяти лет так точно, еще и без злого умысла, выдавливать самое больное из моей души.
Мне нужен был свежий воздух.
– Красивая картина, обязательно продашь, – сказал я. – Степан, а хочешь конфет?
– Хочу.
– Давай я в магазин схожу, а ты тут немного посидишь?
– Я боюсь быть один.
– Ты не бойся, я быстро, а ты пока нарисуй, что-нибудь еще.
Я надел старые брюки и свитер, единственный сохранившийся из теплых времен моей жизни. Затем проверил деньги, которых ни в одном кармане не оказалось. Видно, вся пенсия тогда закончилась и пришлось искать заначку. В полках и за уголком стены оказалось пусто. Пришлось приступить к книгам. Я пролистал десяток изданий, пока из томика чеховских рассказов не посыпалась куча купюр.
К несчастью, пользы от них было мало, так как все они были либо с профилем Ильича, либо с архитектурными достопримечательностями Беларуси. Вторые коллекционировала жена – привозила их из наших поездок в Минск. Она любила там отдыхать. А потом – сгорела от болезни 25 февраля, три года назад.
День был гнусный. Мне пришлось взять у Степы 100 рублей в долг, которые он достал из-под стельки моего же ботинка, оставленного мной в общей прихожей.
Я ушел. На лестнице мне стало неприятно от того, что болели колени и из-за ощущения, что кто-то на меня смотрит.
Потом была дорога к Дикси. Я думал, как плохо, что в детстве я боялся одиночества, и оно раз за разом кусало меня и теперь готово окончательно повалить. Я врал тогда Степану, что теперь не боюсь одиночества. Я боялся его больше всего на свете.
Потом я шел совершенно без мыслей. Купил упаковку «барбарисок» и пошел обратно.
И вдруг, уже недалеко от дома, у меня мелькнула картинка из детства. Мне было пять лет, и я, проверяя почтовый ящик, ранним еще темным утром, услышал страшный крик «Стой! Иди сюда!». Я тогда побежал, как никогда не бегал и потом несколько месяцев перебегал, как мог, от входа в парадную до квартиры. Это был пьяница Валера с верхнего этажа. Но… Ведь именно эту историю рассказывал мне Стёпа!
Я что-то понял, но отказывался принимать этого. Ноги сами побежали, как могли, сквозь ветер. Спотыкаясь и еле дыша, я не помня себя оказался в коммунальной квартире, в которой прожил 62 года. Она была совершенно пуста. Многие двери были опечатаны, на полке лежали предупреждения о сносе здания. Никакого Степу я искать не пытался, его не было здесь никогда, он был частью меня.
Сквозь боль я дополз до кровати и улегся. Было страшно. Я был смертельно болен одиночеством. Я представил, что одиноко плыву по океану в маленькой лодке, когда последним отголоском реальности из-под кровати раздался детский смешок пятилетнего мальчика.
Павленко Мария. Пернатое чудо
Маленький Кар-Карик с восторгом проводил взглядом сорок, летящих в штаб последних новостей. Как он мечтал когда-нибудь попасть туда, где хоть раз в жизни бывала каждая сорока! Ведь они с пелёнок умели узнавать последние новости и разносить разные сплетни. Увы, Кар-Карик был вороной и не умел «приносить новости на хвосте». Над не таким как все малышом посмеивались, но он не расстраивался, ведь его лучшими друзьями были родители – Карл и Клара.
Каждый день они трудились, не покладая крыльев, и любили своего единственного сына. Клара была самой красивой птицей в лесу! Она работала в отделе украшений и всегда находила всё самое яркое и блестящее. Карл работал в пернатом патруле – следил за самыми опасными преступниками леса, а в свободное время искал интересные и удивительные вещи. Кар-Карик любил своих родителей и делал всё, чтобы чаще их радовать. Помогал папе исследовать, а маме подбирать украшения на работе. Но больше всего он хотел стать таким, как сороки из новостного штаба. Стать самым лучшим журналистом в лесу! Кар-Карик подмечал много интересного, но не знал, как об этом красиво рассказать.
И вот теперь, сидя на кухне и держа в лапе кусок бумажки с надписью «Утренние новости», он с волнением читал: «В последнее воскресенье марта, в 9 утра, состоится слёт юных журналистов. Для вас проведут конкурсы и расскажут, как доносить недостоверную информацию так, чтобы все поверили. Самых активных мы пригласим в нашу новую школу».
Кар-Карик улыбнулся во весь клюв и начал скакать по кухне так, будто у него из хвоста начали выдёргивать перья.
– Мама! Папа! Я смогу узнать, как пишут новости, и попаду в новую школу. Ура, ура, ура!
Но его радостные вопли прервала Клара:
– Погоди, сорванец, – сказала она, покачав головой. – Дочитай до конца!
Она поднесла к нему газету с недостающим огрызком.
– Вот видишь? «Просим подготовиться юных журналистов к испытанию репортажами. Вам нужно рассказать шокирующие истории так, чтобы вам все поверили. Лучшие из них опубликуют в газете «Пари, лети, падай». Ждём будущих знаменитостей на нашем слёте. Желаем всего хорошего…».
Улыбка Кар-Карика превратилось в нечто печальное. Для него рухнул весь мир и потерялся смысл жизни. К глазам подступали слёзы. Клара это сразу заметила и начала успокаивать сына, предлагая червячка в карамели или новую игрушку. Наконец Кар-Карик упокоился, с серьёзным взглядом повернулся к маме и заявил:
– Мама, я – будущий журналист! Я это знаю, чувствую. Купи мне репортёрскую кепку и фотоаппарат, тогда я добьюсь успеха. Я буду трудиться, не спать ночами, заглядывать под каждый кустик в надежде найти там нечто удивительное. Стану самым знаменитым в округе, а потом и в мире. Мамочка, я обещаю тебе.
Мама крепко обняла сына и пообещала, что поддержит его во всём, что бы он не выбрал. Они постояли так ещё минуту, и Клара отправилась готовить утреннюю овсянку. Кар-Карик же в это время отправился к календарю, чтобы посмотреть сколько осталось дней до слёта.
Сколько счастья было в его больших и круглых глазах, когда он увидел, что до слёта осталась целая неделя! И какое разочарование его охватило, когда он осознал, насколько этого будет мало, чтобы написать новости. Учитывая, что он ни разу их не писал.
Наконец, Кар-Карик набрался решимости и начал достижение своей цели с того, что пошёл на разведку: общаться с сородичами или слушать их разговоры.
Натянув на себя чепчик и накинув на крыло сумку, в которой лежал блокнот с ручкой, он обулся в зелёные кеды и направился в интереснейшее путешествие в поисках необычных историй. Выйдя на улицу, он увидел, как соседские вороны играют в мяч, а пожилые сороки сидят на скамейке и собирают последние сплетни… Кар-Карик решил пока здесь не задерживаться, а отправился вприпрыжку на пернатый рынок, уж там точно самые свежие новости.
На этом рынке бывали все животные из их леса и те, что прибыли с других мест. Весь рынок был таким необычным: посуда, украшения, сладости, антиквариат... Немного побродив по лабиринту из вещей, он наткнулся на большое столпотворение. Протиснувшись через толпу, он увидел пожилую птицу, которую все так внимательно слушали, что Кар-Карик решил остаться и тоже послушать. Вдруг что-то нужное для себя узнает.
Эта птица была сорокой. На перьях у неё были нанизаны бусины, на каждое перо разное количество. На её платье были пришиты монеты, взгляд у неё был такой загадочный и завораживающий, что в нём можно было утонуть и заблудиться. Голос её звучал чарующе, и сама она была как из сказки. Она рассказывала такие небылицы, но это было настолько правдоподобно что ей все верили.
История за историей – и день подошел к концу. Кар-Карик хотел было подойти к загадочной сороке, но она как будто испарилась. Малыш добрался домой, но эмоции не переставали бурлить в его голове. Решив отвлечься от всего, он взял сборник сказок. И к нему в голову пришла прекрасная идея. А что, если он попробует написать новости про сказочных существ! Достав из сумки блокнот с ручкой, он начал писать: «Сенсация! Лиса обманула Волка! Они жили в лесу по соседству, и оба хотели есть. Хитрая лиса решила воспользоваться доверчивостью соседа и сказала Волку, что если он опустит хвост в реку, то сможет им наловить рыбу...»
– Получилось! – подумал Кар-Карик. – Но чего-то не хватает. Вот бы кто-нибудь мне помог...
Было поздно, и Кар-Карик решил отложить все дела на завтра. А ещё – поймать ту сороку и поговорить с ней.
Резкий хлопок, окна нараспашку, солнце светит прямо на спящего Кар-Карика… Он тут же подорвался с места и побежал на кухню, чтобы быстро позавтракать. Но там его ждал не только завтрак, но и сюрприз. Его папа Карл стоял у входа и прятал что-то у себя за спиной.
– Закрой глаза и жди моей команды, – сказал он. Кар-Карик зажмурился изо всех сил, что у него были, и по команде «открывай» распахнул свои большущие глаза, которые ещё больше увеличились, когда он увидел перед собой настоящую форму журналиста. Это была зелёная кепка и изумрудного цвета пиджак. Кар-Карик схватил вещи и побежал скорее примерять новое одеяние. Любовался он у зеркала достаточно долго, но тут вспомнил, что не поблагодарил папу! Вернувшись на кухню, он крепко обнял Карла.
В новой одежде Кар-Карик поспешил на рынок. Сорока сидела на том же месте, что и вчера. Посетителей было немного, и он решил обратиться к стоящей рядом дикой гусыне, которая на вид была добродушной.
– Вы знаете, кто это? – прошептал Кар-Карик. – Как с ней можно пообщаться?
–Это Дуся, она особо ни с кем не общается, – прошипела Гусыня.
Кар-Карик, преступая все правила приличия, сделал два шага вперёд и почти подошёл вплотную к Дусе
– Простите, могу я с вами поговорить? Вы так виртуозно слагаете легенды! Я хочу у вас поучиться. Не могли бы вы уделить минутку?
Но сорока продолжала свой рассказ.
– Мэм! – воплем вылетело у Кар-Карика из его невоспитанного клюва, но и тут Дуся не прекратила свою историю. Тогда Кар-Карик решил всё-таки дождаться конца рассказа и попробовать снова. Но время шло, а Дуся всё никак не заканчивала рассказ…
И, о, чудо, наступила тишина, все разошлись. И пока Карик считал круживших вокруг ворон, проворонил загадочную рассказчицу. Подбежав к соседней лавке, он спросил, куда направилась сорока. Ему указали дорогу в сторону леса – к её избе. Но Кар-Карик испугался идти туда в одиночку – вдруг он придёт и его больше никто никогда не увидит.
День за днём он пытался привлечь внимание Дуси, но она была настолько поглощена своими историями, что совсем не замечала Кар-Карика. Конкурс и слёт были всё ближе и ближе, а Кар-Карик всё грустней и грустней. Когда осталось всего два дня, Кар-Карик решил вернуться домой пораньше, выспаться как следует и с утра пораньше рвануть в тот лес.
Солнце ещё не вышло из-за горизонта, а «будущий всемирно известный пернатый журналист» уже стоял на пороге одетый в свою форму. Крутыми дорогами он шёл к избушке, убеждая себя, что вот он – путь к счастью. Но ему всё равно было очень страшно!
Добравшись до избушки, он робко постучался. Скрипучая дверь отворилась. На пороге появилась Дуся.
– Что тебе нужно, малыш?
– Научите меня писать потрясающие новости! Да, я знаю, что вы пишете не их, а рассказы, но вдруг…
– Заходи, – перебила его Дуся. – И расскажи, зачем вороне понадобилось занимать место сорок!
Кар-Карик, волнуясь, торопливо рассказал, что ему нужно написать новости для конкурса, чтобы его взяли в лучшую школу сорок-журналистов. Вот только он не умеет писать их!
– Спокойно, – ответила ему Дуся. – Я тебе помогу. Всю неделю я видела тебя на рынке, слушающего мои истории. Ты что-нибудь запомнил из них?
– Конечно, они удивительны!
– Знаешь в чём секрет? Все эти истории правда, просто все привыкли, что самое безумное и невероятное только в небылицах. Что вся наша жизнь построена на лжи и сплетнях. Я очень много путешествовала, когда была такой, как ты, и все удивительные истории собирала в свой блокнот путешествий. Давай попробуем написать про твою неделю в поисках новостей? Что у тебя было такого, что ни у кого бы другого не произошло?
И тут Кар-Карик понял, что у него была такая интересная неделя, что, возможно, никто бы и не догадался, что это правда.
Они работали над новостями до рассвета, которые Кар-Карик отправил на конкурс.
И вот наконец объявили результаты – среди прошедших зверей был и Кар-Каркарик! Но оказавшись на слёте, он почувствовал себя не в своей тарелке: все вокруг говорили такие небылицы, что перья вставали дыбом от такого ужаса! Он пытался слушать и даже выполнять задания, но только слёт закончился – он стрелой отправился к Дусе.
– Мне не нравится обманывать, – признался Кар-Карик. – Но я все еще хочу рассказывать истории… Может, вы возьмёте меня в ученики?
Дуся обняла его своим старческим тёплым крылом и, конечно же, согласилась. Она так сильно прикипела к этому малышу за эту неделю – такую хорошую неделю.
Так завязалась крепкая дружба. Они создавали интересные истории вместе. И когда сороки не стало, а Кар-Карик стал важной персоной и директором «Самой честной школы», он написал книгу, собрав их честные истории вместе – его и Дуси.
Маленький Кар-Карик с восторгом проводил взглядом сорок, летящих в штаб последних новостей. Как он мечтал когда-нибудь попасть туда, где хоть раз в жизни бывала каждая сорока! Ведь они с пелёнок умели узнавать последние новости и разносить разные сплетни. Увы, Кар-Карик был вороной и не умел «приносить новости на хвосте». Над не таким как все малышом посмеивались, но он не расстраивался, ведь его лучшими друзьями были родители – Карл и Клара.
Каждый день они трудились, не покладая крыльев, и любили своего единственного сына. Клара была самой красивой птицей в лесу! Она работала в отделе украшений и всегда находила всё самое яркое и блестящее. Карл работал в пернатом патруле – следил за самыми опасными преступниками леса, а в свободное время искал интересные и удивительные вещи. Кар-Карик любил своих родителей и делал всё, чтобы чаще их радовать. Помогал папе исследовать, а маме подбирать украшения на работе. Но больше всего он хотел стать таким, как сороки из новостного штаба. Стать самым лучшим журналистом в лесу! Кар-Карик подмечал много интересного, но не знал, как об этом красиво рассказать.
И вот теперь, сидя на кухне и держа в лапе кусок бумажки с надписью «Утренние новости», он с волнением читал: «В последнее воскресенье марта, в 9 утра, состоится слёт юных журналистов. Для вас проведут конкурсы и расскажут, как доносить недостоверную информацию так, чтобы все поверили. Самых активных мы пригласим в нашу новую школу».
Кар-Карик улыбнулся во весь клюв и начал скакать по кухне так, будто у него из хвоста начали выдёргивать перья.
– Мама! Папа! Я смогу узнать, как пишут новости, и попаду в новую школу. Ура, ура, ура!
Но его радостные вопли прервала Клара:
– Погоди, сорванец, – сказала она, покачав головой. – Дочитай до конца!
Она поднесла к нему газету с недостающим огрызком.
– Вот видишь? «Просим подготовиться юных журналистов к испытанию репортажами. Вам нужно рассказать шокирующие истории так, чтобы вам все поверили. Лучшие из них опубликуют в газете «Пари, лети, падай». Ждём будущих знаменитостей на нашем слёте. Желаем всего хорошего…».
Улыбка Кар-Карика превратилось в нечто печальное. Для него рухнул весь мир и потерялся смысл жизни. К глазам подступали слёзы. Клара это сразу заметила и начала успокаивать сына, предлагая червячка в карамели или новую игрушку. Наконец Кар-Карик упокоился, с серьёзным взглядом повернулся к маме и заявил:
– Мама, я – будущий журналист! Я это знаю, чувствую. Купи мне репортёрскую кепку и фотоаппарат, тогда я добьюсь успеха. Я буду трудиться, не спать ночами, заглядывать под каждый кустик в надежде найти там нечто удивительное. Стану самым знаменитым в округе, а потом и в мире. Мамочка, я обещаю тебе.
Мама крепко обняла сына и пообещала, что поддержит его во всём, что бы он не выбрал. Они постояли так ещё минуту, и Клара отправилась готовить утреннюю овсянку. Кар-Карик же в это время отправился к календарю, чтобы посмотреть сколько осталось дней до слёта.
Сколько счастья было в его больших и круглых глазах, когда он увидел, что до слёта осталась целая неделя! И какое разочарование его охватило, когда он осознал, насколько этого будет мало, чтобы написать новости. Учитывая, что он ни разу их не писал.
Наконец, Кар-Карик набрался решимости и начал достижение своей цели с того, что пошёл на разведку: общаться с сородичами или слушать их разговоры.
Натянув на себя чепчик и накинув на крыло сумку, в которой лежал блокнот с ручкой, он обулся в зелёные кеды и направился в интереснейшее путешествие в поисках необычных историй. Выйдя на улицу, он увидел, как соседские вороны играют в мяч, а пожилые сороки сидят на скамейке и собирают последние сплетни… Кар-Карик решил пока здесь не задерживаться, а отправился вприпрыжку на пернатый рынок, уж там точно самые свежие новости.
На этом рынке бывали все животные из их леса и те, что прибыли с других мест. Весь рынок был таким необычным: посуда, украшения, сладости, антиквариат... Немного побродив по лабиринту из вещей, он наткнулся на большое столпотворение. Протиснувшись через толпу, он увидел пожилую птицу, которую все так внимательно слушали, что Кар-Карик решил остаться и тоже послушать. Вдруг что-то нужное для себя узнает.
Эта птица была сорокой. На перьях у неё были нанизаны бусины, на каждое перо разное количество. На её платье были пришиты монеты, взгляд у неё был такой загадочный и завораживающий, что в нём можно было утонуть и заблудиться. Голос её звучал чарующе, и сама она была как из сказки. Она рассказывала такие небылицы, но это было настолько правдоподобно что ей все верили.
История за историей – и день подошел к концу. Кар-Карик хотел было подойти к загадочной сороке, но она как будто испарилась. Малыш добрался домой, но эмоции не переставали бурлить в его голове. Решив отвлечься от всего, он взял сборник сказок. И к нему в голову пришла прекрасная идея. А что, если он попробует написать новости про сказочных существ! Достав из сумки блокнот с ручкой, он начал писать: «Сенсация! Лиса обманула Волка! Они жили в лесу по соседству, и оба хотели есть. Хитрая лиса решила воспользоваться доверчивостью соседа и сказала Волку, что если он опустит хвост в реку, то сможет им наловить рыбу...»
– Получилось! – подумал Кар-Карик. – Но чего-то не хватает. Вот бы кто-нибудь мне помог...
Было поздно, и Кар-Карик решил отложить все дела на завтра. А ещё – поймать ту сороку и поговорить с ней.
Резкий хлопок, окна нараспашку, солнце светит прямо на спящего Кар-Карика… Он тут же подорвался с места и побежал на кухню, чтобы быстро позавтракать. Но там его ждал не только завтрак, но и сюрприз. Его папа Карл стоял у входа и прятал что-то у себя за спиной.
– Закрой глаза и жди моей команды, – сказал он. Кар-Карик зажмурился изо всех сил, что у него были, и по команде «открывай» распахнул свои большущие глаза, которые ещё больше увеличились, когда он увидел перед собой настоящую форму журналиста. Это была зелёная кепка и изумрудного цвета пиджак. Кар-Карик схватил вещи и побежал скорее примерять новое одеяние. Любовался он у зеркала достаточно долго, но тут вспомнил, что не поблагодарил папу! Вернувшись на кухню, он крепко обнял Карла.
В новой одежде Кар-Карик поспешил на рынок. Сорока сидела на том же месте, что и вчера. Посетителей было немного, и он решил обратиться к стоящей рядом дикой гусыне, которая на вид была добродушной.
– Вы знаете, кто это? – прошептал Кар-Карик. – Как с ней можно пообщаться?
–Это Дуся, она особо ни с кем не общается, – прошипела Гусыня.
Кар-Карик, преступая все правила приличия, сделал два шага вперёд и почти подошёл вплотную к Дусе
– Простите, могу я с вами поговорить? Вы так виртуозно слагаете легенды! Я хочу у вас поучиться. Не могли бы вы уделить минутку?
Но сорока продолжала свой рассказ.
– Мэм! – воплем вылетело у Кар-Карика из его невоспитанного клюва, но и тут Дуся не прекратила свою историю. Тогда Кар-Карик решил всё-таки дождаться конца рассказа и попробовать снова. Но время шло, а Дуся всё никак не заканчивала рассказ…
И, о, чудо, наступила тишина, все разошлись. И пока Карик считал круживших вокруг ворон, проворонил загадочную рассказчицу. Подбежав к соседней лавке, он спросил, куда направилась сорока. Ему указали дорогу в сторону леса – к её избе. Но Кар-Карик испугался идти туда в одиночку – вдруг он придёт и его больше никто никогда не увидит.
День за днём он пытался привлечь внимание Дуси, но она была настолько поглощена своими историями, что совсем не замечала Кар-Карика. Конкурс и слёт были всё ближе и ближе, а Кар-Карик всё грустней и грустней. Когда осталось всего два дня, Кар-Карик решил вернуться домой пораньше, выспаться как следует и с утра пораньше рвануть в тот лес.
Солнце ещё не вышло из-за горизонта, а «будущий всемирно известный пернатый журналист» уже стоял на пороге одетый в свою форму. Крутыми дорогами он шёл к избушке, убеждая себя, что вот он – путь к счастью. Но ему всё равно было очень страшно!
Добравшись до избушки, он робко постучался. Скрипучая дверь отворилась. На пороге появилась Дуся.
– Что тебе нужно, малыш?
– Научите меня писать потрясающие новости! Да, я знаю, что вы пишете не их, а рассказы, но вдруг…
– Заходи, – перебила его Дуся. – И расскажи, зачем вороне понадобилось занимать место сорок!
Кар-Карик, волнуясь, торопливо рассказал, что ему нужно написать новости для конкурса, чтобы его взяли в лучшую школу сорок-журналистов. Вот только он не умеет писать их!
– Спокойно, – ответила ему Дуся. – Я тебе помогу. Всю неделю я видела тебя на рынке, слушающего мои истории. Ты что-нибудь запомнил из них?
– Конечно, они удивительны!
– Знаешь в чём секрет? Все эти истории правда, просто все привыкли, что самое безумное и невероятное только в небылицах. Что вся наша жизнь построена на лжи и сплетнях. Я очень много путешествовала, когда была такой, как ты, и все удивительные истории собирала в свой блокнот путешествий. Давай попробуем написать про твою неделю в поисках новостей? Что у тебя было такого, что ни у кого бы другого не произошло?
И тут Кар-Карик понял, что у него была такая интересная неделя, что, возможно, никто бы и не догадался, что это правда.
Они работали над новостями до рассвета, которые Кар-Карик отправил на конкурс.
И вот наконец объявили результаты – среди прошедших зверей был и Кар-Каркарик! Но оказавшись на слёте, он почувствовал себя не в своей тарелке: все вокруг говорили такие небылицы, что перья вставали дыбом от такого ужаса! Он пытался слушать и даже выполнять задания, но только слёт закончился – он стрелой отправился к Дусе.
– Мне не нравится обманывать, – признался Кар-Карик. – Но я все еще хочу рассказывать истории… Может, вы возьмёте меня в ученики?
Дуся обняла его своим старческим тёплым крылом и, конечно же, согласилась. Она так сильно прикипела к этому малышу за эту неделю – такую хорошую неделю.
Так завязалась крепкая дружба. Они создавали интересные истории вместе. И когда сороки не стало, а Кар-Карик стал важной персоной и директором «Самой честной школы», он написал книгу, собрав их честные истории вместе – его и Дуси.
Кузнецова Влада. Легенда о синем волке
– Да, здорово похолодало на улице, завернул мороз… Ну, ничего, дров у нас достаточно, не замерзнем. Быть может, дети, вы слышали легенду о Синем волке? Нет? Что же, тогда садитесь поудобней у камина. Я расскажу вам эту старую сказку.
Стемнело. Слышите, как метель завывает за посиневшими стеклами? Синеватые тени легли на свежий снег. Говорят, именно в такую пору появляется Синий волк. Он подкрадывается к домам по голубым сугробам и заглядывает в окна, наблюдая за жизнью людей. Стоит кому-то заметить его, как он тут же растворяется в вечернем сумраке. Зачем он так делает? Возможно, ему нравится слушать человеческие разговоры. Нравится смотреть, как мать укладывает малышей спасть и целует их белые лобики, как закрываются их сонные глазки… Кто знает.
Синий волк живет в темно-синем лесу среди голубых елей. Когда на землю опускаются сумерки, он выходит в поле, чтобы поглядеть на синеющие зимние звезды и спеть печальную песню. Откуда пришел Синий волк? Всегда ли он был таким? Одни говорят, что когда-то он был обычным серым волком, которого заколдовал волшебник, за то, что тот был слишком горд и заносчив, отбивал добычу у других волков и не щадил маленьких волчат, если они попадались на его пути. Он окрасил его в синий цвет и оставил бродить в тенях. Другие считают, что он с рождения был таким и всегда скитался по вересковым пустошам, не признанный своими сородичами.
Так или иначе, синий – это цвет одиночества. Поэтому Синий волк всегда один. Другие волки не принимают его, звери обходят стороной. Только синицы порой посвящают ему свои короткие трели. Синь-синь. Синь-синь. Щебечут они. И волку кажется, что они зовут его. За это он никогда не трогает этих маленьких птичек. Летом он прячется в ложбинах среди васильков и незабудок, изредка в зной пьет черно-синюю воду из старого колодца. Порой его силуэт мелькает в бледно-голубом утреннем тумане, пугает рыбаков и пастухов, погоняющих стадо. Его видят лишь такие же одинокие люди, и, иногда, печальные больные художники, рисующие свои картины краской цвета лазури, самой дешевой краской.
– Мама, а ты видела Синего волка? Он тебя не съел?
– Я встретила его однажды, когда в тоске и отчаянии, сбежав от шума большого города, вдруг оказалась на берегу голубого озера. Я не хотела больше видеть людей. Никогда. Там, среди зарослей черники, я и увидела его, лежащего ни сизом мху среди камней. Он смотрел на прозрачных рыбок, кружащих на мелководье. Синий волк заметил меня, и поднял взгляд. Глаза у него тоже были ярко-синие, как цветки гиацинта.
– Ты видишь меня? Как печально. Должно быть, тебе нелегко сейчас.
Его голос был тихим и бархатистым. Мне не было страшно. Я не сказала ему, почему я пришла сюда, впрочем по моему печальному и растерянному лицу он и так должно быть все понял. Вместо этого я спросила:
– Разве тебе не скучно здесь? Ты всегда окружен лишь синим. Это ведь цвет грусти и тревоги.
– Не только, – был его ответ.
– Быть может, я один, но я не привязан ни к кому и ни к чему. Синий – это цвет свободы. Пойдем, я покажу тебе.
В два прыжка он оказался рядом, забросил меня к себе на спину, и мы понеслись вперед. Из елового леса мы выбежали в поле, поросшее льном. Солнце ярко сияло на синем небе, освещая необъятные просторы степей вдали. Синий Волк мчался со скоростью ветра, и как ветер, мы были свободны. Голубоватые цветы льна сменились лиловым вереском, а Волк все бежал вперед. Наконец, мы оказались на высоком холме.
– Что ты видишь?, – спросил он.
Вдалеке, за просторами полей виднелась совсем бескрайняя даль, темно-синие волны блестели на солнце, уходя за горизонт.
– Это море?
– Верно. Море тоже синее, и в его просторе человек свободнее всего. Синий – цвет небес и бескрайних вод. Это цвет покоя.
И я улыбнулась, глядя на далекие волны, а душу действительно заполнил покой, не оставив и следа от печали и тревоги. Синий волк тоже, казалось, улыбнулся мне в ответ. И сразу исчез. А я снова стояла на берегу лесного озера, но кроме меня там не было никого. Лишь пара синиц о чем-то оживленно щебетали на ветках. Синь-синь. Синь-синь. Правда это или сон, решать вам. Но я с тех пор люблю синий цвет. Цвет грусти и одиночества, свободы и покоя. Каждый найдет в нем что-то свое. Так что, когда сумерки вновь лягут на землю, на небе взойдет голубая луна, а на сердце станет уныло и тревожно, выгляните в окно, дети. Быть может, вы увидите силуэт Синего волка среди темнеющих сугробов? Кто знает.
– Да, здорово похолодало на улице, завернул мороз… Ну, ничего, дров у нас достаточно, не замерзнем. Быть может, дети, вы слышали легенду о Синем волке? Нет? Что же, тогда садитесь поудобней у камина. Я расскажу вам эту старую сказку.
Стемнело. Слышите, как метель завывает за посиневшими стеклами? Синеватые тени легли на свежий снег. Говорят, именно в такую пору появляется Синий волк. Он подкрадывается к домам по голубым сугробам и заглядывает в окна, наблюдая за жизнью людей. Стоит кому-то заметить его, как он тут же растворяется в вечернем сумраке. Зачем он так делает? Возможно, ему нравится слушать человеческие разговоры. Нравится смотреть, как мать укладывает малышей спасть и целует их белые лобики, как закрываются их сонные глазки… Кто знает.
Синий волк живет в темно-синем лесу среди голубых елей. Когда на землю опускаются сумерки, он выходит в поле, чтобы поглядеть на синеющие зимние звезды и спеть печальную песню. Откуда пришел Синий волк? Всегда ли он был таким? Одни говорят, что когда-то он был обычным серым волком, которого заколдовал волшебник, за то, что тот был слишком горд и заносчив, отбивал добычу у других волков и не щадил маленьких волчат, если они попадались на его пути. Он окрасил его в синий цвет и оставил бродить в тенях. Другие считают, что он с рождения был таким и всегда скитался по вересковым пустошам, не признанный своими сородичами.
Так или иначе, синий – это цвет одиночества. Поэтому Синий волк всегда один. Другие волки не принимают его, звери обходят стороной. Только синицы порой посвящают ему свои короткие трели. Синь-синь. Синь-синь. Щебечут они. И волку кажется, что они зовут его. За это он никогда не трогает этих маленьких птичек. Летом он прячется в ложбинах среди васильков и незабудок, изредка в зной пьет черно-синюю воду из старого колодца. Порой его силуэт мелькает в бледно-голубом утреннем тумане, пугает рыбаков и пастухов, погоняющих стадо. Его видят лишь такие же одинокие люди, и, иногда, печальные больные художники, рисующие свои картины краской цвета лазури, самой дешевой краской.
– Мама, а ты видела Синего волка? Он тебя не съел?
– Я встретила его однажды, когда в тоске и отчаянии, сбежав от шума большого города, вдруг оказалась на берегу голубого озера. Я не хотела больше видеть людей. Никогда. Там, среди зарослей черники, я и увидела его, лежащего ни сизом мху среди камней. Он смотрел на прозрачных рыбок, кружащих на мелководье. Синий волк заметил меня, и поднял взгляд. Глаза у него тоже были ярко-синие, как цветки гиацинта.
– Ты видишь меня? Как печально. Должно быть, тебе нелегко сейчас.
Его голос был тихим и бархатистым. Мне не было страшно. Я не сказала ему, почему я пришла сюда, впрочем по моему печальному и растерянному лицу он и так должно быть все понял. Вместо этого я спросила:
– Разве тебе не скучно здесь? Ты всегда окружен лишь синим. Это ведь цвет грусти и тревоги.
– Не только, – был его ответ.
– Быть может, я один, но я не привязан ни к кому и ни к чему. Синий – это цвет свободы. Пойдем, я покажу тебе.
В два прыжка он оказался рядом, забросил меня к себе на спину, и мы понеслись вперед. Из елового леса мы выбежали в поле, поросшее льном. Солнце ярко сияло на синем небе, освещая необъятные просторы степей вдали. Синий Волк мчался со скоростью ветра, и как ветер, мы были свободны. Голубоватые цветы льна сменились лиловым вереском, а Волк все бежал вперед. Наконец, мы оказались на высоком холме.
– Что ты видишь?, – спросил он.
Вдалеке, за просторами полей виднелась совсем бескрайняя даль, темно-синие волны блестели на солнце, уходя за горизонт.
– Это море?
– Верно. Море тоже синее, и в его просторе человек свободнее всего. Синий – цвет небес и бескрайних вод. Это цвет покоя.
И я улыбнулась, глядя на далекие волны, а душу действительно заполнил покой, не оставив и следа от печали и тревоги. Синий волк тоже, казалось, улыбнулся мне в ответ. И сразу исчез. А я снова стояла на берегу лесного озера, но кроме меня там не было никого. Лишь пара синиц о чем-то оживленно щебетали на ветках. Синь-синь. Синь-синь. Правда это или сон, решать вам. Но я с тех пор люблю синий цвет. Цвет грусти и одиночества, свободы и покоя. Каждый найдет в нем что-то свое. Так что, когда сумерки вновь лягут на землю, на небе взойдет голубая луна, а на сердце станет уныло и тревожно, выгляните в окно, дети. Быть может, вы увидите силуэт Синего волка среди темнеющих сугробов? Кто знает.
Полякова Анастасия. Утро
Я сидела на полу, обхватив руками колени и вглядываясь в темноту, царившую вокруг. Ступеньки лестничного пролета, уходя вниз, круто поворачивали, так что я не могла видеть первый этаж, и поэтому полагалась только на слух. Неподвластным тишине спящего дома оставался лишь маятник старинных часов. Время от времени я поглядывала на циферблат, окутанный лунным светом. Рядом смиренно сидел плюшевый мишка, которого подарила мне мама, и с тех пор он постоянно со мной.
Я не боюсь темноты, но внезапный шорох заставил меня вздрогнуть и затаить дыхание. Я старалась уловить малейшие звуки, словно дикая кошка на охоте. Только в эту минуту охотились за мной. Будь предельно внимательной, Варя! Внизу послышались шаги, отражаемые эхом. Жалобно скрипнула ступенька.
- Шухер! Вставайте! - прошептала я.
Мои братья и сестры нелепо вскочили на ноги. В их широко распахнутых глазах читался ужас. Мы провинились. За это должны приседать всю ночь.
Шаги становились все ближе. В комнату вошла мама. Несколько минут она стояла молча и… просто смотрела на четырнадцать силуэтов, мелькающих то вверх, то вниз. Так и не сказав ни слова, она направилась в коридор, волоча за собой растянувшуюся на полу тень.
Я посмотрела в окно, откуда открывался вид на крошечное алое блюдечко, выглядывающее из-за горизонта. Краски вокруг румянились, а выше сохраняли смягчившийся синий оттенок. Синий – цвет неба, когда мгла, робея, исчезает и начинается утро.
Я опустилась на колени. Ночь кончилась. Наказание тоже.
***
В окно стучал дождь, а мне хотелось снега! Я сидела на широком подоконнике рядом с Олесей, моей одногруппницей и соседкой по комнате. Она меня внимательно слушала.
- Нас часто наказывали, но в этот раз двое из четырнадцати приемных детей не выдержали и сбежали. Потом приехала специальная служба и забрала нас, - рассказывала я Олесе. - Хотя родители сказали, что мы здесь ненадолго, я не знаю, смогу ли простить их, когда мы вернемся в семью.
- Ну, а пока у тебя будет новая семья, - сказала Олеся, - мы привыкли к тому, что она постоянно меняется. Кого-то забирают из группы, на их место приходят другие. Мы обязательно подружимся, пока ты будешь жить здесь, в…
- Детдоме?
Олеся вздохнула.
- Мы не любим говорить «детдом». Это «центр». Центр содействия семейному воспитанию «Возрождение» - кажется так, если официально.
Последние слова повисли во внезапно наступившем молчании.
- И долго ты здесь живешь? – спросила я.
- Всю жизнь. Почти с самого рождения, - пожала плечами Олеся. – Для меня этот дом - родной.
Несколько следующих дней были даны мне на то, чтобы «освоиться». Я проводила время с группой, которая состояла из семи девочек разных возрастов. Иногда я выходила за пределы нашей квартиры и бродила по коридорам, спускалась в холл, где в ряд выстроились стеклянные стеллажи с поделками, рисунками, бумажными цветами в вазах. Это огромное здание было совсем не уютным и почему-то напоминало школу. Нет, это все что угодно, но не дом!
Вскоре меня устроили в школу. Дни за партой – сплошная рутина. И вот в моей жизни появился волонтер!
«Это такой человек, - объясняла Алла Алексеевна, наша воспитательница, - который станет тебе старшим другом. Он будет приезжать раз в неделю, чтобы пообщаться с тобой. У каждого в центре есть свой волонтер».
Моим волонтером оказалась Нина. С ней было интересно проводить время. На одной из наших встреч мы решили поехать в загородный парк.
- Знаешь, я совсем не ориентируюсь в городе, - по дороге призналась я. – Разве что могу дойти до школы напротив и больше никуда, да и нельзя нам.
- Скоро ты всему научишься, - отвечала, улыбаясь, Нина.
Не думаю, что мне это пригодится. Скоро я буду жить с родителями в деревне.
Когда мы сели в электричку, завязался разговор о питомцах.
- Почему ты не заведешь лошадей? – спросила я.
- Где же они будут жить?
- Ты бы могла построить конюшню рядом с домом. Вот у нас были лошади. Мы с сестрами и братьями с самого детства ухаживали за ними. На самом деле все гораздо проще, чем кажется. А здесь все ищут непонятные проблемы.
- Понимаешь, все немного сложнее… - говорила Нина, но я уже почти не слушала. Что-то привлекло меня за окном.
Станция, платформа, навес на металлических ножках, козырек… Красный! Я едва не захлопала в ладоши от радости. Неподалеку виднелась дорожка. Она ведет прямо до нашего дома. Мы любили гулять вдоль нее.
Но вот поезд тронулся, и платформа, и навес, и красный козырек – все, что только что было так близко, осталось далеко позади, где-то в прошлом, где-то в забытьи.
***
Выпал первый снег. На очередной встрече с волонтером Нина решила сделать мне сюрприз. И каково было мое удивление, когда в подарочной коробке я обнаружила то, чем нам всегда запрещали пользоваться родители. Я не могла поверить, что держала в руках собственный мобильный телефон!
В тот же день я выпросила у Аллы Алексеевны мамин номер. Когда Олеся ушла на танцы и кроме меня в комнате никого не осталось, я судорожно нажала на звонок и вслушалась в гудки. В один момент они прекратились, и сердце забилось в бешеном ритме.
- Кто? – послышалось наконец.
- Мама, это я, Варя, - сказала я, пытаясь скрыть непроизвольную дрожь в голосе.
Мама показалась мне совсем другой. Я впервые ощутила себя так, как будто мы с ней были по-настоящему близки, и рассказала ей обо всем, что со мной произошло с момента расставания. И мама вновь обещала, что скоро мы будем жить вместе, как раньше. Только надо чуть-чуть подождать.
С того разговора прошло несколько недель. В один день ко мне подошла Алла Алексеевна, чтобы сообщить важную новость.
- Варя, - сказала она, - в ближайшее время наш центр отправится в лагерь на зимние каникулы. В Казань. Ты едешь тоже.
- Я не поеду в лагерь. Меня мама заберет. Она обещала, - твердо ответила я.
- К сожалению, тебе придется поехать со всеми, - настаивала воспитательница.
- Но я не хочу, - возразила я, эмоционально взмахнув руками.
- Здесь нет слова «не хочу». Сказано ехать – едут все.
С этими словами она вышла из комнаты, а у меня в голове водоворотом крутились мысли о доме, о маме, о красном козырьке на платформе и о том, что надо чуть-чуть подождать. Или не надо?
Аллу Алексеевну я нашла в гостиной субботним днем. Она отвлеклась от мытья окон, бросив на меня недоверчивый взгляд.
- Алла Алексеевна, - начала я, - дайте денег.
Воспитательница нахмурилась.
- Зачем тебе?
- Нужно, - замялась я, - на новогодний подарок коплю для ребят.
- Ааа, - протянула она, продолжив драить окно. – Разве твои родители не ходили на работу, чтобы получать деньги?
Я отрицательно покачала головой.
- Они разводили лошадей. Вернее, они их купили, а мы присматривали. А еще они оформляли пособия на детей-сирот. Той суммы хватало на всех.
- Но ведь нельзя всегда жить на пособиях. Хочешь денег – нужно трудиться. - Сказала Алла Алексеевна, - Наведи порядок в своей комнате, а потом помоги мне с уборкой в гостиной и прихожей, кухарке с приготовлением обеда. Я тебе немного заплачу за работу. Только другим ни слова!
Так я стала зарабатывать карманные деньги и копить их для важного дела, о котором пока на самом деле никто не подозревал. Но скрывать от всех свой секрет я не могла, и вскоре призналась Олесе.
- Я куплю билет на электричку и уеду к родителям.
- Я не понимаю, - сказала Олеся, - зачем тебе уезжать? Зачем тебе мама? У тебя же есть Нина и Алла Алексеевна…
- Но они никогда не станут мне мамой! Мама – это не просто воспитатель или волонтер. Да как тебе понять?! У тебя ведь никогда не было родителей.
На следующий день, прибежав из школы, я устроилась на излюбленном подоконнике и набрала заветный номер.
- Мама, - говорила я, - если я нужна тебе, скажи, ты будешь меня ждать?
- Конечно, - ответила мама, - двери нашего дома всегда для тебя открыты. Просто сейчас надо…
- Подождать? – перебила я. Я делаю это уже очень долго. Теперь ты жди меня. Сегодня вечером.
Добродушный голос мамы резко изменился.
- Варя! – воскликнула она. - Что ты задумала?
- Нет, не надо меня ни о чем спрашивать! Только обещай мне! Пожалуйста, скажи, что любишь меня. Это ведь так?
- Так.
Я еще долго продолжала сидеть у окна и смотреть на темнеющий небосвод. Синий – цвет неба. Цвет близкой свободы. И тревоги, которая осела у меня на душе. Что, если мама меня не примет? Вернет обратно в центр? Или меня объявят в розыск, и снова приедет спецслужба?
Но времени для раздумий больше не оставалось. Я накинула куртку, достала из-под одеяла плюшевого мишку, которого я скрывала от лишних глаз, и положила его в рюкзак.
- Ты куда? – Алла Алексеевна выглянула из воспитательской.
- Меня ждут друзья. Я не могу здесь сидеть, как в тюрьме. Я хочу гулять и общаться, как нормальные дети!
- Ладно, - сказала Алла Алексеевна, что было очень неожиданно услышать от нее, - ты можешь погулять, но только до восьми! К этому времени все должны быть в центре.
Я поблагодарила воспитательницу и выбежала на улицу. Меня окружали бетонные многоэтажки, снующие шумные машины, повсюду мелькали незнакомые лица. Детские. Взрослые. Разные. Я купила билет и села на ту же электричку, на которой мы ездили в парк с волонтером.
Вот та же станция. Та же дорожка. Я снова иду по ней и вижу свой дом. В окнах горит свет. Я потянула за ручку калитки. Закрыто. Раз за разом я пыталась сломить это досадное препятствие, разделявшее два мира – свой и чужой, но калитка не поддавалась. Я толкнула ее со всей силы и припала щекой к ледяному металлу. Я вытащила телефон из кармана и позвонила маме. Потом еще раз, снова и снова. Наконец, телефон разрядился, и я съежилась на переливающемся в свете огней снегу. Руки и лицо онемели, жутко хотелось спать. Я с трудом встала, подняла лежащую поблизости ветку и написала на снегу: «МАМА, Я БУДУ ТЕБЯ ЖДАТЬ». Всегда. Рядом я посадила плюшевого мишку. Косматый, смешной, он покорно смотрел на меня глазами из бусинок, пока его шерсть облепляли мелкие снежинки.
Я ушла. Поднялся ветер, и началась метель. Позади скрипнула калитка. Я обернулась. Нет, показалось. Вдали, на месте, где сидел мишка, виднелась лишь маленькая горочка снега. Небо начинало светлеть. Наступило холодное и такое долгожданное
Утро.
Основано на реальных событиях
Я сидела на полу, обхватив руками колени и вглядываясь в темноту, царившую вокруг. Ступеньки лестничного пролета, уходя вниз, круто поворачивали, так что я не могла видеть первый этаж, и поэтому полагалась только на слух. Неподвластным тишине спящего дома оставался лишь маятник старинных часов. Время от времени я поглядывала на циферблат, окутанный лунным светом. Рядом смиренно сидел плюшевый мишка, которого подарила мне мама, и с тех пор он постоянно со мной.
Я не боюсь темноты, но внезапный шорох заставил меня вздрогнуть и затаить дыхание. Я старалась уловить малейшие звуки, словно дикая кошка на охоте. Только в эту минуту охотились за мной. Будь предельно внимательной, Варя! Внизу послышались шаги, отражаемые эхом. Жалобно скрипнула ступенька.
- Шухер! Вставайте! - прошептала я.
Мои братья и сестры нелепо вскочили на ноги. В их широко распахнутых глазах читался ужас. Мы провинились. За это должны приседать всю ночь.
Шаги становились все ближе. В комнату вошла мама. Несколько минут она стояла молча и… просто смотрела на четырнадцать силуэтов, мелькающих то вверх, то вниз. Так и не сказав ни слова, она направилась в коридор, волоча за собой растянувшуюся на полу тень.
Я посмотрела в окно, откуда открывался вид на крошечное алое блюдечко, выглядывающее из-за горизонта. Краски вокруг румянились, а выше сохраняли смягчившийся синий оттенок. Синий – цвет неба, когда мгла, робея, исчезает и начинается утро.
Я опустилась на колени. Ночь кончилась. Наказание тоже.
***
В окно стучал дождь, а мне хотелось снега! Я сидела на широком подоконнике рядом с Олесей, моей одногруппницей и соседкой по комнате. Она меня внимательно слушала.
- Нас часто наказывали, но в этот раз двое из четырнадцати приемных детей не выдержали и сбежали. Потом приехала специальная служба и забрала нас, - рассказывала я Олесе. - Хотя родители сказали, что мы здесь ненадолго, я не знаю, смогу ли простить их, когда мы вернемся в семью.
- Ну, а пока у тебя будет новая семья, - сказала Олеся, - мы привыкли к тому, что она постоянно меняется. Кого-то забирают из группы, на их место приходят другие. Мы обязательно подружимся, пока ты будешь жить здесь, в…
- Детдоме?
Олеся вздохнула.
- Мы не любим говорить «детдом». Это «центр». Центр содействия семейному воспитанию «Возрождение» - кажется так, если официально.
Последние слова повисли во внезапно наступившем молчании.
- И долго ты здесь живешь? – спросила я.
- Всю жизнь. Почти с самого рождения, - пожала плечами Олеся. – Для меня этот дом - родной.
Несколько следующих дней были даны мне на то, чтобы «освоиться». Я проводила время с группой, которая состояла из семи девочек разных возрастов. Иногда я выходила за пределы нашей квартиры и бродила по коридорам, спускалась в холл, где в ряд выстроились стеклянные стеллажи с поделками, рисунками, бумажными цветами в вазах. Это огромное здание было совсем не уютным и почему-то напоминало школу. Нет, это все что угодно, но не дом!
Вскоре меня устроили в школу. Дни за партой – сплошная рутина. И вот в моей жизни появился волонтер!
«Это такой человек, - объясняла Алла Алексеевна, наша воспитательница, - который станет тебе старшим другом. Он будет приезжать раз в неделю, чтобы пообщаться с тобой. У каждого в центре есть свой волонтер».
Моим волонтером оказалась Нина. С ней было интересно проводить время. На одной из наших встреч мы решили поехать в загородный парк.
- Знаешь, я совсем не ориентируюсь в городе, - по дороге призналась я. – Разве что могу дойти до школы напротив и больше никуда, да и нельзя нам.
- Скоро ты всему научишься, - отвечала, улыбаясь, Нина.
Не думаю, что мне это пригодится. Скоро я буду жить с родителями в деревне.
Когда мы сели в электричку, завязался разговор о питомцах.
- Почему ты не заведешь лошадей? – спросила я.
- Где же они будут жить?
- Ты бы могла построить конюшню рядом с домом. Вот у нас были лошади. Мы с сестрами и братьями с самого детства ухаживали за ними. На самом деле все гораздо проще, чем кажется. А здесь все ищут непонятные проблемы.
- Понимаешь, все немного сложнее… - говорила Нина, но я уже почти не слушала. Что-то привлекло меня за окном.
Станция, платформа, навес на металлических ножках, козырек… Красный! Я едва не захлопала в ладоши от радости. Неподалеку виднелась дорожка. Она ведет прямо до нашего дома. Мы любили гулять вдоль нее.
Но вот поезд тронулся, и платформа, и навес, и красный козырек – все, что только что было так близко, осталось далеко позади, где-то в прошлом, где-то в забытьи.
***
Выпал первый снег. На очередной встрече с волонтером Нина решила сделать мне сюрприз. И каково было мое удивление, когда в подарочной коробке я обнаружила то, чем нам всегда запрещали пользоваться родители. Я не могла поверить, что держала в руках собственный мобильный телефон!
В тот же день я выпросила у Аллы Алексеевны мамин номер. Когда Олеся ушла на танцы и кроме меня в комнате никого не осталось, я судорожно нажала на звонок и вслушалась в гудки. В один момент они прекратились, и сердце забилось в бешеном ритме.
- Кто? – послышалось наконец.
- Мама, это я, Варя, - сказала я, пытаясь скрыть непроизвольную дрожь в голосе.
Мама показалась мне совсем другой. Я впервые ощутила себя так, как будто мы с ней были по-настоящему близки, и рассказала ей обо всем, что со мной произошло с момента расставания. И мама вновь обещала, что скоро мы будем жить вместе, как раньше. Только надо чуть-чуть подождать.
С того разговора прошло несколько недель. В один день ко мне подошла Алла Алексеевна, чтобы сообщить важную новость.
- Варя, - сказала она, - в ближайшее время наш центр отправится в лагерь на зимние каникулы. В Казань. Ты едешь тоже.
- Я не поеду в лагерь. Меня мама заберет. Она обещала, - твердо ответила я.
- К сожалению, тебе придется поехать со всеми, - настаивала воспитательница.
- Но я не хочу, - возразила я, эмоционально взмахнув руками.
- Здесь нет слова «не хочу». Сказано ехать – едут все.
С этими словами она вышла из комнаты, а у меня в голове водоворотом крутились мысли о доме, о маме, о красном козырьке на платформе и о том, что надо чуть-чуть подождать. Или не надо?
Аллу Алексеевну я нашла в гостиной субботним днем. Она отвлеклась от мытья окон, бросив на меня недоверчивый взгляд.
- Алла Алексеевна, - начала я, - дайте денег.
Воспитательница нахмурилась.
- Зачем тебе?
- Нужно, - замялась я, - на новогодний подарок коплю для ребят.
- Ааа, - протянула она, продолжив драить окно. – Разве твои родители не ходили на работу, чтобы получать деньги?
Я отрицательно покачала головой.
- Они разводили лошадей. Вернее, они их купили, а мы присматривали. А еще они оформляли пособия на детей-сирот. Той суммы хватало на всех.
- Но ведь нельзя всегда жить на пособиях. Хочешь денег – нужно трудиться. - Сказала Алла Алексеевна, - Наведи порядок в своей комнате, а потом помоги мне с уборкой в гостиной и прихожей, кухарке с приготовлением обеда. Я тебе немного заплачу за работу. Только другим ни слова!
Так я стала зарабатывать карманные деньги и копить их для важного дела, о котором пока на самом деле никто не подозревал. Но скрывать от всех свой секрет я не могла, и вскоре призналась Олесе.
- Я куплю билет на электричку и уеду к родителям.
- Я не понимаю, - сказала Олеся, - зачем тебе уезжать? Зачем тебе мама? У тебя же есть Нина и Алла Алексеевна…
- Но они никогда не станут мне мамой! Мама – это не просто воспитатель или волонтер. Да как тебе понять?! У тебя ведь никогда не было родителей.
На следующий день, прибежав из школы, я устроилась на излюбленном подоконнике и набрала заветный номер.
- Мама, - говорила я, - если я нужна тебе, скажи, ты будешь меня ждать?
- Конечно, - ответила мама, - двери нашего дома всегда для тебя открыты. Просто сейчас надо…
- Подождать? – перебила я. Я делаю это уже очень долго. Теперь ты жди меня. Сегодня вечером.
Добродушный голос мамы резко изменился.
- Варя! – воскликнула она. - Что ты задумала?
- Нет, не надо меня ни о чем спрашивать! Только обещай мне! Пожалуйста, скажи, что любишь меня. Это ведь так?
- Так.
Я еще долго продолжала сидеть у окна и смотреть на темнеющий небосвод. Синий – цвет неба. Цвет близкой свободы. И тревоги, которая осела у меня на душе. Что, если мама меня не примет? Вернет обратно в центр? Или меня объявят в розыск, и снова приедет спецслужба?
Но времени для раздумий больше не оставалось. Я накинула куртку, достала из-под одеяла плюшевого мишку, которого я скрывала от лишних глаз, и положила его в рюкзак.
- Ты куда? – Алла Алексеевна выглянула из воспитательской.
- Меня ждут друзья. Я не могу здесь сидеть, как в тюрьме. Я хочу гулять и общаться, как нормальные дети!
- Ладно, - сказала Алла Алексеевна, что было очень неожиданно услышать от нее, - ты можешь погулять, но только до восьми! К этому времени все должны быть в центре.
Я поблагодарила воспитательницу и выбежала на улицу. Меня окружали бетонные многоэтажки, снующие шумные машины, повсюду мелькали незнакомые лица. Детские. Взрослые. Разные. Я купила билет и села на ту же электричку, на которой мы ездили в парк с волонтером.
Вот та же станция. Та же дорожка. Я снова иду по ней и вижу свой дом. В окнах горит свет. Я потянула за ручку калитки. Закрыто. Раз за разом я пыталась сломить это досадное препятствие, разделявшее два мира – свой и чужой, но калитка не поддавалась. Я толкнула ее со всей силы и припала щекой к ледяному металлу. Я вытащила телефон из кармана и позвонила маме. Потом еще раз, снова и снова. Наконец, телефон разрядился, и я съежилась на переливающемся в свете огней снегу. Руки и лицо онемели, жутко хотелось спать. Я с трудом встала, подняла лежащую поблизости ветку и написала на снегу: «МАМА, Я БУДУ ТЕБЯ ЖДАТЬ». Всегда. Рядом я посадила плюшевого мишку. Косматый, смешной, он покорно смотрел на меня глазами из бусинок, пока его шерсть облепляли мелкие снежинки.
Я ушла. Поднялся ветер, и началась метель. Позади скрипнула калитка. Я обернулась. Нет, показалось. Вдали, на месте, где сидел мишка, виднелась лишь маленькая горочка снега. Небо начинало светлеть. Наступило холодное и такое долгожданное
Утро.
Основано на реальных событиях
Потапова Дарья. Подкроватный монстр
Маша открыла глаза. В комнате стояла кромешная тьма: ночь была безлунной, всё небо затянуло облаками. От тишины звенело в ушах. И вдруг – шорох! Маша покрепче обняла любимую куклу. Всё снова затихло. Но ненадолго: раздался скрежет. А за ним ещё, и ещё. Маша задрожала. Сомнений не было: звук шёл из-под кровати.
Маша затаила дыхание в надежде, что монстру надоест, и он уйдёт. Иногда это срабатывало. Но не сегодня. Скрежет становился всё громче, всё противнее. Когда к нему прибавилось тяжёлое хрипящее дыхание, от которого воздух в комнате начал покрываться ледяной корочкой, Маша не выдержала и, соскочив с кровати, побежала к спальне родителей с криками: «Мама, папа, он снова пришёл!» Монстр осторожно выглянул из-под кровати и широко улыбнулся.
На следующий день Маша медленно, но решительно подошла к кровати и, наклонившись, крикнула:
– Я больше не буду тебя бояться, я уже большая!
Монстр только тихо посмеялся над детской уверенностью, и ночью, как ни в чём ни бывало, стал пугать девочку. Сначала Маша, как обычно, молчала, а потом уверенно прошептала:
– Я тебя не боюсь, уходи!
Монстр слегка оторопел от такой смелости, но тут же пришёл в себя и предпринял новую тактику. Тёмная, как ночь, рука с тощими скрюченными пальцами и когтями-иглами змеёй скользнула на кровать и стала подбираться к Маше. Нужно было сбить с девчонки спесь, не дать её смелости укорениться.
Приглушённый крик боли потонул в тишине. Монстр, жалобно подвывая, стал волочить ушибленную руку обратно под кровать.
– Не пугай меня больше, а то опять получишь, – Маша погрозила кулаком, вглядываясь в темноту.
Монстр почувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы, хотя боль уже утихла – кулачок Маши был слишком мал, чтобы нанести серьёзный урон. Её смелость ранила намного сильнее. Монстр понял – так же весело, как раньше, ему уже не будет.
С каждым днём Маша становилась заметно старше: понемногу начала читать энциклопедии, которые вскоре полностью вытеснили книги со сказками, одну за другой убирала надоевшие игрушки в ящик, так что на виду в конечном счёте осталась только её верная кукла-хранительница, и заполнила освободившееся место коробками с бисером, разноцветными ручками, альбомами для рисования, упаковками цветной бумаги, которые пустели невообразимо быстро, и ещё великим множеством других материалов для поделок.
Монстр чувствовал себя неуютно и чуждо в поскучневшей комнате. Он то и дело уходил мыслями в прошлое, к беспорядку из кубиков и плюшевых зверей, к выдуманным играм Маши, за которыми ему удавалось незаметно наблюдать в течение дня. В голову невольно лезли тоскливые воспоминания об испуганном визге девочки, её напуганном шёпоте, бегстве ко взрослым в поисках защиты. Конечно, монстру всё ещё удавалось иногда пугать Машу: во время гроз и после того, как она втайне от родителей смотрела ужастики. Но это был позорный успех, после которого ощущалось не удовлетворение, а стыд. От этих мыслей его отрывал детский плач, появившийся однажды в квартире и звучавший в ней теперь каждый божий день, иногда без перерыва. В тот день, когда монстр услышал крики впервые, Маша почти не появлялась в комнате. Целых две недели она проводила всё свободное время снаружи. А потом вдруг наоборот стала почти безвылазно сидеть в комнате. Её непривычно хмурый вид озадачил монстра, и он время от времени скрёбся, хрипел и шуршал, чтобы расшевелить девочку.
В один день Маша вдруг села на пол лицом к кровати и с горечью сказала:
– Я знаю, ты всё ещё там. Выходи и забери меня.
Монстр оцепенел: ни один из детей, к которым он был приставлен раньше, не говорил ничего подобного, тем более таким странным, чересчур взрослым тоном. Маша выглядела подавлено и печально. Было очень непривычно смотреть на неё такую, когда раньше не проходило и дня без её по-детски счастливой, наивной улыбки. Монстру захотелось обнять несчастную малышку, но он не был способен полностью выбраться из-под кровати. Подумав немного, он высунул свою длинную скрюченную руку и осторожно погладил Машу по головке. Девочка вздрогнула, но не отшатнулась. Обрадованный, монстр ласково взял её руку в свою, аккуратно сжав. Маша обхватила его ладонь своей и прижала к себе.
Они не знали, как долго просидели в такой позе, неподвижно и молча. Наконец Маша отпустила руку монстра. Однако он не спешил убирать её. Указав на девочку, он жестом попросил её рассказать, что случилось. Вздохнув, Маша пожаловалась:
– После того, как родился мой брат, родители совсем перестали обращать на меня внимание. Кажется, я им больше не нужна…
Монстр покачал пальцем, возражая.
– С чего ты взял? Ты же ничего не видел! Они теперь возятся только с ним, а про меня забыли, – Маша вздохнула.
Монстр задумался. Он знал, что сказать, но не знал, как, и это разрывало его изнутри. От бессилия он зарычал, отчего девочка сжалась. Взяв себя в руки, монстр огляделся. Заметив часы на стене, он указал на них. Маша удивилась и попыталась угадать:
– Вечер?
Монстр покачал пальцем.
– Час? Часы? Стрелки?
Монстр замахал всей кистью, пытаясь заставить её думать в другом направлении.
– …Время? – наконец догадалась Маша.
Монстр поднял большой палец вверх.
– Я не понимаю...
Монстр указал на дверь.
– Ты про родителей? – снова большой палец вверх. – Им нужно время?
Монстр радостно щёлкнул пальцами.
– То есть, ты думаешь, что они всё ещё меня любят? Но откуда ты знаешь?
Монстр указал на кровать, затем выпрямил пять пальцев, а после показал «ноль» всей кистью.
– Тебе пятьдесят лет? – удивилась девочка.
Вообще-то, монстру было пятьсот, но он решил лишний раз не путать девочку количеством нулей, так что просто выставил палец вверх.
– Тогда ты и правда должен много знать, – в голосе Маши было слышно почтение. – Ладно, наверное, им и правда сейчас непросто: Павлик кричит днём и ночью… Подожду ещё немного, когда он чуть-чуть подрастёт и поймёт, что вниманием родителей нужно делиться.
Монстр снова погладил Машу по головке. Девочка улыбнулась и обняла его руку.
– Спасибо тебе.
Монстр надеялся дождаться развязки истории и, если нужно, ещё немного поддержать Машу. Но начальство решило иначе. На следующий день монстру поступило сообщение о переводе к другому ребёнку, помладше. Как бы ни хотелось остаться, ослушаться было нельзя.
Жизнь монстра снова заиграла яркими красками: детский визг, воображаемые игры и даже кошка, которую можно было пугать в любое время, если вдруг станет скучно. Но мысли о Маше никак не отступали, мешая наслаждаться новой работой. Из-за этого несколько лет с новым мальчиком, то ли Витей, то ли Митей, пролетели быстро. Только получив очередное сообщение о переводе, монстр осознал, как много времени прошло. Он твёрдо решил, что пора перестать вспоминать о Маше.
В первую же ночь монстр решил пугать, не сдерживаясь, чтобы поскорее отвлечься. Мальчик с криками выбежал из комнаты и скоро вернулся с провожатой.
– Не бойся, Павлик, он тебя не тронет.
Монстр замер: голос показался ему знакомым. Он хорошо видел в темноте, поэтому, приглядевшись, узнал свою Машу.
– Иди пока, выпей водички и успокойся. А я прогоню монстра.
Павлик послушно вышел, а Маша присела на корточки. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла подобрать слов. Тогда монстр, учащённо дыша, вытянул руку и погладил Машу по голове.
– Ты был прав, – прошептала она, обнимая его руку, – Всё у нас наладилось.
Маша открыла глаза. В комнате стояла кромешная тьма: ночь была безлунной, всё небо затянуло облаками. От тишины звенело в ушах. И вдруг – шорох! Маша покрепче обняла любимую куклу. Всё снова затихло. Но ненадолго: раздался скрежет. А за ним ещё, и ещё. Маша задрожала. Сомнений не было: звук шёл из-под кровати.
Маша затаила дыхание в надежде, что монстру надоест, и он уйдёт. Иногда это срабатывало. Но не сегодня. Скрежет становился всё громче, всё противнее. Когда к нему прибавилось тяжёлое хрипящее дыхание, от которого воздух в комнате начал покрываться ледяной корочкой, Маша не выдержала и, соскочив с кровати, побежала к спальне родителей с криками: «Мама, папа, он снова пришёл!» Монстр осторожно выглянул из-под кровати и широко улыбнулся.
На следующий день Маша медленно, но решительно подошла к кровати и, наклонившись, крикнула:
– Я больше не буду тебя бояться, я уже большая!
Монстр только тихо посмеялся над детской уверенностью, и ночью, как ни в чём ни бывало, стал пугать девочку. Сначала Маша, как обычно, молчала, а потом уверенно прошептала:
– Я тебя не боюсь, уходи!
Монстр слегка оторопел от такой смелости, но тут же пришёл в себя и предпринял новую тактику. Тёмная, как ночь, рука с тощими скрюченными пальцами и когтями-иглами змеёй скользнула на кровать и стала подбираться к Маше. Нужно было сбить с девчонки спесь, не дать её смелости укорениться.
Приглушённый крик боли потонул в тишине. Монстр, жалобно подвывая, стал волочить ушибленную руку обратно под кровать.
– Не пугай меня больше, а то опять получишь, – Маша погрозила кулаком, вглядываясь в темноту.
Монстр почувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы, хотя боль уже утихла – кулачок Маши был слишком мал, чтобы нанести серьёзный урон. Её смелость ранила намного сильнее. Монстр понял – так же весело, как раньше, ему уже не будет.
С каждым днём Маша становилась заметно старше: понемногу начала читать энциклопедии, которые вскоре полностью вытеснили книги со сказками, одну за другой убирала надоевшие игрушки в ящик, так что на виду в конечном счёте осталась только её верная кукла-хранительница, и заполнила освободившееся место коробками с бисером, разноцветными ручками, альбомами для рисования, упаковками цветной бумаги, которые пустели невообразимо быстро, и ещё великим множеством других материалов для поделок.
Монстр чувствовал себя неуютно и чуждо в поскучневшей комнате. Он то и дело уходил мыслями в прошлое, к беспорядку из кубиков и плюшевых зверей, к выдуманным играм Маши, за которыми ему удавалось незаметно наблюдать в течение дня. В голову невольно лезли тоскливые воспоминания об испуганном визге девочки, её напуганном шёпоте, бегстве ко взрослым в поисках защиты. Конечно, монстру всё ещё удавалось иногда пугать Машу: во время гроз и после того, как она втайне от родителей смотрела ужастики. Но это был позорный успех, после которого ощущалось не удовлетворение, а стыд. От этих мыслей его отрывал детский плач, появившийся однажды в квартире и звучавший в ней теперь каждый божий день, иногда без перерыва. В тот день, когда монстр услышал крики впервые, Маша почти не появлялась в комнате. Целых две недели она проводила всё свободное время снаружи. А потом вдруг наоборот стала почти безвылазно сидеть в комнате. Её непривычно хмурый вид озадачил монстра, и он время от времени скрёбся, хрипел и шуршал, чтобы расшевелить девочку.
В один день Маша вдруг села на пол лицом к кровати и с горечью сказала:
– Я знаю, ты всё ещё там. Выходи и забери меня.
Монстр оцепенел: ни один из детей, к которым он был приставлен раньше, не говорил ничего подобного, тем более таким странным, чересчур взрослым тоном. Маша выглядела подавлено и печально. Было очень непривычно смотреть на неё такую, когда раньше не проходило и дня без её по-детски счастливой, наивной улыбки. Монстру захотелось обнять несчастную малышку, но он не был способен полностью выбраться из-под кровати. Подумав немного, он высунул свою длинную скрюченную руку и осторожно погладил Машу по головке. Девочка вздрогнула, но не отшатнулась. Обрадованный, монстр ласково взял её руку в свою, аккуратно сжав. Маша обхватила его ладонь своей и прижала к себе.
Они не знали, как долго просидели в такой позе, неподвижно и молча. Наконец Маша отпустила руку монстра. Однако он не спешил убирать её. Указав на девочку, он жестом попросил её рассказать, что случилось. Вздохнув, Маша пожаловалась:
– После того, как родился мой брат, родители совсем перестали обращать на меня внимание. Кажется, я им больше не нужна…
Монстр покачал пальцем, возражая.
– С чего ты взял? Ты же ничего не видел! Они теперь возятся только с ним, а про меня забыли, – Маша вздохнула.
Монстр задумался. Он знал, что сказать, но не знал, как, и это разрывало его изнутри. От бессилия он зарычал, отчего девочка сжалась. Взяв себя в руки, монстр огляделся. Заметив часы на стене, он указал на них. Маша удивилась и попыталась угадать:
– Вечер?
Монстр покачал пальцем.
– Час? Часы? Стрелки?
Монстр замахал всей кистью, пытаясь заставить её думать в другом направлении.
– …Время? – наконец догадалась Маша.
Монстр поднял большой палец вверх.
– Я не понимаю...
Монстр указал на дверь.
– Ты про родителей? – снова большой палец вверх. – Им нужно время?
Монстр радостно щёлкнул пальцами.
– То есть, ты думаешь, что они всё ещё меня любят? Но откуда ты знаешь?
Монстр указал на кровать, затем выпрямил пять пальцев, а после показал «ноль» всей кистью.
– Тебе пятьдесят лет? – удивилась девочка.
Вообще-то, монстру было пятьсот, но он решил лишний раз не путать девочку количеством нулей, так что просто выставил палец вверх.
– Тогда ты и правда должен много знать, – в голосе Маши было слышно почтение. – Ладно, наверное, им и правда сейчас непросто: Павлик кричит днём и ночью… Подожду ещё немного, когда он чуть-чуть подрастёт и поймёт, что вниманием родителей нужно делиться.
Монстр снова погладил Машу по головке. Девочка улыбнулась и обняла его руку.
– Спасибо тебе.
Монстр надеялся дождаться развязки истории и, если нужно, ещё немного поддержать Машу. Но начальство решило иначе. На следующий день монстру поступило сообщение о переводе к другому ребёнку, помладше. Как бы ни хотелось остаться, ослушаться было нельзя.
Жизнь монстра снова заиграла яркими красками: детский визг, воображаемые игры и даже кошка, которую можно было пугать в любое время, если вдруг станет скучно. Но мысли о Маше никак не отступали, мешая наслаждаться новой работой. Из-за этого несколько лет с новым мальчиком, то ли Витей, то ли Митей, пролетели быстро. Только получив очередное сообщение о переводе, монстр осознал, как много времени прошло. Он твёрдо решил, что пора перестать вспоминать о Маше.
В первую же ночь монстр решил пугать, не сдерживаясь, чтобы поскорее отвлечься. Мальчик с криками выбежал из комнаты и скоро вернулся с провожатой.
– Не бойся, Павлик, он тебя не тронет.
Монстр замер: голос показался ему знакомым. Он хорошо видел в темноте, поэтому, приглядевшись, узнал свою Машу.
– Иди пока, выпей водички и успокойся. А я прогоню монстра.
Павлик послушно вышел, а Маша присела на корточки. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла подобрать слов. Тогда монстр, учащённо дыша, вытянул руку и погладил Машу по голове.
– Ты был прав, – прошептала она, обнимая его руку, – Всё у нас наладилось.
Дунаев Павел. Чудес не бывает?
4.01. 2043г.
Меня зовут Иван Скептицизмов, я являюсь одним из создателей "ITC" и с этого дня я начинаю вести дневник.
07.01. 2043г.
Для начала я хочу немного рассказать о нашей компании. Мы решили не мучиться с названием, но «Innovative Technology Company» вполне оправданное название - мы производим уникальные гаджеты. Компания наша была основана двадцать лет назад, после нашумевшего представления миру голограммера. Голлограмер – наша гордость! Это устройство, главная часть которого - голограммический воспроизводитель. С его помощью можно материализоваться в любом месте, стоит только совершить звонок - и твой собеседник увидит тебя, как живого, рядом с собою! Ну, про то, что с его помощью можно выходить в интернет, сканировать местность, моментально измерять температуру и влажность воздуха, использовать все необходимые приложения, я вообще молчу. По сравнению с голограммером, смартфоны – прошлый век… Это уникальное устройство придумал мой хороший друг – Валентин Скрываев. Воплощение идеи в жизнь и её представление научному миру стало триумфальным! Кстати, Валентин и есть мой компаньон – второй из создателей нашей организации. Хоть он и придумал голограммер, но над его созданием мы трудились оба. Я горжусь тем, что у нас в итоге вышло!
10.01.2043г.
До дня основания компании или, как мы его называем, дня рождения, осталось несколько дней. По этому поводу мы каждый год устраиваем большой праздник. Вчера мне звонил Валентин, мы обсуждали детали мероприятия. Его голос… Он был какой-то слишком возбуждённый, даже через экран голограммера было понятно, что Валька просто переполнен энтузиазмом. Это странно… Обычно он не парится по поводу праздника – мы собираемся тесным коллективом, обожаем всякие экспромты. И, честно говоря, такого энтузиазма с его стороны я уже давненько не видел. Во всяком случае, это его дело, а если это касается компании, то мы узнаем об этом в день рождения. Я надеюсь…
15.01.2043г.
День рождения компании настал. Я приехал в офис, все уже собрались за столом. Мы редко собираемся всей компанией, режим работы у каждого свой, поэтому в такие моменты все очень рады друг друга видеть. В разгар застолья Валентин поднял бокал и сказал тост. Он у нас большой мастер говорить речи за столом! Он пожелал нашей компании дальнейшего процветания и сказал, что нашу компанию ждёт величайшее, волшебное открытие. Очень надеюсь, что под словом "волшебное" он подразумевает какой-то научный прорыв. Не выношу ничего, что связано с волшебством и магией, по-моему, это не имеет никакого смысла. Всё, что существует в нашем мире, есть результат физических законов и химических реакций. Никаких чудес!
Я заметил, как Валька бросил косой взгляд в мою сторону, когда произносил это словечко. А вообще, было бы интересно посмотреть, как он в нашем давно изученном мире будет искать что-то "волшебное". Надо его предупредить: если это будет что-то из серии "шапки-невидимки", я просто забракую такую идею. Нечего время, мозги и деньги на всякую ерунду тратить!
17.02.2043
Прошёл месяц, но Валентин так ничего и не рассказал и не представил идею, по крайней мере, мне. Недавно я не выдержал, зашёл к нему и спросил, когда он расскажет про своё это открытие. А он мне на это: "У нас есть некоторые проблемы, но скоро мы их решим, и я всё расскажу". Я пытался выяснить у других сотрудников, но все утверждают, что им ничего неизвестно.
А ещё сегодня на первом этаже я слышал какой-то гул, доносившийся из подвала. Скорее всего, что-то случилось с трубами.
26.02.2043
Гул в подвале всё не прекращается. Странно, что никто не подал заявку на технический осмотр… Как будто никто ничего не замечает. Ну что ж, если никто этого до сих пор не сделал, то сделаю я, как только разберусь с более важными делами: недавно я обнаружил серьёзную недостачу деталей на нашем заводе. Куда они делись, никто не знает. Но нам из-за этого даже пришлось немного сократить производство. Управляющий тоже ничего не знает. Хороший работничек, нечего сказать! Если так будет продолжаться, придётся подумать о его увольнении.
04.03.2043
Странные звуки участились и стали громче. Я оставил заявку, но на неё никак не отреагировали. Я не понимаю, почему наши сотрудники стали так халатно относиться к свои обязанностям?! Такого никогда раньше не было. Хоть сам иди и чини эти трубы! Хорошо, хоть детали с завода больше не пропадают. Вроде...
10.03.2043
У нас явно что-то происходит, и я пока не понимаю что! Гудение из подвала стало не таким частым, но сделалось громче. Кстати, я заметил, что оно стало появляться ближе к ночи. Вообще, я часто остаюсь в офисе допоздна. Всё-таки я один из создателей компании, большая шишка – много дел.
Вчера я шёл по первому этажу и вдруг почувствовал что-то странное: меня притянуло, как магнитом, к полу! Это длилось всего несколько секунд, но… Я не знаю, что это было, и вряд ли смогу это объяснить.
16.03.2043
Нервишки сдают! Всё! Мне это надоело! Звуки опять участились, а непонятное магнитное явление усилилось. Сначала я относился ко всему скептически, теперь мне кажется, что гул и магнитное поле как-то связаны. Сегодня я упрекнул Валентина в том, что и он, и все сотрудники игнорируют эти странные явления. А он мне: "Слушай, возьми выходной, кажется, ты перетрудился!" Я был взбешён, орал, что он такой же безалаберный, как и все, что наша компания рухнет, если это будет продолжаться. Но я так больше не могу! Завтра же спущусь в подвал сам! Ещё и ключ от подвала вахтёрша не даёт! Полный бардак! Ну ничего, я знаю ещё один способ попасть в подвальное помещение, им завтра и воспользуюсь!
17.03.2043
Невероятно! У меня просто нет слов! Сегодня, как и собирался, я воспользовался запасным входом и попал в подвал. С помощью голограммера просканировал территорию подвала. Голограммер зафиксировал в одном из помещений что-то огромное. Я отправился к этому загадочному объекту. Вошёл в комнату, включил свет и обнаружил в комнате гигантский агрегат. Он был чёрно-фиолетового цвета, рядом был закреплён пульт управления, на обшивке красовалась табличка с надписью: "ТТ01". В голове сразу же
промелькнула мысль: "Вот куда делись все детали…" Понять бы, что это". Вдруг у меня за спиной возник Валентин.
- Что это? – спросил я, указывая глазами на странное сооружение.
- Это.. это.. Машина времени, - выпалил Валентин, - подожди, я всё объясню! Что было дальше, даже вспоминать не хочу… Я ему сказал всё, что думаю! Он, видите ли, специально мне ничего не сказал, потому что был уверен: я разнесу эту идею в пух и прах! Правильно был уверен! Он, видите ли, сказал бы потом. Потом… Я что здесь, пустое место?! Я взбешён! Буду думать насчёт ухода из компании!
21.03.2043
Я всё решил: я ухожу из компании. Сегодня я подписал последние бумаги и забрал вещи. Валентин уговаривал меня подумать, не горячиться, но я остался непреклонен. Перед уходом он отдал мне флэшку. "Возьми, здесь всё, что было с нами за годы дружбы и работы", - сказал он мне. Вряд ли я когда-нибудь решу вставить её в компьютер и посмотреть, что на ней.
30.09.2043
Не думал, что когда-нибудь вернусь к дневнику. Но за эти месяцы случилось столько, что я просто должен с кем-то поделиться.
После ухода из компании я очень хотел, чтоб моя жизнь потихоньку наладилась, устроился работать программистом, и мне вполне хватало заработанных денег. И вдруг, 25 августа, Валентин представил миру свою машину времени. В наш, вернее, теперь уже в его офис приехали учёные из разных уголков света, репортёры. Торжественный момент настал, весь мир наблюдал за испытанием невиданного аппарата. Валентин активировал устройство, и в этот момент раздался страшный взрыв…
Казалось, он предусмотрел все меры безопасности, но это только казалось…. Изумлённая публика увидела, как со страшным грохотом обрушился целый пролёт здания, погребая под собой цеха нашего завода, чудо-машину и её изобретателя…
15.10.2043
Я провёл много бессонных ночей. Я не мог поверить, что Вальки больше нет… Всё думал о взрыве, о дне, когда я обнаружил эту злосчастную машину и о том, каким же
я гадом был… Вместо того, чтобы бросить его, надо было оставить весь свой скептицизм и помочь Валентину. Он же был моим другом, а я не захотел даже выслушать его.
Вот как бывает: ты совершаешь поступки, а потом жалеешь о них, но уже поздно. Если бы всё можно было исправить…
21.10.2043
Я всё-таки решился посмотреть, что там на флэшке. Целый день я листал наши фотографии. Вот мы ещё совсем юные студенты. Вот Валентин чертит свои первые схемы голограммера и хитро улыбается в камеру. Вот мы успешные бизнесмены и владельцы общей компании… И вдруг, в самой последней папке я обнаружил чертежи той самой машины.
20.11.2043
Прошёл почти месяц. Конечно, работать одному непросто, но я уже изучил все чертежи Валентина и даже начал закладывать первые опоры в основание будущей машины. Я обязательно отправлюсь в прошлое, я увижу Валентина и изменю будущее!
Теперь я верю, я очень хочу верить, что чудо возможно…
4.01. 2043г.
Меня зовут Иван Скептицизмов, я являюсь одним из создателей "ITC" и с этого дня я начинаю вести дневник.
07.01. 2043г.
Для начала я хочу немного рассказать о нашей компании. Мы решили не мучиться с названием, но «Innovative Technology Company» вполне оправданное название - мы производим уникальные гаджеты. Компания наша была основана двадцать лет назад, после нашумевшего представления миру голограммера. Голлограмер – наша гордость! Это устройство, главная часть которого - голограммический воспроизводитель. С его помощью можно материализоваться в любом месте, стоит только совершить звонок - и твой собеседник увидит тебя, как живого, рядом с собою! Ну, про то, что с его помощью можно выходить в интернет, сканировать местность, моментально измерять температуру и влажность воздуха, использовать все необходимые приложения, я вообще молчу. По сравнению с голограммером, смартфоны – прошлый век… Это уникальное устройство придумал мой хороший друг – Валентин Скрываев. Воплощение идеи в жизнь и её представление научному миру стало триумфальным! Кстати, Валентин и есть мой компаньон – второй из создателей нашей организации. Хоть он и придумал голограммер, но над его созданием мы трудились оба. Я горжусь тем, что у нас в итоге вышло!
10.01.2043г.
До дня основания компании или, как мы его называем, дня рождения, осталось несколько дней. По этому поводу мы каждый год устраиваем большой праздник. Вчера мне звонил Валентин, мы обсуждали детали мероприятия. Его голос… Он был какой-то слишком возбуждённый, даже через экран голограммера было понятно, что Валька просто переполнен энтузиазмом. Это странно… Обычно он не парится по поводу праздника – мы собираемся тесным коллективом, обожаем всякие экспромты. И, честно говоря, такого энтузиазма с его стороны я уже давненько не видел. Во всяком случае, это его дело, а если это касается компании, то мы узнаем об этом в день рождения. Я надеюсь…
15.01.2043г.
День рождения компании настал. Я приехал в офис, все уже собрались за столом. Мы редко собираемся всей компанией, режим работы у каждого свой, поэтому в такие моменты все очень рады друг друга видеть. В разгар застолья Валентин поднял бокал и сказал тост. Он у нас большой мастер говорить речи за столом! Он пожелал нашей компании дальнейшего процветания и сказал, что нашу компанию ждёт величайшее, волшебное открытие. Очень надеюсь, что под словом "волшебное" он подразумевает какой-то научный прорыв. Не выношу ничего, что связано с волшебством и магией, по-моему, это не имеет никакого смысла. Всё, что существует в нашем мире, есть результат физических законов и химических реакций. Никаких чудес!
Я заметил, как Валька бросил косой взгляд в мою сторону, когда произносил это словечко. А вообще, было бы интересно посмотреть, как он в нашем давно изученном мире будет искать что-то "волшебное". Надо его предупредить: если это будет что-то из серии "шапки-невидимки", я просто забракую такую идею. Нечего время, мозги и деньги на всякую ерунду тратить!
17.02.2043
Прошёл месяц, но Валентин так ничего и не рассказал и не представил идею, по крайней мере, мне. Недавно я не выдержал, зашёл к нему и спросил, когда он расскажет про своё это открытие. А он мне на это: "У нас есть некоторые проблемы, но скоро мы их решим, и я всё расскажу". Я пытался выяснить у других сотрудников, но все утверждают, что им ничего неизвестно.
А ещё сегодня на первом этаже я слышал какой-то гул, доносившийся из подвала. Скорее всего, что-то случилось с трубами.
26.02.2043
Гул в подвале всё не прекращается. Странно, что никто не подал заявку на технический осмотр… Как будто никто ничего не замечает. Ну что ж, если никто этого до сих пор не сделал, то сделаю я, как только разберусь с более важными делами: недавно я обнаружил серьёзную недостачу деталей на нашем заводе. Куда они делись, никто не знает. Но нам из-за этого даже пришлось немного сократить производство. Управляющий тоже ничего не знает. Хороший работничек, нечего сказать! Если так будет продолжаться, придётся подумать о его увольнении.
04.03.2043
Странные звуки участились и стали громче. Я оставил заявку, но на неё никак не отреагировали. Я не понимаю, почему наши сотрудники стали так халатно относиться к свои обязанностям?! Такого никогда раньше не было. Хоть сам иди и чини эти трубы! Хорошо, хоть детали с завода больше не пропадают. Вроде...
10.03.2043
У нас явно что-то происходит, и я пока не понимаю что! Гудение из подвала стало не таким частым, но сделалось громче. Кстати, я заметил, что оно стало появляться ближе к ночи. Вообще, я часто остаюсь в офисе допоздна. Всё-таки я один из создателей компании, большая шишка – много дел.
Вчера я шёл по первому этажу и вдруг почувствовал что-то странное: меня притянуло, как магнитом, к полу! Это длилось всего несколько секунд, но… Я не знаю, что это было, и вряд ли смогу это объяснить.
16.03.2043
Нервишки сдают! Всё! Мне это надоело! Звуки опять участились, а непонятное магнитное явление усилилось. Сначала я относился ко всему скептически, теперь мне кажется, что гул и магнитное поле как-то связаны. Сегодня я упрекнул Валентина в том, что и он, и все сотрудники игнорируют эти странные явления. А он мне: "Слушай, возьми выходной, кажется, ты перетрудился!" Я был взбешён, орал, что он такой же безалаберный, как и все, что наша компания рухнет, если это будет продолжаться. Но я так больше не могу! Завтра же спущусь в подвал сам! Ещё и ключ от подвала вахтёрша не даёт! Полный бардак! Ну ничего, я знаю ещё один способ попасть в подвальное помещение, им завтра и воспользуюсь!
17.03.2043
Невероятно! У меня просто нет слов! Сегодня, как и собирался, я воспользовался запасным входом и попал в подвал. С помощью голограммера просканировал территорию подвала. Голограммер зафиксировал в одном из помещений что-то огромное. Я отправился к этому загадочному объекту. Вошёл в комнату, включил свет и обнаружил в комнате гигантский агрегат. Он был чёрно-фиолетового цвета, рядом был закреплён пульт управления, на обшивке красовалась табличка с надписью: "ТТ01". В голове сразу же
промелькнула мысль: "Вот куда делись все детали…" Понять бы, что это". Вдруг у меня за спиной возник Валентин.
- Что это? – спросил я, указывая глазами на странное сооружение.
- Это.. это.. Машина времени, - выпалил Валентин, - подожди, я всё объясню! Что было дальше, даже вспоминать не хочу… Я ему сказал всё, что думаю! Он, видите ли, специально мне ничего не сказал, потому что был уверен: я разнесу эту идею в пух и прах! Правильно был уверен! Он, видите ли, сказал бы потом. Потом… Я что здесь, пустое место?! Я взбешён! Буду думать насчёт ухода из компании!
21.03.2043
Я всё решил: я ухожу из компании. Сегодня я подписал последние бумаги и забрал вещи. Валентин уговаривал меня подумать, не горячиться, но я остался непреклонен. Перед уходом он отдал мне флэшку. "Возьми, здесь всё, что было с нами за годы дружбы и работы", - сказал он мне. Вряд ли я когда-нибудь решу вставить её в компьютер и посмотреть, что на ней.
30.09.2043
Не думал, что когда-нибудь вернусь к дневнику. Но за эти месяцы случилось столько, что я просто должен с кем-то поделиться.
После ухода из компании я очень хотел, чтоб моя жизнь потихоньку наладилась, устроился работать программистом, и мне вполне хватало заработанных денег. И вдруг, 25 августа, Валентин представил миру свою машину времени. В наш, вернее, теперь уже в его офис приехали учёные из разных уголков света, репортёры. Торжественный момент настал, весь мир наблюдал за испытанием невиданного аппарата. Валентин активировал устройство, и в этот момент раздался страшный взрыв…
Казалось, он предусмотрел все меры безопасности, но это только казалось…. Изумлённая публика увидела, как со страшным грохотом обрушился целый пролёт здания, погребая под собой цеха нашего завода, чудо-машину и её изобретателя…
15.10.2043
Я провёл много бессонных ночей. Я не мог поверить, что Вальки больше нет… Всё думал о взрыве, о дне, когда я обнаружил эту злосчастную машину и о том, каким же
я гадом был… Вместо того, чтобы бросить его, надо было оставить весь свой скептицизм и помочь Валентину. Он же был моим другом, а я не захотел даже выслушать его.
Вот как бывает: ты совершаешь поступки, а потом жалеешь о них, но уже поздно. Если бы всё можно было исправить…
21.10.2043
Я всё-таки решился посмотреть, что там на флэшке. Целый день я листал наши фотографии. Вот мы ещё совсем юные студенты. Вот Валентин чертит свои первые схемы голограммера и хитро улыбается в камеру. Вот мы успешные бизнесмены и владельцы общей компании… И вдруг, в самой последней папке я обнаружил чертежи той самой машины.
20.11.2043
Прошёл почти месяц. Конечно, работать одному непросто, но я уже изучил все чертежи Валентина и даже начал закладывать первые опоры в основание будущей машины. Я обязательно отправлюсь в прошлое, я увижу Валентина и изменю будущее!
Теперь я верю, я очень хочу верить, что чудо возможно…
Озерова Валерия. Леша-Леша-Алексей
Асфальт под пушистыми белыми лапами был непростительно горяч, из-за чего Леша немного подпрыгивал при ходьбе, стараясь спрятаться от солнца в тенях зданий или шагающих по улице людей. Для середины недели было привычно шумно, целый спектр запахов и ароматов эмоций, переплетавшихся в воздухе, растекался по прохладному весеннему ветру. Леша пару раз повел усами, чихая из-за щекочущего нос пуха, и наконец шмыгнул в открывшуюся дверь уютного кафе, спрятанного на углу самой посещаемой улицы. Пусть город сейчас был полон людей, но это славное место оставалось островком спокойствия и вкусного молока, от которого утомленный своей прогулкой Алексей сейчас бы не отказался.
Звякнул колокольчик, дверь, закрываясь, хлопнула, оторвав небольшое помещение от огромной улицы. Шум несущихся машин, быстрых разговоров, торопливых шагов и умеренного шепота весны прекратился. Остался лишь жужжащий отзвук кофеварки. И аромат свежей выпечки. Леша от наслаждения прикрыл глаза и прижал к маленькой черной голове уши.
Он уже собирался пройти на свое место, горячо любимое из-за сбалансированного количества тени и солнца, а также из-за вида на цветущий парк, но замер, нервно водя пушистым хвостом по деревянному полу. Оказывается, он был здесь не единственным из постоянных посетителей – группка существ, сидевшая за столом у нужного подоконника, очень шумно ругалась, то и дело тыкая пальцами во что-то хрустящее – наверное, пергамент.
Леша горделиво приподнял голову и изящно зашагал к ним, перебирая высокими лапами с белыми «носочками». У стола также стояло двое бариста – ведьмак Дмитрий, который уже снял с себя фартук и позволил себе выглядеть более взъерошено, чем обычно, и человеческий мальчишка Алекс, завязывающий крепкий узел за своей спиной. Оба они одновременно обернулись на тихое мяуканье Леши.
- Мистер Заковырка! – восхитился Александр, тут же подрываясь со своего места, чтобы пойти к стойке.
- Янус, - фыркнул Дмитрий, присаживаясь на корточки.
Он протянул к Леше руку, и тот, смущенно насупившись, все же потерся о теплые пальцы, пахнущие травами. Кажется, он пришел в самый разгар общего спора, потому что крохотная Алиса, выглядевшая безумно устало и выпотрошено, что-то доказывала своей подруге Катерине, которая уже не первое столетие выглядела нездорово белой и измученной, а потому внимание Леши не привлекала. Для нее бледный тон кожи и покрасневшие глаза были частью жестокой реальности своего вампирьего существования, пока для обычной колдуньи Алисы нездоровый серый цвет и потухшие веснушки на щеках были сродни трагедии.
Леша одним прыжком забрался на свой любимый подоконник и растянулся во весь рост, тихо мурлыкнув себе под нос от наслаждения. Неделя выходила тяжелой, даже когти лень было прятать. И Леша бы с радостью сейчас уснул, отдался бы в объятия сладкой дневной дремы, позволил бы мыслям завернуть себя в свои нити и крепко связать до полной атрофии мышц, но то, что происходило прямо перед его глазами вызывало жгучее любопытство. А Леша не смог бы уснуть, если бы не удовлетворил его.
Очень скоро вернулся Александр с миской теплого молока, которое он поставил рядом с мордочкой Леши, не забыв провести шершавыми пальцами по затылку, ероша черную шелковую шерсть. Он выглядел бодрее и живее своей сестры и казался почти загорелым на ее фоне. Это значило, что в жизни девушки случилось что-то ну очень тяжелое. Леша прищурился, вытягивая голову над столом.
Потертый желтый пергамент был полон записей, исправлений и множества клякс. Синий кривой почерк исправлял зеленый и изящный, словно насмехаясь над всеми отчетами одним своим видом. Алиса тыкала пальцем в одну из таких поправок, и ее ярость выливалась наружу крохотными искорками магии по всему телу.
- Двадцать пять корректив! Двадцать пять!
- О, это еще ничего, - выдохнула Катерина своим глубоким европейским акцентом, взмахнув белыми ресницами, - он сказал переделать прошлогодний проект. Прошлогодний!
- Я уже не знаю, что мне делать. Месяц бьюсь с этим Советом, но все тщетно! Видите ли, я не понимаю людей. Тоже мне эксперты!
Алиса шумно ударила ложкой по дну кружки со сладким рафом, прежде чем сделать быстрый глоток. Даже не поморщилась от обжигающего кипятка. Леша придвинулся ближе, уже вчитываясь в надписи, а не просто их оглядывая. От того, что он увидел, его заполнил больной азарт. Улыбка сама растянулась на пушистых губах, но, благо, остальные в кафе этого не заметили.
- Сидят в своих поместьях, окруженные эльфами или кем там еще, а мы о людях не знаем. Да я даже с Алексом эти правки обговаривала!
Стоящий рядом Алекс от упоминания себя дернулся. Он закатил глаза, - похоже уже который раз выслушивал тираду сестры, - и с надеждой глянул на дверь кафе. Но колокольчик не звякнул.
- Тише, Алис, - Дмитрий мягко положил одну ладонь на тонкое плечо подруги, после чего принялся завязывать в хвост густые и мягкие волосы, на которые Катрина глянула с завистью, - давай попробуем еще раз. Они все равно однажды должны будут принять этот проект, министерство само объявило, что это важная часть…
- Они скорее заменят нас как исполнителей, - фыркнула Катерина, поправляя полы черной мантии.
- Я этого председателя даже в лицо не знаю, - как-то уж слишком убито, устало и беззвучно прошептала Алиса, закрывая лицо руками, - а моя карьера уже летит бабе Яге в ступу.
Воцарилось тяжелое молчание, похожие на огромную каменную плиту, которая вот-вот упадет на головы. И именно ожидание этого падения наполняло воздух едкой тревогой. Леша уже разозлился на себя, что пришел сюда, а не пошел сразу в парк. Хорошо, что теплое молоко поднимало настроение. Алекс глянул на Лешу, как только услышал звук звякнувшей миски, а потом толкнул Катерину в плечо, чтобы та перестала длинными накрашенными ногтями ковырять доски стола.
- Мистер Заковырка, а вы что думаете? – насмешливо спросил паренек.
Леша даже с любопытством наклонил голову. Он где-то прокололся? Но никто, похоже, в серьез слова Александра не воспринял. Только Алиса умоляюще кинула быстрый взгляд васильковых глаз в его сторону, после чего тут же отвернулась, роняя голову на сложенные руки.
Лапы сами понесли его спуститься на стол и сесть у самого пергамента. Хвост свисал вниз и слабо покачивался, как маятник часов, а солнце припекало спину, выглянув из-за пушистых облаков. Леша дернул сначала одним ухом, потом другим, и сам удивился всем этим правкам. Он провел лапой по ровным зеленым линиям, после чего когтем ткнул в один из пунктов. Звонкое мяуканье оборвало затянувшийся траур по чужой карьере, вынуждая всех повернуть головы.
Алиса посмотрела в место, куда упирался коготь Леши, и взялась за ручку. Видеть в руках у мага не перо было как-то жутко непривычно, почти на гране с комедией, но Леша сдержал рокочущий фыркающий звук, вместо этого чихнув.
- Янус, что это значит? – тихо спросил Дима, наклоняясь над плечом Алисы.
Леша почти ощутил под кожей то, как смущение обожгло все внутри девушки, но она стойко продолжала вчитываться в свои слова, а затем в слова секретарши председателя – Елены Купчинской. Алиса что-то складывала в голове, нервно кусая губы.
- Может кот имеет в виду, что эта правка лишняя? – неуверенно спросила Катерина, поднимая острый подбородок вверх, чтобы тоже заглянуть в пергамент, - и нам надо оставить пункт, но извернуть его иначе?
Все обернулись на Лешу. Он нервно вскинул хвост, морща розовый нос.
- Мимо, - хохотнул Алекс, - тогда, может, расширить пункт? Пояснее сделать.
Леша поднял уши и хвост рухнул обратно вниз. Алиса взяла пергамент поудобнее и начала перечислять все тонкости записанной ею идеи, глядя прямо на пушистую белую мордочку. На что-то Леша кивал, на что-то шипел, а иногда сам задумывался, не глядя уставившись себе под лапы. Так за двадцать минут они поправили три пункта. Катерина только успевала все записывать в новый, чистенький свиток, иногда вклинивая и свои мысли.
Леша пялился на некоторые правки непозволительно сознательно, принюхиваясь. Они были слишком глупыми, короткими и, честное слово, бессмысленными. Алекс, наверное, раз пять пошутил про профессионализм магических работников, пока Катерина не шикнула на него, обнажив ровные клыки. После этого человеческий мальчишка ушел за стойку, бубня под нос.
Через час они уже переписали половину всего проекта, и, если быть честным, Леша почти не подсказывал девушкам, уйдя на подоконник, чтобы попить молока. Лишь иногда его отрывали от полусонного состояния.
- Включить в программу финансовую грамотность ведь имеет смысл, да? – окликнула Катерина.
- Это лучше сделать отдельным проектом, слишком муторно, честное слово, - помотала головой Алиса.
И Леша кивнул в ее сторону, снова отворачиваясь к окну. Девушки теперь тише возобновили переговоры. Их шепот дополнял скрип стержня по листу, редкий шум улицы, когда в кафе заходили новые гости, звон кружек в мойке и приглушенное птичье пение за окном. Прошло, наверное, еще часа полтора, когда Леша услышал, что стулья за столиком стали двигать. Он быстро поднял голову, отгоняя сон, который тут же разлетелся и поблек, будто его вовсе не было.
Алиса надевала на себя ветровку, широко зевая. Катерина поправляла глубокий капюшон мантии, доставая солнцезащитные очки. Леша оглянулся – солнце клонилось за крыши домов, обжигая горизонт красными всполохами заката. Ему тоже пора было идти.
- И пусть только этот, - Алиса кинула все свитки в дорожную сумку с нарисованной на ней руной безграничья, - председатель, как его…
- Алексей Михайлович Котков, - добавила Катерина.
- И пусть только Алексей Михайлович не примет этот вариант, я клянусь, уволюсь к чертям!
Леша довольно хмыкнул и спрыгнул на пол, потягиваясь.
- Пр-римет, пр-римет, - сладко протянул Леша, вызывая у всех шок.
Не хватало только грохота упавших на пол челюстей, подумалось ему, прежде чем он направился к выходу.
- А с Леночкой я поговор-рю. Таких сотр-рудников мне упускать нельзя. Хор-рошего дня, Алиса. Жду завтр-ра лично на собр-рание.
Прежде чем дверь кафе закрылась, Леша услышал, как человеческий мальчишка за стойкой рухнул на пол. «Они всюду» - Леша улыбнулся этому шепоту, довольно виляя хвостом. Денек выдался ужасно трудным.
Асфальт под пушистыми белыми лапами был непростительно горяч, из-за чего Леша немного подпрыгивал при ходьбе, стараясь спрятаться от солнца в тенях зданий или шагающих по улице людей. Для середины недели было привычно шумно, целый спектр запахов и ароматов эмоций, переплетавшихся в воздухе, растекался по прохладному весеннему ветру. Леша пару раз повел усами, чихая из-за щекочущего нос пуха, и наконец шмыгнул в открывшуюся дверь уютного кафе, спрятанного на углу самой посещаемой улицы. Пусть город сейчас был полон людей, но это славное место оставалось островком спокойствия и вкусного молока, от которого утомленный своей прогулкой Алексей сейчас бы не отказался.
Звякнул колокольчик, дверь, закрываясь, хлопнула, оторвав небольшое помещение от огромной улицы. Шум несущихся машин, быстрых разговоров, торопливых шагов и умеренного шепота весны прекратился. Остался лишь жужжащий отзвук кофеварки. И аромат свежей выпечки. Леша от наслаждения прикрыл глаза и прижал к маленькой черной голове уши.
Он уже собирался пройти на свое место, горячо любимое из-за сбалансированного количества тени и солнца, а также из-за вида на цветущий парк, но замер, нервно водя пушистым хвостом по деревянному полу. Оказывается, он был здесь не единственным из постоянных посетителей – группка существ, сидевшая за столом у нужного подоконника, очень шумно ругалась, то и дело тыкая пальцами во что-то хрустящее – наверное, пергамент.
Леша горделиво приподнял голову и изящно зашагал к ним, перебирая высокими лапами с белыми «носочками». У стола также стояло двое бариста – ведьмак Дмитрий, который уже снял с себя фартук и позволил себе выглядеть более взъерошено, чем обычно, и человеческий мальчишка Алекс, завязывающий крепкий узел за своей спиной. Оба они одновременно обернулись на тихое мяуканье Леши.
- Мистер Заковырка! – восхитился Александр, тут же подрываясь со своего места, чтобы пойти к стойке.
- Янус, - фыркнул Дмитрий, присаживаясь на корточки.
Он протянул к Леше руку, и тот, смущенно насупившись, все же потерся о теплые пальцы, пахнущие травами. Кажется, он пришел в самый разгар общего спора, потому что крохотная Алиса, выглядевшая безумно устало и выпотрошено, что-то доказывала своей подруге Катерине, которая уже не первое столетие выглядела нездорово белой и измученной, а потому внимание Леши не привлекала. Для нее бледный тон кожи и покрасневшие глаза были частью жестокой реальности своего вампирьего существования, пока для обычной колдуньи Алисы нездоровый серый цвет и потухшие веснушки на щеках были сродни трагедии.
Леша одним прыжком забрался на свой любимый подоконник и растянулся во весь рост, тихо мурлыкнув себе под нос от наслаждения. Неделя выходила тяжелой, даже когти лень было прятать. И Леша бы с радостью сейчас уснул, отдался бы в объятия сладкой дневной дремы, позволил бы мыслям завернуть себя в свои нити и крепко связать до полной атрофии мышц, но то, что происходило прямо перед его глазами вызывало жгучее любопытство. А Леша не смог бы уснуть, если бы не удовлетворил его.
Очень скоро вернулся Александр с миской теплого молока, которое он поставил рядом с мордочкой Леши, не забыв провести шершавыми пальцами по затылку, ероша черную шелковую шерсть. Он выглядел бодрее и живее своей сестры и казался почти загорелым на ее фоне. Это значило, что в жизни девушки случилось что-то ну очень тяжелое. Леша прищурился, вытягивая голову над столом.
Потертый желтый пергамент был полон записей, исправлений и множества клякс. Синий кривой почерк исправлял зеленый и изящный, словно насмехаясь над всеми отчетами одним своим видом. Алиса тыкала пальцем в одну из таких поправок, и ее ярость выливалась наружу крохотными искорками магии по всему телу.
- Двадцать пять корректив! Двадцать пять!
- О, это еще ничего, - выдохнула Катерина своим глубоким европейским акцентом, взмахнув белыми ресницами, - он сказал переделать прошлогодний проект. Прошлогодний!
- Я уже не знаю, что мне делать. Месяц бьюсь с этим Советом, но все тщетно! Видите ли, я не понимаю людей. Тоже мне эксперты!
Алиса шумно ударила ложкой по дну кружки со сладким рафом, прежде чем сделать быстрый глоток. Даже не поморщилась от обжигающего кипятка. Леша придвинулся ближе, уже вчитываясь в надписи, а не просто их оглядывая. От того, что он увидел, его заполнил больной азарт. Улыбка сама растянулась на пушистых губах, но, благо, остальные в кафе этого не заметили.
- Сидят в своих поместьях, окруженные эльфами или кем там еще, а мы о людях не знаем. Да я даже с Алексом эти правки обговаривала!
Стоящий рядом Алекс от упоминания себя дернулся. Он закатил глаза, - похоже уже который раз выслушивал тираду сестры, - и с надеждой глянул на дверь кафе. Но колокольчик не звякнул.
- Тише, Алис, - Дмитрий мягко положил одну ладонь на тонкое плечо подруги, после чего принялся завязывать в хвост густые и мягкие волосы, на которые Катрина глянула с завистью, - давай попробуем еще раз. Они все равно однажды должны будут принять этот проект, министерство само объявило, что это важная часть…
- Они скорее заменят нас как исполнителей, - фыркнула Катерина, поправляя полы черной мантии.
- Я этого председателя даже в лицо не знаю, - как-то уж слишком убито, устало и беззвучно прошептала Алиса, закрывая лицо руками, - а моя карьера уже летит бабе Яге в ступу.
Воцарилось тяжелое молчание, похожие на огромную каменную плиту, которая вот-вот упадет на головы. И именно ожидание этого падения наполняло воздух едкой тревогой. Леша уже разозлился на себя, что пришел сюда, а не пошел сразу в парк. Хорошо, что теплое молоко поднимало настроение. Алекс глянул на Лешу, как только услышал звук звякнувшей миски, а потом толкнул Катерину в плечо, чтобы та перестала длинными накрашенными ногтями ковырять доски стола.
- Мистер Заковырка, а вы что думаете? – насмешливо спросил паренек.
Леша даже с любопытством наклонил голову. Он где-то прокололся? Но никто, похоже, в серьез слова Александра не воспринял. Только Алиса умоляюще кинула быстрый взгляд васильковых глаз в его сторону, после чего тут же отвернулась, роняя голову на сложенные руки.
Лапы сами понесли его спуститься на стол и сесть у самого пергамента. Хвост свисал вниз и слабо покачивался, как маятник часов, а солнце припекало спину, выглянув из-за пушистых облаков. Леша дернул сначала одним ухом, потом другим, и сам удивился всем этим правкам. Он провел лапой по ровным зеленым линиям, после чего когтем ткнул в один из пунктов. Звонкое мяуканье оборвало затянувшийся траур по чужой карьере, вынуждая всех повернуть головы.
Алиса посмотрела в место, куда упирался коготь Леши, и взялась за ручку. Видеть в руках у мага не перо было как-то жутко непривычно, почти на гране с комедией, но Леша сдержал рокочущий фыркающий звук, вместо этого чихнув.
- Янус, что это значит? – тихо спросил Дима, наклоняясь над плечом Алисы.
Леша почти ощутил под кожей то, как смущение обожгло все внутри девушки, но она стойко продолжала вчитываться в свои слова, а затем в слова секретарши председателя – Елены Купчинской. Алиса что-то складывала в голове, нервно кусая губы.
- Может кот имеет в виду, что эта правка лишняя? – неуверенно спросила Катерина, поднимая острый подбородок вверх, чтобы тоже заглянуть в пергамент, - и нам надо оставить пункт, но извернуть его иначе?
Все обернулись на Лешу. Он нервно вскинул хвост, морща розовый нос.
- Мимо, - хохотнул Алекс, - тогда, может, расширить пункт? Пояснее сделать.
Леша поднял уши и хвост рухнул обратно вниз. Алиса взяла пергамент поудобнее и начала перечислять все тонкости записанной ею идеи, глядя прямо на пушистую белую мордочку. На что-то Леша кивал, на что-то шипел, а иногда сам задумывался, не глядя уставившись себе под лапы. Так за двадцать минут они поправили три пункта. Катерина только успевала все записывать в новый, чистенький свиток, иногда вклинивая и свои мысли.
Леша пялился на некоторые правки непозволительно сознательно, принюхиваясь. Они были слишком глупыми, короткими и, честное слово, бессмысленными. Алекс, наверное, раз пять пошутил про профессионализм магических работников, пока Катерина не шикнула на него, обнажив ровные клыки. После этого человеческий мальчишка ушел за стойку, бубня под нос.
Через час они уже переписали половину всего проекта, и, если быть честным, Леша почти не подсказывал девушкам, уйдя на подоконник, чтобы попить молока. Лишь иногда его отрывали от полусонного состояния.
- Включить в программу финансовую грамотность ведь имеет смысл, да? – окликнула Катерина.
- Это лучше сделать отдельным проектом, слишком муторно, честное слово, - помотала головой Алиса.
И Леша кивнул в ее сторону, снова отворачиваясь к окну. Девушки теперь тише возобновили переговоры. Их шепот дополнял скрип стержня по листу, редкий шум улицы, когда в кафе заходили новые гости, звон кружек в мойке и приглушенное птичье пение за окном. Прошло, наверное, еще часа полтора, когда Леша услышал, что стулья за столиком стали двигать. Он быстро поднял голову, отгоняя сон, который тут же разлетелся и поблек, будто его вовсе не было.
Алиса надевала на себя ветровку, широко зевая. Катерина поправляла глубокий капюшон мантии, доставая солнцезащитные очки. Леша оглянулся – солнце клонилось за крыши домов, обжигая горизонт красными всполохами заката. Ему тоже пора было идти.
- И пусть только этот, - Алиса кинула все свитки в дорожную сумку с нарисованной на ней руной безграничья, - председатель, как его…
- Алексей Михайлович Котков, - добавила Катерина.
- И пусть только Алексей Михайлович не примет этот вариант, я клянусь, уволюсь к чертям!
Леша довольно хмыкнул и спрыгнул на пол, потягиваясь.
- Пр-римет, пр-римет, - сладко протянул Леша, вызывая у всех шок.
Не хватало только грохота упавших на пол челюстей, подумалось ему, прежде чем он направился к выходу.
- А с Леночкой я поговор-рю. Таких сотр-рудников мне упускать нельзя. Хор-рошего дня, Алиса. Жду завтр-ра лично на собр-рание.
Прежде чем дверь кафе закрылась, Леша услышал, как человеческий мальчишка за стойкой рухнул на пол. «Они всюду» - Леша улыбнулся этому шепоту, довольно виляя хвостом. Денек выдался ужасно трудным.
Ситникова Александра. Хвост, усы и порядок
Третий час шло собрание. Жильцы первого подъезда пятиэтажки, построенной еще при Хрущеве, пытались выбрать главного по подъезду. Взмыленные, раскрасневшиеся, они кричали, но никак не могли определиться. Из грязного угла, лежа на засаленной картонке, за ними лениво наблюдал старый рыжий кот, проживший всю свою девятую жизнь в подвале этого же дома.
- Давайте выберем Татьяну Федоровну! – кричал солидный пожилой мужчина из пятнадцатой квартиры.
- Да при Татьяне Федоровне три уборщицы уволились и до сих пор подъезд никто не моет, гляньте, какая грязь кругом! – возмущалась домохозяйка с четвертого этажа.
- Давайте тогда выберем моего мужа, Павла Николаевича, – пискнула молодая домохозяйка из тринадцатой квартиры.
- Ты что городишь, Катя, - зарычал краснолицый мужчина, только что вернувшийся с вахты, - я и без того пашу, как лось, телевизор посмотреть не успеваю!
Катя осеклась и потупила взгляд. На мгновение повисла тишина. Холеный мужчина лет пятидесяти кашлянул, важно поправил очки и сказал:
- Раз никто не может справиться, придется мне стать главным.
- Ну уж нет, - закричал Лешка с третьего этажа. - Ты уже был главным. Помнится, собирал деньги на ремонт, да так и не сделал. Толку от тебя, как от кота.
- Да от кота толку больше, – поддержала его пенсионерка из 6 квартиры, – кот, он хоть мышей и крыс ловит.
- Решено, лично я голосую за кота и иду домой. Где подписать? – Павел Николаевич вырвал бланк из рук бывшего председателя, корявым почерком подписал "Кот Кузя" и поставил галочку напротив.
Жена Катя, покраснев еще больше, но боясь поспорить с рассерженным супругом, подошла и расписалась напротив кота Кузи. Леша хмыкнул: «Раз так, я тоже за кота». К бюллетеню потянулись усталые, серьезные граждане. Кто-то голосовал за Татьяну Ивановну, кто-то решил, что Павел Николаевич будет хорошим председателем, кто-то даже вспомнил Лешу. Проголосовав, они начали разбредаться. И тут Татьяна Федоровна, в руках которой остался бюллетень, закричала:
-Люди, что же это творится?! У нас кот победил!
- Ну кот так кот, – буркнула старушка, опаздывающая на сериал.
- А мне-то что делать, – возмущалась Татьяна Федоровна, – мне что, документацию ему на картонку отнести?
- Да толку от твоих бумаг? Хоть коту мягче будет.
Собрание закончилось. Кот Кузя стал председателем подъезда номер один старенькой пятиэтажки маленького провинциального городка, находящегося в тысячах километров от столицы нашей необъятной Родины. Но, согласитесь, для кота это огромный карьерный рост.
Прошло три недели правления Кузи. Павел Николаевич возвращался домой, в свой замызганный подъезд. Поднимаясь по лестнице, на втором этаже встретил Татьяну Федоровну со шваброй и ведром воды, старательно отмывающую пол.
- Танюш, ты чего это тут убираешься? – удивился Павел Николаевич.
- А кто ж, кроме меня, это сделает? Кузя языком пол вылижет или с уборщицами договорится? – кивнула старушка на старательно умывающегося в углу председателя. - Вы же, хохмачи, его выбрали. А я в грязи жить не хочу: она на ногах в квартиру тащится. И заразы сколько можно принести! В новостях вчера слышала, что коронавирус от грязи пошел.
- Тань, а ты это, весь подъезд мыть собираешься? – посерьезнел Павел Николаевич
- Конечно, весь! С других этажей пойдут – натащут.
- Тань, ты подожди. На четвертом и пятом этажах свет не горит, я лампочки вкручу. И жену позову- она тебе поможет.
Леша, возвращавшийся домой, увидел Катю, пытающуюся оттереть доисторические надписи со стен подъезда. - Брось. Последнюю краску сдерешь.
- Ну вот бы и покрасил, чего языком молоть, – фыркнула Катя.
- Могу и покрасить, – пожал плечами Леша, - все равно краска в кладовке валяется.
На следующее утро в подъезде Леша с приятелями старательно красил стены в нежно-салатовый цвет. Кот Кузя исподлобья наблюдал за происходящим.
Да и было за чем! Баба Валя со второго этажа расставила цветочные горшки на подоконниках. Люська, которую всем подъездом ругали за шумные компании, регулярно заседающие в ее однушке, на каждом этаже повесила по картине... За месяц правления кота подъезд стал образцовым, а Кузя разжился нарядной подстилкой и мисками с кормом и водой. Да и сам он при регулярном питании потолстел и похорошел. Кто-то даже осмелился помыть нового председателя шампунем от блох, и теперь от него приятно пахло ромашками.
На следующий год единогласно выбрали председателем кота Кузю.
Третий час шло собрание. Жильцы первого подъезда пятиэтажки, построенной еще при Хрущеве, пытались выбрать главного по подъезду. Взмыленные, раскрасневшиеся, они кричали, но никак не могли определиться. Из грязного угла, лежа на засаленной картонке, за ними лениво наблюдал старый рыжий кот, проживший всю свою девятую жизнь в подвале этого же дома.
- Давайте выберем Татьяну Федоровну! – кричал солидный пожилой мужчина из пятнадцатой квартиры.
- Да при Татьяне Федоровне три уборщицы уволились и до сих пор подъезд никто не моет, гляньте, какая грязь кругом! – возмущалась домохозяйка с четвертого этажа.
- Давайте тогда выберем моего мужа, Павла Николаевича, – пискнула молодая домохозяйка из тринадцатой квартиры.
- Ты что городишь, Катя, - зарычал краснолицый мужчина, только что вернувшийся с вахты, - я и без того пашу, как лось, телевизор посмотреть не успеваю!
Катя осеклась и потупила взгляд. На мгновение повисла тишина. Холеный мужчина лет пятидесяти кашлянул, важно поправил очки и сказал:
- Раз никто не может справиться, придется мне стать главным.
- Ну уж нет, - закричал Лешка с третьего этажа. - Ты уже был главным. Помнится, собирал деньги на ремонт, да так и не сделал. Толку от тебя, как от кота.
- Да от кота толку больше, – поддержала его пенсионерка из 6 квартиры, – кот, он хоть мышей и крыс ловит.
- Решено, лично я голосую за кота и иду домой. Где подписать? – Павел Николаевич вырвал бланк из рук бывшего председателя, корявым почерком подписал "Кот Кузя" и поставил галочку напротив.
Жена Катя, покраснев еще больше, но боясь поспорить с рассерженным супругом, подошла и расписалась напротив кота Кузи. Леша хмыкнул: «Раз так, я тоже за кота». К бюллетеню потянулись усталые, серьезные граждане. Кто-то голосовал за Татьяну Ивановну, кто-то решил, что Павел Николаевич будет хорошим председателем, кто-то даже вспомнил Лешу. Проголосовав, они начали разбредаться. И тут Татьяна Федоровна, в руках которой остался бюллетень, закричала:
-Люди, что же это творится?! У нас кот победил!
- Ну кот так кот, – буркнула старушка, опаздывающая на сериал.
- А мне-то что делать, – возмущалась Татьяна Федоровна, – мне что, документацию ему на картонку отнести?
- Да толку от твоих бумаг? Хоть коту мягче будет.
Собрание закончилось. Кот Кузя стал председателем подъезда номер один старенькой пятиэтажки маленького провинциального городка, находящегося в тысячах километров от столицы нашей необъятной Родины. Но, согласитесь, для кота это огромный карьерный рост.
Прошло три недели правления Кузи. Павел Николаевич возвращался домой, в свой замызганный подъезд. Поднимаясь по лестнице, на втором этаже встретил Татьяну Федоровну со шваброй и ведром воды, старательно отмывающую пол.
- Танюш, ты чего это тут убираешься? – удивился Павел Николаевич.
- А кто ж, кроме меня, это сделает? Кузя языком пол вылижет или с уборщицами договорится? – кивнула старушка на старательно умывающегося в углу председателя. - Вы же, хохмачи, его выбрали. А я в грязи жить не хочу: она на ногах в квартиру тащится. И заразы сколько можно принести! В новостях вчера слышала, что коронавирус от грязи пошел.
- Тань, а ты это, весь подъезд мыть собираешься? – посерьезнел Павел Николаевич
- Конечно, весь! С других этажей пойдут – натащут.
- Тань, ты подожди. На четвертом и пятом этажах свет не горит, я лампочки вкручу. И жену позову- она тебе поможет.
Леша, возвращавшийся домой, увидел Катю, пытающуюся оттереть доисторические надписи со стен подъезда. - Брось. Последнюю краску сдерешь.
- Ну вот бы и покрасил, чего языком молоть, – фыркнула Катя.
- Могу и покрасить, – пожал плечами Леша, - все равно краска в кладовке валяется.
На следующее утро в подъезде Леша с приятелями старательно красил стены в нежно-салатовый цвет. Кот Кузя исподлобья наблюдал за происходящим.
Да и было за чем! Баба Валя со второго этажа расставила цветочные горшки на подоконниках. Люська, которую всем подъездом ругали за шумные компании, регулярно заседающие в ее однушке, на каждом этаже повесила по картине... За месяц правления кота подъезд стал образцовым, а Кузя разжился нарядной подстилкой и мисками с кормом и водой. Да и сам он при регулярном питании потолстел и похорошел. Кто-то даже осмелился помыть нового председателя шампунем от блох, и теперь от него приятно пахло ромашками.
На следующий год единогласно выбрали председателем кота Кузю.
Попова Василиса. Навсегда в памяти...
Коты и собаки, как известно, не друзья. Но я вновь и вновь вспоминаю собаку, которой благодарен за спасение моей семьи.
Я – кот Кеди, житель красивейшего турецкого города Кахраманмараш. Сейчас мой город - цветущий сад. Новые красивые дома, цветочные клумбы. Мы живем в красивом доме, перед ним беседка. Счастье и радость царят в нашем дворе, в нашем доме, в нашей квартире.
А 10 лет назад город представлял собой страшное зрелище: руины, разрушенные дома. Пыль, смешанная с кровью, всюду плач, стоны и крики о помощи. Здесь в 2023 году произошло страшное землетрясение.
Ранним утром 6 февраля ничто не предвещало беды. Я проснулся от того, что зашевелилась кошка Акра, наш маленький котенок сначала проснулся и запищал, а потом подполз ей под пушистое брюхо и стал сосать молоко. Наверное, писк малыша разбудил девочку лет, она протерла ото сна глазки и слезла со своей кроватки. Девочка подошла к нашей лежанке, села рядом и стала с умилением смотреть, как котенок тычет носиком в брюшко мамы. Я встал, потерся о теплые руки девочки, она погладила меня, потрепала за ушко. От хозяйки пахло так хорошо, как может пахнуть только от человеческого ребенка. Я скользнул в открытую дверь на балкон. Уже с балкона я услышал, как девочку позвала мама, большая хозяйка, она тоже встала, подошла к кошке, обняла дочку и присела посмотреть на пушистика. Так они сидели рядом: две мамы - кошка и хозяйка, и два детеныша—кошачий и человеческий. Я спрыгнул с балкона на тротуар и увидел идущего с ночной работы хозяина, он тоже меня заметил, по-мужски спросил: «Кеди, на охоту отправился? А я вот иду отдыхать».
В этот момент я почувствовал что-то странное, я прижался к хозяину, а уже в следующий миг мы оба закричали, потому что из-под земли донесся гул и удар. И наш дом стал падать!!! Стали падать соседние дома, асфальт вздувался волнами, обломки стен, окон, куски железа с крыши – всё это летело на землю, а земля гудела и тряслась. Люди и животные выскакивали, бежали, кричали. В шуме я не мог разобрать голосов хозяев и кошки с котенком, ничего не мог различить в этом шуме. А потом… Я сидел у какой-то плиты, вокруг царил ужас. Люди пытались поднять обломки, из завалов слышались стоны, кому-то удалось выбраться, кто-то плакал, обнимая тела погибших. Я смотрел на то место, где еще час назад был наш балкон, наша квартира, наш дом….
Приближалась ночь, развели костры на дороге. Мужчины разбирали развалины нашего дома. Они уже выбились из сил, бетонные плиты они просто не могли поднять. Подъехала незнакомая мне машина: на двери были нарисованы восьмиконечные белые звезды с бело-сине-красными полосками на фоне. Из машины вышли спасатели, я слышал иностранную певучую речь. Спасатели начали поднимать плиты, спускались в завалы и выносили людей. Кто-то был жив, его перекладывали на носилки в медицинскую машину, раненых везли в госпиталь. Кого-то выносили, клали на землю и покрывали простыней….
Мой хозяин тоже работал со спасателями. Несколько раз он подходил ко мне, говорил: «Кеди, смотри, русские парни самые первые приехали в Турцию, Россия далеко, но они через два часа после землетрясения уже прилетели к нам и приступили к работе в Кахраманмараше». Спасатели работали без перерыва, одни отряды сменяли другие, работа шла без остановок. Вот подошла тяжелая техника, стали прицеплять и тащить неподъемные плиты. Я закрывал глаза, я не мог смотреть на то, как в крови, в обломках мебели спасатели находили людей. Командир отряда тоже подошел ко мне, погладил усталой рукой, дал кусок хлеба: «Эх, котище, понимаю… Держись, пушистый, ох, как тяжело видеть этот океан боли и горя. Но мы должны разобрать всё, мы найдем всех, кто там есть». Я не понял его слов, но такая доброта и уверенность шли от командира, что я поверил: моих тоже найдут!
Техника поднимала стены, железные двери, обломки окон. Когда она прекращала работу, в проемы входили спасатели. Так продолжалось сутки, двое. А потом машина с белой звездой на дверце привезла собак. По разговорам людей я понял, что это бригады из поисково-спасательного отряда «Экстремум» из далекого города Санкт-Петербурга. Овчарки вышли из машины, посмотрели мудрыми глазами на развалины, послушно присели в ожидании команды. Первым начал работу пёс Дунай. Майор –спасатель скомандовал: «Пять минут тишины!!!» И вся техника была заглушена. Спасатели сняли каски, вслушивались в звуки из завалов. Пёс нюхал воздух и водил ушами. И вот он подбежал к куче обломков и заливисто залаял, завилял хвостом, заскулил радостно. И тут же командир выкрикнул по рации : «Работаем, ребята! Здесь живые!» Спасатели ломами сдвинули обломки плиты и вытащили дедушку. Он не мог говорить, но самое главное—он был жив, жив!!! Если бы не пёс Дунай, дед бы скончался от холода и обезвоживания. Я подбежал к старику и лизнул его руку. Дед глазами показал на на собак и сказал тихо, одними губами: «Это наше Спасение»
В другой куче обломков Дунай тоже почувствовал живых, он сам спустился в развалины, захватил зубами и вытащил молодую женщину. Женщина была без сознания, но дышала, пес заливисто лаял ей на ухо, она, будто услышав его, очнулась и застонала. Спасатели только сейчас заметили, что из собачьей лапы сочится кровь. Видимо, пес порезался о стекло в развалинах. Дуная перевязали, отвели на отдых. А из машины на смену ему вышла на работу овчарка Лада.
Снова и снова в моей памяти всплывает картина: Лада внимательно нюхает воздух возле обломков моего дома, я смотрю в ее большие глаза и хочу увидеть радость - под завалами есть живые. Я впервые доверяю собаке, и кажется, собака тоже понимает меня – под завалами моя семья и мои хозяева. У меня уже осип голос, я могу только хрипло мяукать. Несколько часов подряд я пытался найти своих, я втискивался во все щели, куда мог войти, я кричал изо всех сил, звал живых. Собака поддерживает меня, слегка трогает лапой, будто утешает: «Кот, поиски еще не завершены, я найду твоих, я услышу запах, я услышу дыхание!»
Я с замиранием смотрю на каждый отодвинутый спасателями кусок стены. Ведь работы приближаются к моему первому этажу, я узнаю по обрывкам штор, по обломкам дверей соседские квартиры. В одном месте Лада залаяла громко и протяжно, как будто завыла. Спасатели вытащили из завала тело нашей соседки, бабушки, которая часто сидела на скамейке у подъезда, она была хозяйкой моей матери-кошки, из коробки в ее доме меня взяли мои теперешние хозяева. Я хорошо помнил грубые, но ласковые руки бабушки. Я подбежал, потерся о ее рукав. Старушка помнила меня котенком, всегда гладила. Но сейчас ее руки холодные….
Я почти не дышу, чтобы не помешать собаке слышать живых. Живых – я очень надеюсь, что живых. Я уже представил и замерзшего своего маленького котенка, и убитую обломком кошечку. Я готов к этому. Я убил в себе свои слезы. Но я не готов увидеть холодное тело маленькой хозяйки. Нет! Это моя любимая девочка, которая и гладила, и тискала меня, она давала мне свои котлеты под столом, хотя ей это было запрещено, подливала мне свежее молоко в миску, играла со мной бантиками, я спал с ней, когда она болела, она спасала меня от гнева хозяина, когда я разбил вазу, когда порвал новые обои. Она попросила родителей завести мне подружку, и у нас появилась кошечка Акра. Мы с маленькой хозяйкой друзья, она не может вот так просто погибнуть! Она же знает, что я ушел на улицу, и я вернусь, она всегда меня ждала, всегда встречала. Я верю, она дышит, ее найдут!
Лада водит ушами. Слышно, как собака втягивает воздух. Спасатели даже затаили дыхание. Все слушают тишину. Лада подходит к щели, вдыхает рывками, пытается услышать запахи, а мне кажется, что из-под завала слышится писк! Тонкий, будто заглушенный писк котенка! Лада тоже слышит его, начинает лаять, прыгать возле щели. Она виляет хвостом, смотрит на меня: «Жив твой котенок!» Спасатели осторожно поднимают плиты, вытаскивают обломки шкафа.
То, что увидели спасатели, они назвали словом «чудо». Именно столетний шкаф не позволил обломкам завалить моих домашних. Оказалось, что при первых подземных толчках кошка накрыла собою малыша, маленькая хозяйка обняла их, а старшая хозяйка закрыла дочку своим телом. Их накрыло шкафом, но он уперся в стену, обломки скатывались по стенкам шкафа. Большая хозяйка не может говорить. У нее раны на голове, но она дышит, и малышка - обессилевшая, но живая! Кошечка тоже жива, но от тяжести и голода уже дышит с трудом. Только котенок отчаянно зовет на помощь. Мяуканье выходит слабым. Вот это сдавленное дыхание, это слабый писк услышала поисковая собака! Никакая электронная техника не сможет так чутко услышать дыхание жизни!
Все плывет перед глазами у меня. Только вижу: спасатели вынимают из завала маленькую хозяйку и ее маму, кладут их в медицинскую машину, хозяин плачет от счастья. Овчарка несет в зубах котеночка, кладет ко мне. Потом лижет мое ухо: «Бывай, кот, береги малыша, он спас всю твою семью!»
Прошло много лет, построили новые дома в Кахраманмараше, вырос и мой котенок. Хозяева назвали его Муаф – «спасенный». Мы часто собираемся перед новым домом, хозяйка треплет мне уши, мы вспоминаем овчарку Ладу и чудесное спасение. Маленькая хозяйка выросла, учится на художника. Сегодня соседи обсуждают новый проект – памятник русскому спасателю с собакой. Жители нашего дома, все, кто выжил после страшного землетрясения 2023 года, собрали деньги, хотят поставить этот памятник в знак благодарности. Постамент будет построен на месте нашего разрушенного дома. На памятнике будет высечена белая восьмиконечная звезда – символ Спасения.
Коты и собаки, как известно, не друзья. Но я вновь и вновь вспоминаю собаку, которой благодарен за спасение моей семьи.
Я – кот Кеди, житель красивейшего турецкого города Кахраманмараш. Сейчас мой город - цветущий сад. Новые красивые дома, цветочные клумбы. Мы живем в красивом доме, перед ним беседка. Счастье и радость царят в нашем дворе, в нашем доме, в нашей квартире.
А 10 лет назад город представлял собой страшное зрелище: руины, разрушенные дома. Пыль, смешанная с кровью, всюду плач, стоны и крики о помощи. Здесь в 2023 году произошло страшное землетрясение.
Ранним утром 6 февраля ничто не предвещало беды. Я проснулся от того, что зашевелилась кошка Акра, наш маленький котенок сначала проснулся и запищал, а потом подполз ей под пушистое брюхо и стал сосать молоко. Наверное, писк малыша разбудил девочку лет, она протерла ото сна глазки и слезла со своей кроватки. Девочка подошла к нашей лежанке, села рядом и стала с умилением смотреть, как котенок тычет носиком в брюшко мамы. Я встал, потерся о теплые руки девочки, она погладила меня, потрепала за ушко. От хозяйки пахло так хорошо, как может пахнуть только от человеческого ребенка. Я скользнул в открытую дверь на балкон. Уже с балкона я услышал, как девочку позвала мама, большая хозяйка, она тоже встала, подошла к кошке, обняла дочку и присела посмотреть на пушистика. Так они сидели рядом: две мамы - кошка и хозяйка, и два детеныша—кошачий и человеческий. Я спрыгнул с балкона на тротуар и увидел идущего с ночной работы хозяина, он тоже меня заметил, по-мужски спросил: «Кеди, на охоту отправился? А я вот иду отдыхать».
В этот момент я почувствовал что-то странное, я прижался к хозяину, а уже в следующий миг мы оба закричали, потому что из-под земли донесся гул и удар. И наш дом стал падать!!! Стали падать соседние дома, асфальт вздувался волнами, обломки стен, окон, куски железа с крыши – всё это летело на землю, а земля гудела и тряслась. Люди и животные выскакивали, бежали, кричали. В шуме я не мог разобрать голосов хозяев и кошки с котенком, ничего не мог различить в этом шуме. А потом… Я сидел у какой-то плиты, вокруг царил ужас. Люди пытались поднять обломки, из завалов слышались стоны, кому-то удалось выбраться, кто-то плакал, обнимая тела погибших. Я смотрел на то место, где еще час назад был наш балкон, наша квартира, наш дом….
Приближалась ночь, развели костры на дороге. Мужчины разбирали развалины нашего дома. Они уже выбились из сил, бетонные плиты они просто не могли поднять. Подъехала незнакомая мне машина: на двери были нарисованы восьмиконечные белые звезды с бело-сине-красными полосками на фоне. Из машины вышли спасатели, я слышал иностранную певучую речь. Спасатели начали поднимать плиты, спускались в завалы и выносили людей. Кто-то был жив, его перекладывали на носилки в медицинскую машину, раненых везли в госпиталь. Кого-то выносили, клали на землю и покрывали простыней….
Мой хозяин тоже работал со спасателями. Несколько раз он подходил ко мне, говорил: «Кеди, смотри, русские парни самые первые приехали в Турцию, Россия далеко, но они через два часа после землетрясения уже прилетели к нам и приступили к работе в Кахраманмараше». Спасатели работали без перерыва, одни отряды сменяли другие, работа шла без остановок. Вот подошла тяжелая техника, стали прицеплять и тащить неподъемные плиты. Я закрывал глаза, я не мог смотреть на то, как в крови, в обломках мебели спасатели находили людей. Командир отряда тоже подошел ко мне, погладил усталой рукой, дал кусок хлеба: «Эх, котище, понимаю… Держись, пушистый, ох, как тяжело видеть этот океан боли и горя. Но мы должны разобрать всё, мы найдем всех, кто там есть». Я не понял его слов, но такая доброта и уверенность шли от командира, что я поверил: моих тоже найдут!
Техника поднимала стены, железные двери, обломки окон. Когда она прекращала работу, в проемы входили спасатели. Так продолжалось сутки, двое. А потом машина с белой звездой на дверце привезла собак. По разговорам людей я понял, что это бригады из поисково-спасательного отряда «Экстремум» из далекого города Санкт-Петербурга. Овчарки вышли из машины, посмотрели мудрыми глазами на развалины, послушно присели в ожидании команды. Первым начал работу пёс Дунай. Майор –спасатель скомандовал: «Пять минут тишины!!!» И вся техника была заглушена. Спасатели сняли каски, вслушивались в звуки из завалов. Пёс нюхал воздух и водил ушами. И вот он подбежал к куче обломков и заливисто залаял, завилял хвостом, заскулил радостно. И тут же командир выкрикнул по рации : «Работаем, ребята! Здесь живые!» Спасатели ломами сдвинули обломки плиты и вытащили дедушку. Он не мог говорить, но самое главное—он был жив, жив!!! Если бы не пёс Дунай, дед бы скончался от холода и обезвоживания. Я подбежал к старику и лизнул его руку. Дед глазами показал на на собак и сказал тихо, одними губами: «Это наше Спасение»
В другой куче обломков Дунай тоже почувствовал живых, он сам спустился в развалины, захватил зубами и вытащил молодую женщину. Женщина была без сознания, но дышала, пес заливисто лаял ей на ухо, она, будто услышав его, очнулась и застонала. Спасатели только сейчас заметили, что из собачьей лапы сочится кровь. Видимо, пес порезался о стекло в развалинах. Дуная перевязали, отвели на отдых. А из машины на смену ему вышла на работу овчарка Лада.
Снова и снова в моей памяти всплывает картина: Лада внимательно нюхает воздух возле обломков моего дома, я смотрю в ее большие глаза и хочу увидеть радость - под завалами есть живые. Я впервые доверяю собаке, и кажется, собака тоже понимает меня – под завалами моя семья и мои хозяева. У меня уже осип голос, я могу только хрипло мяукать. Несколько часов подряд я пытался найти своих, я втискивался во все щели, куда мог войти, я кричал изо всех сил, звал живых. Собака поддерживает меня, слегка трогает лапой, будто утешает: «Кот, поиски еще не завершены, я найду твоих, я услышу запах, я услышу дыхание!»
Я с замиранием смотрю на каждый отодвинутый спасателями кусок стены. Ведь работы приближаются к моему первому этажу, я узнаю по обрывкам штор, по обломкам дверей соседские квартиры. В одном месте Лада залаяла громко и протяжно, как будто завыла. Спасатели вытащили из завала тело нашей соседки, бабушки, которая часто сидела на скамейке у подъезда, она была хозяйкой моей матери-кошки, из коробки в ее доме меня взяли мои теперешние хозяева. Я хорошо помнил грубые, но ласковые руки бабушки. Я подбежал, потерся о ее рукав. Старушка помнила меня котенком, всегда гладила. Но сейчас ее руки холодные….
Я почти не дышу, чтобы не помешать собаке слышать живых. Живых – я очень надеюсь, что живых. Я уже представил и замерзшего своего маленького котенка, и убитую обломком кошечку. Я готов к этому. Я убил в себе свои слезы. Но я не готов увидеть холодное тело маленькой хозяйки. Нет! Это моя любимая девочка, которая и гладила, и тискала меня, она давала мне свои котлеты под столом, хотя ей это было запрещено, подливала мне свежее молоко в миску, играла со мной бантиками, я спал с ней, когда она болела, она спасала меня от гнева хозяина, когда я разбил вазу, когда порвал новые обои. Она попросила родителей завести мне подружку, и у нас появилась кошечка Акра. Мы с маленькой хозяйкой друзья, она не может вот так просто погибнуть! Она же знает, что я ушел на улицу, и я вернусь, она всегда меня ждала, всегда встречала. Я верю, она дышит, ее найдут!
Лада водит ушами. Слышно, как собака втягивает воздух. Спасатели даже затаили дыхание. Все слушают тишину. Лада подходит к щели, вдыхает рывками, пытается услышать запахи, а мне кажется, что из-под завала слышится писк! Тонкий, будто заглушенный писк котенка! Лада тоже слышит его, начинает лаять, прыгать возле щели. Она виляет хвостом, смотрит на меня: «Жив твой котенок!» Спасатели осторожно поднимают плиты, вытаскивают обломки шкафа.
То, что увидели спасатели, они назвали словом «чудо». Именно столетний шкаф не позволил обломкам завалить моих домашних. Оказалось, что при первых подземных толчках кошка накрыла собою малыша, маленькая хозяйка обняла их, а старшая хозяйка закрыла дочку своим телом. Их накрыло шкафом, но он уперся в стену, обломки скатывались по стенкам шкафа. Большая хозяйка не может говорить. У нее раны на голове, но она дышит, и малышка - обессилевшая, но живая! Кошечка тоже жива, но от тяжести и голода уже дышит с трудом. Только котенок отчаянно зовет на помощь. Мяуканье выходит слабым. Вот это сдавленное дыхание, это слабый писк услышала поисковая собака! Никакая электронная техника не сможет так чутко услышать дыхание жизни!
Все плывет перед глазами у меня. Только вижу: спасатели вынимают из завала маленькую хозяйку и ее маму, кладут их в медицинскую машину, хозяин плачет от счастья. Овчарка несет в зубах котеночка, кладет ко мне. Потом лижет мое ухо: «Бывай, кот, береги малыша, он спас всю твою семью!»
Прошло много лет, построили новые дома в Кахраманмараше, вырос и мой котенок. Хозяева назвали его Муаф – «спасенный». Мы часто собираемся перед новым домом, хозяйка треплет мне уши, мы вспоминаем овчарку Ладу и чудесное спасение. Маленькая хозяйка выросла, учится на художника. Сегодня соседи обсуждают новый проект – памятник русскому спасателю с собакой. Жители нашего дома, все, кто выжил после страшного землетрясения 2023 года, собрали деньги, хотят поставить этот памятник в знак благодарности. Постамент будет построен на месте нашего разрушенного дома. На памятнике будет высечена белая восьмиконечная звезда – символ Спасения.
Беляева Алёна. Копыто цокнуло
Всё начиналось довольно тихо, совсем давно. Юркое ласканье кота, его мокрый нос, пушистая спина. Железные спицы умело переплетались в танце, то и дело меняя одеянье. Дни были спокойные: снежинки, переплетённые в маленькие комки, тихо стукались об окно; лишь изредка пролетала меж сосен птица, не забыв поздороваться. Иногда до меня смутно доносился треск свечей, а мир подсвечивался чем-то мягким, тёплым, рыжевато-малиновым.
Потом становилось холодно, и всё погружалось в тишину. Лишь размеренно стучали стрелки часов, иногда падали набежавшие на крышу сугробы. Я лежал, не в силах рассмотреть ничего вокруг себя, но чувствовал шероховатую обивку кресла, поначалу ледяные спицы, и приходилось ждать разминки, и только после нескольких мазурок становилось тепло.
Со временем мир вокруг начал всё больше и больше наполняться звуками. Слышался звонкий треск брёвен в камине, мурлыканье где-то сбоку, глухой звон спиц (кажется, иногда они начинали ругаться прямо во время танца). Скрипело кресло.
Но вот я, наконец, увидел мир. Как же он был странен! Почему-то все, кто меня окружал, могли двигаться: потягивался кот, перекатываясь на полосатую спину и обнажая белый живот, уютно улыбалась старушка, которая помогала спицам, тоже вечно скачущим, создавать меня. Однако стоило мне поднять рукав - и холмистые цветовые бури оставались на месте. Признаться честно, это начинало доводить до зуда.
Ситуация осложнилась, когда я оказался готов: спицы, прощаясь, неловко скрестились и удалились в какую-то коробочку. И только я захотел вздохнуть с облегчением, как вдруг меня распрямили, отряхнули и сложили. Оказавшись взглядом в поверхности стола, я почувствовал непреодолимое желание прокричать, но осуществление данного действия оказалось также препятственно.
Хорошо, подумал я, это ещё не конец света. После чёрной полосы обязательно должна наступить белая (если я правильно понял последовательность танцев исчезнувших подруг), и поэтому оставалось только терпеливо ждать её. И действительно, в один момент я вновь воспарил над землёй и оказался в руках вязальщицы, уже предвкушая встречу со спицами...
И наступила темнота. Опять.
Не думал, что полосы сменяются так часто.
Кажется, я очутился в похожем месте, что и танцовщицы. Коробка. Но она была большая, гладкая внутри, и пусть в ней было тесно, но не так уж и одиноко: где-то внутри меня аккуратно сопел свёрток с чем-то сладким. Судя по запаху, это были печенья с пряностями, и к ним я сразу почувствовал симпатию. Но и здесь не без препятствий: к свёртку был приложен конверт с листком, исписанным чернилами, и ладно бы он оставался тихо лежать на своём месте. Как бы не так! Этот ловелас уже успел продекламировать своё содержимое проснувшимся печеньям, и теперь они вместе хихикали, пока я учтиво согревал их своими бесчисленными складками. Жизнь несправедлива.
Не совсем понимая, сколько я уже провёл в лежании и слушании голубиных нежностей влюблённых, я уже был готов погрузиться в тихое отчаяние. Но в один момент меня вновь обдало тёплым светом, а рукава и ворот даже как-то радостно зашевелились. Конверт в испуге и неожиданности отскочил от печенья, распластавшись на полу.
-Бабушка, вот это да! Какой кл'асивый свител'!
Передо мной вдруг оказалось (вернее, я перед ним оказался) маленькое создание без двух передних зубов. Оно забавно лыбилось, то и дело пыхтя от того, какой я тяжёлый в его аккуратных маленьких ручках.
-Ого-о-о! А олень пл'авда настоящий?
-Конечно! Смотри, сейчас как наскочит на тебя... - рядом с новым лицом стояла моя создательница. Она тоже улыбалась, и её взгляд был так ясен и светел, что я решил: создание нужно веселить, чтобы оно смеялось, и тогда создательница будет счастлива. Счастье - это хорошо.
С этих пор я стал часто смотреть на мир. Создание, чьё имя оказалось Лиза, носило меня часто, несмотря на то что я был "рождественским"( так много новых слов мне пришлось выучить!), как часто говорила "бабушка" Лизы, не без толики гордости в голосе. Я Лизе явно нравился, и в этом была заслуга создательницы.
Впервые я смог отчётливо увидеть себя, когда Лизе только исполнилось двенадцать. Она наряжалась в школу и, сменив несколько нарядов, остановилась на мне. Я видел, как лицо Лизы сначала посерело от сомнения, чего я, к сожалению, понять не мог. Неужели я наскучил ей?.. Однако девочка, смахнув задумчивость и хмурость, нацепила меня и вертелась у зеркала минут двадцать. За это время я успел рассмотреть свои складки в подробностях: разброс красок и правда сбивал с толку, красный переплетался с бежевым, а тот, словно корни дерева, внедрялся в белый... Олень, чьими глазами я смотрел на мир, застыл в прыжке. Его копытца забавно возвышались над зелёной травой, а красный нос неизбежно цеплял взгляд, как центральная точка в обрамлённом разноцветными нитями венке.
Когда Лиза вышла, на меня живо накинулся свежий ветер и цапнул прямо за нос. Лиза съёжилась, улыбнувшись, и всё же решила укутаться в свою шубку. Снова стало темно, но к темноте я привык ещё с самого рождения. Больше всего меня будоражила новость о внезапном приключении: Лиза всё реже и реже обращала на меня внимание и теперь быстро сдвигала вешалку со мной вместе с остальными...
Но вот мы оказались внутри. Передо мной панорамой раскрылась школьная жизнь: спешащие ученики со стопками учебников в руках; некоторые ребята так заговаривались, что не замечали, как тетрадки жалобно кряхтели в попытке обратить на себя внимание владельца, прежде чем упасть на пол плашмя. На дверях везде были развешаны длинные канаты мишуры, кое-где стояли маленькие ёлочки с забавными украшениями. Больше всего меня поразила история балерины и солдатика: они так печально смотрели друг на друга с разных веток...
Но вот Лиза зашла в класс, села за парту. Все вокруг были одеты в такие же, как я: пёстрые, улыбчивые и счастливые свитеры смотрели вокруг одинаково поражённо и явно находились под большим впечатлением. Я не мог не разделить их настроения.
Когда в класс вошёл ещё один ученик, я почувствовал, как порывисто забилось у Лизы сердце. Она резко опустила руки на коленки, её ботиночки начали нервно настукивать неизвестную мне мелодию. Внезапно девочка поднялась, да так резко, что в ушах засвистело, и порывисто застукала каблучками по полу.
-Пр-ривет! - картавость Лиза прятала, заметно протягивая эту "пр-р-роклятую", как выражалась она сама, букву.
Мальчик, к которому она подошла, взглянув на меня, слегка хихикнул. Странной мне показалась эта реакция, и, видимо, Лизино сердце в испуге сделало несколько лишних кульбитов.
-Мне очень нр-равится твой свите-р-р-р, - сказала она слегка смущённо, и рука её потянулась к непослушной пряди волос, заправив ту за ухо. Если честно, лично я ничего интересного не увидел: подумаешь, зелёная ветвь, опоясывающая два рукава, и пышная, с яркими огоньками ёлка посередине. Ничего интересного.
-Спасибо, я знаю. А у твоего забавный нос, - улыбнулся мальчик в ответ. Почему забавный? Вполне респектабельный красный нос... - Погоди, у тебя здесь дырка, кажется.
С этими словами его палец удивительно уверенно направился к моему копыту. Возмутительно зацепившись за пряжу и приподняв мою ногу, он снова хихикнул. Как невоспитанно! И как Лиза до сих пор не отошла от этого негодяя?
А Лиза и правда словно застыла. Она опустила голову вниз, прядь волос вновь упала ей на лицо. Позади послышались смешки, и только тогда Лиза, развернувшись на носочках, села за свою парту. Весь оставшийся учебный день она сидела, неестественно сгорбившись и тщательно прикрывая рукой моё копыто.
Как только мы вернулись домой, первым делом она, безуспешно попробовав вылезти через воротник, стряхнула рукава, наклонилась и скинула меня прямо на пол, быстро опустившись рядом и начав тихо плакать.
Что же случилось с тобой, бедная Лиза? Я так хотел придвинуться ближе и смахнуть слёзы с твоего лица, но как сильно бы я ни старался, злосчастные рукава оставались бездвижны...
В конце концов Лиза перестала плакать и встала. Смахнув волосы с заплаканного лица, она, грустно посмотрев на меня, ушла в свою комнату.
Пролежав на полу с час, я увидел, как заходит солнце. Коридор окутало множество теней. Вокруг стало совсем тихо и жутко. Я снова попытался двинуться, но безрезультатно. Темнота - не самое страшное, намного страшнее остаться одному в этой темноте, потому что тогда начинают охватывать грустные мысли... Я больше не могу делать Лизу счастливой, но почему? Разве так важно моё дырявое копыто?
Внезапно из комнаты вынырнула Лиза, босыми ножками прошагав до меня. Взяла мои рукава, а затем, окинув взглядом, глубоко задумалась.
-Ну и что! - сказала она наконец. - Пусть Сашка и дальше не видит, какой ты у меня кр-р-расивый. А дыр-рка на копыте - испр-р-равимо - мы с бабушкой тебя заштопаем!
Послышался звук звякнувших ключей, вместе с ним открылась дверь. Вошла создательница, смахнула с шапки слой снега (в иной раз мне бы показалось это чем-то вроде посыпки на рождественском печенье, но сейчас я мог думать только о бедной Лизе...) и повесила свою плотную телогрейку в шкаф. Она хотела было пройти на кухню, но перед ней возникла Лиза, протягивая меня создательнице.
-Лиза, что случилось?
-Свитер-р, - немного нервно, не до конца успокоившимся голосом сказала она, - пор-р-рвался.
-Исправимо, - повторила некогда сказанное Лизой бабушка.
На лице Лизы показалась улыбка, лицо создательницы тоже заметно посветлело. Я почувствовал, как внутри меня становится тепло, так тепло и так радостно, что о зелёную траву цокнуло копыто...
Всё начиналось довольно тихо, совсем давно. Юркое ласканье кота, его мокрый нос, пушистая спина. Железные спицы умело переплетались в танце, то и дело меняя одеянье. Дни были спокойные: снежинки, переплетённые в маленькие комки, тихо стукались об окно; лишь изредка пролетала меж сосен птица, не забыв поздороваться. Иногда до меня смутно доносился треск свечей, а мир подсвечивался чем-то мягким, тёплым, рыжевато-малиновым.
Потом становилось холодно, и всё погружалось в тишину. Лишь размеренно стучали стрелки часов, иногда падали набежавшие на крышу сугробы. Я лежал, не в силах рассмотреть ничего вокруг себя, но чувствовал шероховатую обивку кресла, поначалу ледяные спицы, и приходилось ждать разминки, и только после нескольких мазурок становилось тепло.
Со временем мир вокруг начал всё больше и больше наполняться звуками. Слышался звонкий треск брёвен в камине, мурлыканье где-то сбоку, глухой звон спиц (кажется, иногда они начинали ругаться прямо во время танца). Скрипело кресло.
Но вот я, наконец, увидел мир. Как же он был странен! Почему-то все, кто меня окружал, могли двигаться: потягивался кот, перекатываясь на полосатую спину и обнажая белый живот, уютно улыбалась старушка, которая помогала спицам, тоже вечно скачущим, создавать меня. Однако стоило мне поднять рукав - и холмистые цветовые бури оставались на месте. Признаться честно, это начинало доводить до зуда.
Ситуация осложнилась, когда я оказался готов: спицы, прощаясь, неловко скрестились и удалились в какую-то коробочку. И только я захотел вздохнуть с облегчением, как вдруг меня распрямили, отряхнули и сложили. Оказавшись взглядом в поверхности стола, я почувствовал непреодолимое желание прокричать, но осуществление данного действия оказалось также препятственно.
Хорошо, подумал я, это ещё не конец света. После чёрной полосы обязательно должна наступить белая (если я правильно понял последовательность танцев исчезнувших подруг), и поэтому оставалось только терпеливо ждать её. И действительно, в один момент я вновь воспарил над землёй и оказался в руках вязальщицы, уже предвкушая встречу со спицами...
И наступила темнота. Опять.
Не думал, что полосы сменяются так часто.
Кажется, я очутился в похожем месте, что и танцовщицы. Коробка. Но она была большая, гладкая внутри, и пусть в ней было тесно, но не так уж и одиноко: где-то внутри меня аккуратно сопел свёрток с чем-то сладким. Судя по запаху, это были печенья с пряностями, и к ним я сразу почувствовал симпатию. Но и здесь не без препятствий: к свёртку был приложен конверт с листком, исписанным чернилами, и ладно бы он оставался тихо лежать на своём месте. Как бы не так! Этот ловелас уже успел продекламировать своё содержимое проснувшимся печеньям, и теперь они вместе хихикали, пока я учтиво согревал их своими бесчисленными складками. Жизнь несправедлива.
Не совсем понимая, сколько я уже провёл в лежании и слушании голубиных нежностей влюблённых, я уже был готов погрузиться в тихое отчаяние. Но в один момент меня вновь обдало тёплым светом, а рукава и ворот даже как-то радостно зашевелились. Конверт в испуге и неожиданности отскочил от печенья, распластавшись на полу.
-Бабушка, вот это да! Какой кл'асивый свител'!
Передо мной вдруг оказалось (вернее, я перед ним оказался) маленькое создание без двух передних зубов. Оно забавно лыбилось, то и дело пыхтя от того, какой я тяжёлый в его аккуратных маленьких ручках.
-Ого-о-о! А олень пл'авда настоящий?
-Конечно! Смотри, сейчас как наскочит на тебя... - рядом с новым лицом стояла моя создательница. Она тоже улыбалась, и её взгляд был так ясен и светел, что я решил: создание нужно веселить, чтобы оно смеялось, и тогда создательница будет счастлива. Счастье - это хорошо.
С этих пор я стал часто смотреть на мир. Создание, чьё имя оказалось Лиза, носило меня часто, несмотря на то что я был "рождественским"( так много новых слов мне пришлось выучить!), как часто говорила "бабушка" Лизы, не без толики гордости в голосе. Я Лизе явно нравился, и в этом была заслуга создательницы.
Впервые я смог отчётливо увидеть себя, когда Лизе только исполнилось двенадцать. Она наряжалась в школу и, сменив несколько нарядов, остановилась на мне. Я видел, как лицо Лизы сначала посерело от сомнения, чего я, к сожалению, понять не мог. Неужели я наскучил ей?.. Однако девочка, смахнув задумчивость и хмурость, нацепила меня и вертелась у зеркала минут двадцать. За это время я успел рассмотреть свои складки в подробностях: разброс красок и правда сбивал с толку, красный переплетался с бежевым, а тот, словно корни дерева, внедрялся в белый... Олень, чьими глазами я смотрел на мир, застыл в прыжке. Его копытца забавно возвышались над зелёной травой, а красный нос неизбежно цеплял взгляд, как центральная точка в обрамлённом разноцветными нитями венке.
Когда Лиза вышла, на меня живо накинулся свежий ветер и цапнул прямо за нос. Лиза съёжилась, улыбнувшись, и всё же решила укутаться в свою шубку. Снова стало темно, но к темноте я привык ещё с самого рождения. Больше всего меня будоражила новость о внезапном приключении: Лиза всё реже и реже обращала на меня внимание и теперь быстро сдвигала вешалку со мной вместе с остальными...
Но вот мы оказались внутри. Передо мной панорамой раскрылась школьная жизнь: спешащие ученики со стопками учебников в руках; некоторые ребята так заговаривались, что не замечали, как тетрадки жалобно кряхтели в попытке обратить на себя внимание владельца, прежде чем упасть на пол плашмя. На дверях везде были развешаны длинные канаты мишуры, кое-где стояли маленькие ёлочки с забавными украшениями. Больше всего меня поразила история балерины и солдатика: они так печально смотрели друг на друга с разных веток...
Но вот Лиза зашла в класс, села за парту. Все вокруг были одеты в такие же, как я: пёстрые, улыбчивые и счастливые свитеры смотрели вокруг одинаково поражённо и явно находились под большим впечатлением. Я не мог не разделить их настроения.
Когда в класс вошёл ещё один ученик, я почувствовал, как порывисто забилось у Лизы сердце. Она резко опустила руки на коленки, её ботиночки начали нервно настукивать неизвестную мне мелодию. Внезапно девочка поднялась, да так резко, что в ушах засвистело, и порывисто застукала каблучками по полу.
-Пр-ривет! - картавость Лиза прятала, заметно протягивая эту "пр-р-роклятую", как выражалась она сама, букву.
Мальчик, к которому она подошла, взглянув на меня, слегка хихикнул. Странной мне показалась эта реакция, и, видимо, Лизино сердце в испуге сделало несколько лишних кульбитов.
-Мне очень нр-равится твой свите-р-р-р, - сказала она слегка смущённо, и рука её потянулась к непослушной пряди волос, заправив ту за ухо. Если честно, лично я ничего интересного не увидел: подумаешь, зелёная ветвь, опоясывающая два рукава, и пышная, с яркими огоньками ёлка посередине. Ничего интересного.
-Спасибо, я знаю. А у твоего забавный нос, - улыбнулся мальчик в ответ. Почему забавный? Вполне респектабельный красный нос... - Погоди, у тебя здесь дырка, кажется.
С этими словами его палец удивительно уверенно направился к моему копыту. Возмутительно зацепившись за пряжу и приподняв мою ногу, он снова хихикнул. Как невоспитанно! И как Лиза до сих пор не отошла от этого негодяя?
А Лиза и правда словно застыла. Она опустила голову вниз, прядь волос вновь упала ей на лицо. Позади послышались смешки, и только тогда Лиза, развернувшись на носочках, села за свою парту. Весь оставшийся учебный день она сидела, неестественно сгорбившись и тщательно прикрывая рукой моё копыто.
Как только мы вернулись домой, первым делом она, безуспешно попробовав вылезти через воротник, стряхнула рукава, наклонилась и скинула меня прямо на пол, быстро опустившись рядом и начав тихо плакать.
Что же случилось с тобой, бедная Лиза? Я так хотел придвинуться ближе и смахнуть слёзы с твоего лица, но как сильно бы я ни старался, злосчастные рукава оставались бездвижны...
В конце концов Лиза перестала плакать и встала. Смахнув волосы с заплаканного лица, она, грустно посмотрев на меня, ушла в свою комнату.
Пролежав на полу с час, я увидел, как заходит солнце. Коридор окутало множество теней. Вокруг стало совсем тихо и жутко. Я снова попытался двинуться, но безрезультатно. Темнота - не самое страшное, намного страшнее остаться одному в этой темноте, потому что тогда начинают охватывать грустные мысли... Я больше не могу делать Лизу счастливой, но почему? Разве так важно моё дырявое копыто?
Внезапно из комнаты вынырнула Лиза, босыми ножками прошагав до меня. Взяла мои рукава, а затем, окинув взглядом, глубоко задумалась.
-Ну и что! - сказала она наконец. - Пусть Сашка и дальше не видит, какой ты у меня кр-р-расивый. А дыр-рка на копыте - испр-р-равимо - мы с бабушкой тебя заштопаем!
Послышался звук звякнувших ключей, вместе с ним открылась дверь. Вошла создательница, смахнула с шапки слой снега (в иной раз мне бы показалось это чем-то вроде посыпки на рождественском печенье, но сейчас я мог думать только о бедной Лизе...) и повесила свою плотную телогрейку в шкаф. Она хотела было пройти на кухню, но перед ней возникла Лиза, протягивая меня создательнице.
-Лиза, что случилось?
-Свитер-р, - немного нервно, не до конца успокоившимся голосом сказала она, - пор-р-рвался.
-Исправимо, - повторила некогда сказанное Лизой бабушка.
На лице Лизы показалась улыбка, лицо создательницы тоже заметно посветлело. Я почувствовал, как внутри меня становится тепло, так тепло и так радостно, что о зелёную траву цокнуло копыто...
Варнаков Игорь. На том же месте через 10 лет
Был обычный летний день. Я спешил на экзамен, который начинался в девять утра. Мне нужно прийти раньше остальных, потому что я – учитель и сегодня снова выступаю в роли члена экзаменационной комиссии. Предстоит подготовить документы, всё проверить, а потом следить за ходом экзамена. Эту ответственную работу поручают молодым преподавателям каждый год. Нравится ли она мне? Определённо, да! Всегда интересно смотреть, как взволнованные ученики решают задачи. Ровно девять, пора! Вот передо мной парень, который напряжённо читает задание. Видно, что он точно готовился и даже с нетерпением ждал начала экзамена. Хочет его поскорее сдать. За соседней партой сидит девушка. Кажется, она напугана. Возможно, поняла, что задание сложнее, чем она думала. Внимательно смотрю на всех собравшихся в аудитории. Они скованы, понимают, что от экзамена зависит их будущая жизнь, но я вижу, что все справятся. За годы работы я пришел к простому выводу: чем меньше человек волнуется, тем лучше он напишет.
Тридцать минут от начала экзамена. В аудитории тишина. Слышен только скрежет ручек и легкое шуршание бумаги. А за окном светит беззаботное солнце.
Вдруг тишину нарушил резкий стук в дверь.
«Войдите», – сказал я. Дверь распахнулась, и в аудиторию влетел рыжеволосый парень. На лице его читалась тревога и даже испуг.
«Извините, пожалуйста, – скороговоркой выпалил он. – Разрешите приступить к выполнению заданий».
Я посмотрел на часы. По правилам я не должен вот так пускать опоздавшего, ему нужно оформить документы и бланки в отдельном кабинете. А ведь это требует времени, которого у него и так уже нет. «Интересный пацан», – подумал я и вдруг поймал себя на мысли, что этот рыжеволосый мне кого-то напоминает.
Отлично помню тот день! Тогда я встал пораньше и впервые за всю свою жизнь сделал утреннюю зарядку. Быстро собравшись, я вышел на улицу. Там уже вовсю светило солнце. Чудесный день! Шестое июня! Только началось лето. Так хочется поехать на речку и в лес! Но нельзя. Тот день был, пожалуй, самым важным в моей жизни. День, к которому я готовился ещё с осени. Меня охватило волнение.
Нужно успеть на автобус, чтобы вовремя доехать до школы, где меня ждёт выпускной экзамен. А вот и триста первый, отлично! Запрыгиваю, тянусь в карман за деньгами. И вдруг понимаю, что у меня ни копейки. Я же потратил вчера остаток денег в аптеке, когда покупал пустырник! Водитель вопросительно глянул на моё растерянное лицо. Я выскочил из автобуса и рванул к школе. И, конечно, опоздал. На целых двадцать минут. К счастью, несмотря на правила, экзаменатор допустил меня к сдаче. И вот, вспотевший и радостный, подхватив листок с задачами, я бросился решать.
Эти воспоминания вихрем пронеслись в моей голове. Я кивнул рыжеволосому парню и протянув ему бланк, посадил на первую парту. Он посмотрел на меня с благодарностью и, разложив листы перед собой, успокоившись, без всякого волнения начал писать тест.
Был обычный летний день. Я спешил на экзамен, который начинался в девять утра. Мне нужно прийти раньше остальных, потому что я – учитель и сегодня снова выступаю в роли члена экзаменационной комиссии. Предстоит подготовить документы, всё проверить, а потом следить за ходом экзамена. Эту ответственную работу поручают молодым преподавателям каждый год. Нравится ли она мне? Определённо, да! Всегда интересно смотреть, как взволнованные ученики решают задачи. Ровно девять, пора! Вот передо мной парень, который напряжённо читает задание. Видно, что он точно готовился и даже с нетерпением ждал начала экзамена. Хочет его поскорее сдать. За соседней партой сидит девушка. Кажется, она напугана. Возможно, поняла, что задание сложнее, чем она думала. Внимательно смотрю на всех собравшихся в аудитории. Они скованы, понимают, что от экзамена зависит их будущая жизнь, но я вижу, что все справятся. За годы работы я пришел к простому выводу: чем меньше человек волнуется, тем лучше он напишет.
Тридцать минут от начала экзамена. В аудитории тишина. Слышен только скрежет ручек и легкое шуршание бумаги. А за окном светит беззаботное солнце.
Вдруг тишину нарушил резкий стук в дверь.
«Войдите», – сказал я. Дверь распахнулась, и в аудиторию влетел рыжеволосый парень. На лице его читалась тревога и даже испуг.
«Извините, пожалуйста, – скороговоркой выпалил он. – Разрешите приступить к выполнению заданий».
Я посмотрел на часы. По правилам я не должен вот так пускать опоздавшего, ему нужно оформить документы и бланки в отдельном кабинете. А ведь это требует времени, которого у него и так уже нет. «Интересный пацан», – подумал я и вдруг поймал себя на мысли, что этот рыжеволосый мне кого-то напоминает.
Отлично помню тот день! Тогда я встал пораньше и впервые за всю свою жизнь сделал утреннюю зарядку. Быстро собравшись, я вышел на улицу. Там уже вовсю светило солнце. Чудесный день! Шестое июня! Только началось лето. Так хочется поехать на речку и в лес! Но нельзя. Тот день был, пожалуй, самым важным в моей жизни. День, к которому я готовился ещё с осени. Меня охватило волнение.
Нужно успеть на автобус, чтобы вовремя доехать до школы, где меня ждёт выпускной экзамен. А вот и триста первый, отлично! Запрыгиваю, тянусь в карман за деньгами. И вдруг понимаю, что у меня ни копейки. Я же потратил вчера остаток денег в аптеке, когда покупал пустырник! Водитель вопросительно глянул на моё растерянное лицо. Я выскочил из автобуса и рванул к школе. И, конечно, опоздал. На целых двадцать минут. К счастью, несмотря на правила, экзаменатор допустил меня к сдаче. И вот, вспотевший и радостный, подхватив листок с задачами, я бросился решать.
Эти воспоминания вихрем пронеслись в моей голове. Я кивнул рыжеволосому парню и протянув ему бланк, посадил на первую парту. Он посмотрел на меня с благодарностью и, разложив листы перед собой, успокоившись, без всякого волнения начал писать тест.
Матасов Артем. Двоякость неба как символ счастья, или Элизиум
Предисловие
Это был обычный летний день. Хотя, если подумать, на улице температура была достаточно приятной и не требовала носить кепку или же обливаться водой. А вот и наш главный герой, пусть его будут звать Артем – да-да без ё, что довольно удивительно. Ожидало его не особо опасное, но долгожданное приключение – ходьба. Он куда-то торопился, но нас это не волнует. Волнует нас другое – что-то обыденное и нетронутое; но начнём по порядку, а именно с нашего героя.
Артем-Без-Ё – обычный 16-летний парнишка. Вроде, в жизни есть что-то, но мы этого пока не знаем. Был он ростом около двух с половиной аршин. Имел мало друзей, но был доволен существованием хоть этих. Никогда не любил что-то сложное и имел простой, но иногда то ли странный, то ли заумный юморок, который нравился его друзьям. Ну, или проще говоря, ни простой, ни сложный, ни беден, ни богат, не урод и не красавец, а такой же, как и все мы, и не такой, как вы.
Наверно, вы заметили, что про него мы говорим слишком долго, но заметили ли вы, что я говорю с вами? «Странный вопрос от автора,» – подумали многие, ну и пусть.
*Элизиум – в данном случае представляет собой неосязаемое счастье.
(Примечание: в качестве эпиграфов к главам даны вырезки из песен – для погружения в атмосферу)
Глава I
Артем-Без-Ё вышел из дома
Выходя из дома,
Я забыл закрыть дверь.
Выходя из дома,
Я не выключил свет.
Выходя из дома,
Я забыл портфель.
Выходя из дома,
Я забыл заправить постель.
Перешёл через дорогу я на красный свет.
Не заметил друга, не сказал привет.
И пришел на встречу не в назначенный день.
Важные слова пропустил я мимо ушей.
(гр. Где Фантом?)
Повторюсь, это был отличный солнечный летний денёк. В этот момент Артем-Без-Ё вышел из дома. Куда он пошёл? Мы не знаем, но нам это пока неинтересно. В тот момент Артем-Без-Ё, осматривая улицу, обратил внимание на небо. Оно было сегодня каким-то, скажем так, особенным. Не таким, как обычно. Если бы мы находились на месте Артема, то сказали бы, что оно было тревожным. Нет-нет, небо было без облаков, солнце светило не слишком ярко, птицы, как им и подобает, летали. Но что-то терзало. Не знаю, как вы, но я бы назвал это синим цветом неба и тревоги. Вроде бы, спокойно, но кажется, что скоро будет плохо. А как вы считаете? Ой! Простите! Я забыл, что вы не можете мне ответить. Очень жаль. Что ж, продолжаем. Как говорилось ранее, небо было синим и тревожным. Но наш Артем-Без-Ё не замечал этого. Его что-то радовало, и он не мог заметить тревоги. Что-то заставляло его радоваться жизни. Он хотел было нам рассказать, но не мог. Артем шёл и думал об этом чистом небе, размышляя о чем-то своем.
Я, как автор, хочу узнать, о чём он думал. Вы со мной, мой дорогой читатель? Я услышал «да», так что не медлим.
Ого! Вы только посмотрите! Это же клондайк незаконченных раздумий нашего героя. Я тут посмотрю чего-нибудь поинтереснее, а вам советую подождать. Вы ощущаете себя спокойно и свободно, пока автор не повернулся в вашу сторону с «незаконченным раздумьем».
«Хе-хей, – сказал автор. – Вас это точно заинтересует, ну или не оставит равнодушным».
Перед вами открылось что-то неосязаемое, но чувственное. Автор, в который раз, комментирует происходящее:
«Как тут необычно! Очень даже футуристичненько».
Вы видите огромное «незаконченное раздумье». Вверху – надпись: «БУДУЩЕЕ». А также вы замечаете, что всё здесь синее, но с надеждой только на хорошее.
«Хе-хе, – посмеялся автор, – наш главный герой идёт гулять, по его мнению, с Той самой». Вас это слегка озадачило? «Та самая» – это девушка, с которой Артем познакомился и уже как год с ней встречается. Артем-Без-Ё считает, что лучше, чем она, не существует. И ему достаточно «этих» отношений. Под словами «эти отношения» подразумевалось то неопределённое состояние, когда вы больше чем друзья, но не пара. Главный герой считает это идеальным. Он получает ни больше, ни меньше, оставляя приятную плеяду желаний и планов, которые не будут воплощены. Но кто его знает. Теперь вас озадачило другое – почему же наш парнишка не желает их исполнения, а только грезит об этом. Отвечу на ваш немой вопрос: это доставляет ему огромное удовольствие. Если бы не эта мысль о будущем, наш Артемка уже давно бы стал меланхоликом. А так это позволяет ему не терять веру в завтрашний день и заставляет жить дальше. Не путайте это с целью. Он уже всё обдумал и пришёл к выводу, что этого достаточно, большего ему и не надо. Вы уже хотите возразить, но автор, как всегда, вас опередил:
«Вы считаете, что эти отношения невероятно плохи?! Вы считаете, что это плохая мотивация?! Но, если бы вы знали, что будет потом, вы были бы рады, что у него есть хотя бы это».
В вас нет эмоций, и вы не можете что-то сказать. Автор, словно выкурив сигарету, проводит вас в другую часть «незаконченного раздумья».
Моя юность навсегда
Останется со мной
Беззаботная пора,
Где каждый мне родной
Счастливые моменты,
Красивые слова
И в памяти фрагменты -
Как лучшая глава
(Инди-проект Осень)
Глава II
Небо приобретает тревожность
Где же ты теперь, воля вольная?
С кем же ты сейчас Ласковый рассвет встречаешь? Ответь.
Хорошо с тобой, да плохо без тебя, Голову да плечи терпеливые под плеть, Под плеть.
(гр. КИНО)
Автор, недовольный вами, открывает дверь и позволяет зайти первым. Попав дальше, вы остаётесь пока что безэмоциональными.
Перед вами предстаёт что-то слабое, мёртвое, давно забытое: здесь всё так же синее, но оно не даёт надежд на будущее, лишь одно разочарование. Глядя вниз, вы замечаете ветхую табличку с надписью «Город N». Скорее всего, это был город плохих мыслей. Если в прошлой части «раздумья» мысли витали, то здесь мысли, как и люди, ходят на работу, отдыхают, занимаются «взрослой» рутиной.
Автор ничего не хотел говорить. Вы хотели пронзить тишину, но не могли. Вы прогуливаетесь по улице, замечая, что это не шибко отличается от реальности. Повсюду ходят угрюмые мысли, вечно чем-то недовольные; ездят машины, мигают светофоры – обычная городская суета.
Автор, насытившись вашей разведкой происходящего, решает заговорить: «Что ж, теперь, надеюсь, вы поняли, что здесь?»
И сам же отвечает на свой вопрос: «Эта часть «раздумья» содержит в себе всё негативное. От детских обид до скандалов. Это наш Артем-Без-Ё уже совсем позабыл. Я не буду тебе рассказывать, что здесь да как».
Это место просто отвратительно. Немного погодя в вас возникает чувство омерзения и презрения к этому городу. В мимо проходящих мыслях вы видите обидные «кликухи», чьи-то невыполненные обещания и ненависть. А ещё домашние ссоры, запреты, наказания и тому подобное. В одной из мыслей вы увидели тревогу о будущем. «Что будет потом?» - тревожит всех: и вас, и автора, и главного героя. Но жизнь продолжается благодаря одной стороне, дающей надежду на завтрашний день и веру во всё самое лучшее. То, что продолжает в вас жизнь, можно назвать по-разному: цель, мотивация, некий принцип, а также наслаждение счастьем.
Артем-Без-Ё живёт из-за последнего. Своё счастье он видит в другом человеке. Хоть счастье и может казаться неосязаемым, но иногда до него «рукой подать». Мы почему-то иногда не ценим то, что у нас есть. Свобода, крыша над головой, еда, вода, семья в конце концов. Некоторые за такой «обычный» образ жизни, как у нас, готовы на всё. Кто-то может возразить, что у них нет, к примеру, какого-то родственника. Да, в тот момент осознания «потери бойца» мы все были разбиты и потеряны, словно упустили нить, связывающую вас с этим человеком. Вы могли бы сделать всё, лишь бы он вернулся. Так происходит с людьми, у которых нет свободы, крыши над головой, еды или воды. И после этого вы говорите, что ваша жизнь скучна или плоха?!
Подумайте ещё раз. Нет, я призываю вас это понять! Что же вам нужно, чтобы у вас появилась другая часть «раздумья», как у Артема-Без-Ё? Этот вопрос отдаётся эхом в пространстве. В этом и заключается двоякость неба: счастье и неопределённость будущего. Сейчас вам счастливо и на небе лишь облака со сладкими мечтами. А потом наступает буря, завывает ветер, вы забываете о счастье и думаете только о плохом.
Счастье мы чувствуем, когда нет проблем. Несчастье мы ощущаем всегда, но порой забываем про него.
Глава III
Сон
Звук, непохожий ни на что, будит вас. Ваше сознание липнет к реальности, как муха к мёду. Заводится, тарахтит, обременённая конечностями машина боли и унизительных страданий. Она жаждет идти по пустыне. Страдать. Тосковать. Танцевать диско.
Проснувшись, потянувшись, вы как обычно начинаете своё утро. Дома кроме вас – никого. После ритуала пробуждения вы замечаете записку – на ней от руки выведено: «купи хлеба». Вполне обычно вы неспешно идёте к ближайшему магазину. По дороге замечаете человека ростом около двух с половиной аршин и не слишком привлекательного. Был он одет довольно обычно, даже слишком. Синие джинсы, зелёная длинная футболка, и поверх неё торжественно надета куртка бежевого цвета. Ну, или проще говоря, ни простой, ни сложный, ни беден, ни богат, не урод и не красавец, а такой же, как и все мы, и не такой, как вы.
Вам он кажется довольно знакомым. Вы хотели к нему подойти, но он мягко протараторил:
«Здравствуйте! Простите, я не могу вам помочь, очень спешу на встречу».
Вас слегка шокирует его готовность ко всему. Казалось, если бы падал метеорит или бы на него ехал БелАЗ, у него был бы на это план. Когда молодой человек уже прошёл 10 метров, вы решаете, не упуская шанс, выкрикнуть ему вслед: «Как вас зовут?» И слышите: «Артем, - и тут же добавленное, - без ё, так написано в паспорте».
То ли ваш странный сон был вещим, то ли ещё что-то. Вы почувствовали себя провидцем на секунду. Это воспоминание засело надолго. Так и не встретив «Артема- Без-ё», вы остались довольны этой встречей. Наверное, как и он встречей с Той самой.
Куда несемся вдоль дворов
Я сам не знаю
Ночь убегает так далеко
Прошу останься с со мной
Куда несемся вдоль дворов
Я сам не знаю
Все превратится в один сон
Я засыпаю
(гр. Галантерея)
Предисловие
Это был обычный летний день. Хотя, если подумать, на улице температура была достаточно приятной и не требовала носить кепку или же обливаться водой. А вот и наш главный герой, пусть его будут звать Артем – да-да без ё, что довольно удивительно. Ожидало его не особо опасное, но долгожданное приключение – ходьба. Он куда-то торопился, но нас это не волнует. Волнует нас другое – что-то обыденное и нетронутое; но начнём по порядку, а именно с нашего героя.
Артем-Без-Ё – обычный 16-летний парнишка. Вроде, в жизни есть что-то, но мы этого пока не знаем. Был он ростом около двух с половиной аршин. Имел мало друзей, но был доволен существованием хоть этих. Никогда не любил что-то сложное и имел простой, но иногда то ли странный, то ли заумный юморок, который нравился его друзьям. Ну, или проще говоря, ни простой, ни сложный, ни беден, ни богат, не урод и не красавец, а такой же, как и все мы, и не такой, как вы.
Наверно, вы заметили, что про него мы говорим слишком долго, но заметили ли вы, что я говорю с вами? «Странный вопрос от автора,» – подумали многие, ну и пусть.
*Элизиум – в данном случае представляет собой неосязаемое счастье.
(Примечание: в качестве эпиграфов к главам даны вырезки из песен – для погружения в атмосферу)
Глава I
Артем-Без-Ё вышел из дома
Выходя из дома,
Я забыл закрыть дверь.
Выходя из дома,
Я не выключил свет.
Выходя из дома,
Я забыл портфель.
Выходя из дома,
Я забыл заправить постель.
Перешёл через дорогу я на красный свет.
Не заметил друга, не сказал привет.
И пришел на встречу не в назначенный день.
Важные слова пропустил я мимо ушей.
(гр. Где Фантом?)
Повторюсь, это был отличный солнечный летний денёк. В этот момент Артем-Без-Ё вышел из дома. Куда он пошёл? Мы не знаем, но нам это пока неинтересно. В тот момент Артем-Без-Ё, осматривая улицу, обратил внимание на небо. Оно было сегодня каким-то, скажем так, особенным. Не таким, как обычно. Если бы мы находились на месте Артема, то сказали бы, что оно было тревожным. Нет-нет, небо было без облаков, солнце светило не слишком ярко, птицы, как им и подобает, летали. Но что-то терзало. Не знаю, как вы, но я бы назвал это синим цветом неба и тревоги. Вроде бы, спокойно, но кажется, что скоро будет плохо. А как вы считаете? Ой! Простите! Я забыл, что вы не можете мне ответить. Очень жаль. Что ж, продолжаем. Как говорилось ранее, небо было синим и тревожным. Но наш Артем-Без-Ё не замечал этого. Его что-то радовало, и он не мог заметить тревоги. Что-то заставляло его радоваться жизни. Он хотел было нам рассказать, но не мог. Артем шёл и думал об этом чистом небе, размышляя о чем-то своем.
Я, как автор, хочу узнать, о чём он думал. Вы со мной, мой дорогой читатель? Я услышал «да», так что не медлим.
Ого! Вы только посмотрите! Это же клондайк незаконченных раздумий нашего героя. Я тут посмотрю чего-нибудь поинтереснее, а вам советую подождать. Вы ощущаете себя спокойно и свободно, пока автор не повернулся в вашу сторону с «незаконченным раздумьем».
«Хе-хей, – сказал автор. – Вас это точно заинтересует, ну или не оставит равнодушным».
Перед вами открылось что-то неосязаемое, но чувственное. Автор, в который раз, комментирует происходящее:
«Как тут необычно! Очень даже футуристичненько».
Вы видите огромное «незаконченное раздумье». Вверху – надпись: «БУДУЩЕЕ». А также вы замечаете, что всё здесь синее, но с надеждой только на хорошее.
«Хе-хе, – посмеялся автор, – наш главный герой идёт гулять, по его мнению, с Той самой». Вас это слегка озадачило? «Та самая» – это девушка, с которой Артем познакомился и уже как год с ней встречается. Артем-Без-Ё считает, что лучше, чем она, не существует. И ему достаточно «этих» отношений. Под словами «эти отношения» подразумевалось то неопределённое состояние, когда вы больше чем друзья, но не пара. Главный герой считает это идеальным. Он получает ни больше, ни меньше, оставляя приятную плеяду желаний и планов, которые не будут воплощены. Но кто его знает. Теперь вас озадачило другое – почему же наш парнишка не желает их исполнения, а только грезит об этом. Отвечу на ваш немой вопрос: это доставляет ему огромное удовольствие. Если бы не эта мысль о будущем, наш Артемка уже давно бы стал меланхоликом. А так это позволяет ему не терять веру в завтрашний день и заставляет жить дальше. Не путайте это с целью. Он уже всё обдумал и пришёл к выводу, что этого достаточно, большего ему и не надо. Вы уже хотите возразить, но автор, как всегда, вас опередил:
«Вы считаете, что эти отношения невероятно плохи?! Вы считаете, что это плохая мотивация?! Но, если бы вы знали, что будет потом, вы были бы рады, что у него есть хотя бы это».
В вас нет эмоций, и вы не можете что-то сказать. Автор, словно выкурив сигарету, проводит вас в другую часть «незаконченного раздумья».
Моя юность навсегда
Останется со мной
Беззаботная пора,
Где каждый мне родной
Счастливые моменты,
Красивые слова
И в памяти фрагменты -
Как лучшая глава
(Инди-проект Осень)
Глава II
Небо приобретает тревожность
Где же ты теперь, воля вольная?
С кем же ты сейчас Ласковый рассвет встречаешь? Ответь.
Хорошо с тобой, да плохо без тебя, Голову да плечи терпеливые под плеть, Под плеть.
(гр. КИНО)
Автор, недовольный вами, открывает дверь и позволяет зайти первым. Попав дальше, вы остаётесь пока что безэмоциональными.
Перед вами предстаёт что-то слабое, мёртвое, давно забытое: здесь всё так же синее, но оно не даёт надежд на будущее, лишь одно разочарование. Глядя вниз, вы замечаете ветхую табличку с надписью «Город N». Скорее всего, это был город плохих мыслей. Если в прошлой части «раздумья» мысли витали, то здесь мысли, как и люди, ходят на работу, отдыхают, занимаются «взрослой» рутиной.
Автор ничего не хотел говорить. Вы хотели пронзить тишину, но не могли. Вы прогуливаетесь по улице, замечая, что это не шибко отличается от реальности. Повсюду ходят угрюмые мысли, вечно чем-то недовольные; ездят машины, мигают светофоры – обычная городская суета.
Автор, насытившись вашей разведкой происходящего, решает заговорить: «Что ж, теперь, надеюсь, вы поняли, что здесь?»
И сам же отвечает на свой вопрос: «Эта часть «раздумья» содержит в себе всё негативное. От детских обид до скандалов. Это наш Артем-Без-Ё уже совсем позабыл. Я не буду тебе рассказывать, что здесь да как».
Это место просто отвратительно. Немного погодя в вас возникает чувство омерзения и презрения к этому городу. В мимо проходящих мыслях вы видите обидные «кликухи», чьи-то невыполненные обещания и ненависть. А ещё домашние ссоры, запреты, наказания и тому подобное. В одной из мыслей вы увидели тревогу о будущем. «Что будет потом?» - тревожит всех: и вас, и автора, и главного героя. Но жизнь продолжается благодаря одной стороне, дающей надежду на завтрашний день и веру во всё самое лучшее. То, что продолжает в вас жизнь, можно назвать по-разному: цель, мотивация, некий принцип, а также наслаждение счастьем.
Артем-Без-Ё живёт из-за последнего. Своё счастье он видит в другом человеке. Хоть счастье и может казаться неосязаемым, но иногда до него «рукой подать». Мы почему-то иногда не ценим то, что у нас есть. Свобода, крыша над головой, еда, вода, семья в конце концов. Некоторые за такой «обычный» образ жизни, как у нас, готовы на всё. Кто-то может возразить, что у них нет, к примеру, какого-то родственника. Да, в тот момент осознания «потери бойца» мы все были разбиты и потеряны, словно упустили нить, связывающую вас с этим человеком. Вы могли бы сделать всё, лишь бы он вернулся. Так происходит с людьми, у которых нет свободы, крыши над головой, еды или воды. И после этого вы говорите, что ваша жизнь скучна или плоха?!
Подумайте ещё раз. Нет, я призываю вас это понять! Что же вам нужно, чтобы у вас появилась другая часть «раздумья», как у Артема-Без-Ё? Этот вопрос отдаётся эхом в пространстве. В этом и заключается двоякость неба: счастье и неопределённость будущего. Сейчас вам счастливо и на небе лишь облака со сладкими мечтами. А потом наступает буря, завывает ветер, вы забываете о счастье и думаете только о плохом.
Счастье мы чувствуем, когда нет проблем. Несчастье мы ощущаем всегда, но порой забываем про него.
Глава III
Сон
Звук, непохожий ни на что, будит вас. Ваше сознание липнет к реальности, как муха к мёду. Заводится, тарахтит, обременённая конечностями машина боли и унизительных страданий. Она жаждет идти по пустыне. Страдать. Тосковать. Танцевать диско.
Проснувшись, потянувшись, вы как обычно начинаете своё утро. Дома кроме вас – никого. После ритуала пробуждения вы замечаете записку – на ней от руки выведено: «купи хлеба». Вполне обычно вы неспешно идёте к ближайшему магазину. По дороге замечаете человека ростом около двух с половиной аршин и не слишком привлекательного. Был он одет довольно обычно, даже слишком. Синие джинсы, зелёная длинная футболка, и поверх неё торжественно надета куртка бежевого цвета. Ну, или проще говоря, ни простой, ни сложный, ни беден, ни богат, не урод и не красавец, а такой же, как и все мы, и не такой, как вы.
Вам он кажется довольно знакомым. Вы хотели к нему подойти, но он мягко протараторил:
«Здравствуйте! Простите, я не могу вам помочь, очень спешу на встречу».
Вас слегка шокирует его готовность ко всему. Казалось, если бы падал метеорит или бы на него ехал БелАЗ, у него был бы на это план. Когда молодой человек уже прошёл 10 метров, вы решаете, не упуская шанс, выкрикнуть ему вслед: «Как вас зовут?» И слышите: «Артем, - и тут же добавленное, - без ё, так написано в паспорте».
То ли ваш странный сон был вещим, то ли ещё что-то. Вы почувствовали себя провидцем на секунду. Это воспоминание засело надолго. Так и не встретив «Артема- Без-ё», вы остались довольны этой встречей. Наверное, как и он встречей с Той самой.
Куда несемся вдоль дворов
Я сам не знаю
Ночь убегает так далеко
Прошу останься с со мной
Куда несемся вдоль дворов
Я сам не знаю
Все превратится в один сон
Я засыпаю
(гр. Галантерея)
Корчагина Екатерина. Легенды гласят
— Думаешь, я тебя боюсь?
Маленькая, со слипшимися темными волосами, из седьмого, должно быть, класса — она что-то искала взглядом за спиной Славы, ее рука рывками сползала по дверному косяку. Слава выпрямился, чтобы казаться выше.
— Думаю, боишься, — строго ответил он и, подождав немного, крикнул ей, как собаке: — Убирайся отсюда!
Она мгновенно исчезла в бескровной полутьме школьного коридора. Звук расстегивающихся металлических пуговиц, разъезжающихся замков, шелест курток стали громче — менее робкими. Слава молча обернулся к Зиночке, спрятавшейся между рядами одежды. На ее белой руке — раскрытый плюшевый шопер, такой по-детски наивный, с игрушечными медвежатами. Зиночка трясла карманы и доставала деньги, конфеты, что угодно — под пристальным вниманием Славы.
— Закончила? ...Что там? — спросил он.
— Вот.
Зиночка протянула две поблеклых тысячных купюры, которые, видно, держала отдельно, чтобы отдать Славе.
— Кайф, — кивнул он, небрежно свернув их. — Остальное потом. Давай, уходим.
Слава потянул ее за собой, в широкий, хмурый коридор, неохотно вбирающий в себя брызги мартовского солнца; на обжигающе-холодный воздух. Зиночка едва успевала за быстрыми шагами Славы. Он остановился перед дверями школы и еще раз ощупал мятые купюры, сунув руку в карман незастегнутой куртки... Зиночка, боясь спугнуть трепетное чувство в груди, бросилась ему на шею и поцеловала в пунцовую щеку. Смешно повисла, подтянувшись к его лицу. Слава с жестокой безучастностью выдавил из себя:
— Что?
Зиночка не ответила. Он обернулся и долго смотрел на ее округлое лицо со вздернутым носом, сахарно-бледными губами и темными, такими пугающе-бездонными глазами.
— Ничего...
Пока они стояли возле школы, мимо них прошли несколько восьми- или девятиклассников. Девушка впереди потянула за рукав пальто голубоглазого юношу, идущего с ней под руку, шепнула ему что-то, косясь на Славу. Она с мольбой улыбнулась багряными губами, и юноша неуверенно кивнул. Кашлянув, он подошел ближе к Зиночке и Славе, а его подруга осталась с одноклассницами, вставшими позади.
— Эй! Это ты Олю ударил и сказал, что в лицо ей плюнешь, если она расскажет, что ты вор? — сорвался хрипловатый голос юноши.
— Ну, и? — протянул Слава. Зиночка опустила взгляд на облупившиеся ступени. На грязный растаявший снег, одиноко хлюпающий у нее под ногами.
— Легко бить девушек, да?
— Нормально, — пожал плечами Слава.
— Выбираешь тех, кто слабее? — повысил голос голубоглазый юноша, хотя Слава стоял в двух метрах от него.
— Не выбираю. Ты слышал что-нибудь про равноправие полов? Или про свободу совести? Можешь ударить меня, но не обижайся, что я дам тебе в ответ.
Зиночка повернула голову и взглянула на прозрачное, высокое небо, стряхнувшее с себя рассветные облачка.
— Не переживай, еще ударю. — Юноша отошел к одноклассницам, не спуская со Славы гордого взгляда и сжимая узловатые ладони. — И вообще, пятые и седьмые любой обнести сможет.
— В следующий раз постарайся получше, братан, у тебя почти получилось, — крикнул ему вслед Слава. Удовлетворенно ухмыльнулся и приобнял Зиночку.
— Слышала? Хотят, чтобы мы и у них что-нибудь... Чего опять молчишь?
— Что-то не так, Слава, — тихо проговорила Зиночка. Она немного стеснялась тревоги. Ей было неловко сомневаться, когда Слава так убежден в своей правоте.
— Да, Зина, — вздохнул он. — Не смотри так на небо, — и невольно взглянул на него, необъятное, голубое, бесстрастно стерегущее насупленный город. — Там высоко и, значит, очень одиноко. Мы с тобой, мы, знаешь, насколько выше других? И поэтому мы одни. Так ведь?
Так, так. Когда Зиночка еще не догадывалась, что станет подругой Славы, она думала, что он такой... бездушный? Представляла его лицо, безжалостное, как некролог, и возникали из ниоткуда могильное молчание и подвальная сырость.
Но он, должно быть, рад был разделить убеждения с Зиночкой. Она так искренне удивлялась тому, насколько просто он говорил, что люди слишком слепы в своем доверии. Нужно сначала попробовать то притягательное, что строго-настрого запрещено, и тогда уж можно подумать о том, хорошо это или плохо.
Зиночка видела, сколько оставалось нерешенного, небезопасного. Но по-другому никак. Слава ведь рисковал, когда выбрал пойти против всех, своей дорогой. Он добился признания — его и вправду боялись.
Она достала смятые холодные наушники. Распутывала их замерзшими пальцами, пока Слава молча шел позади. Он проводил ее до остановки, и Зиночкино сердце так горько рвалось из груди, когда они прощались, что она нерешительно спросила:
— Слава! Если бы небо могло разговаривать, что бы оно сказало?
— Думаю, ничего, — сдержанно ответил он.
— А я думаю, правду, Слава. Небо не стало бы лгать.
***
А представь, Слава, если бы и впрямь сказало. Оно видело столько, сколько не выдержит никто. Оно было и будет, вечно, оно одно. Оно будет, когда закончится то, что есть сейчас, и наступит другое, чтобы когда-нибудь тоже кончиться.
Слава долго смотрел в окно, на беззвездную темную гладь, низко нависшую над землей, и разглаживал тысячные и сторублевые купюры, легонько шуршащие в застывшей тишине. Он поднял глаза к небу едва ли не с вызовом. Он хотел правды, но конечность человеческая и бесконечность природы сделали ее такой неприглядной. И что-то болело в ускользающей убежденности, но отвращение ли это было к присвоенным деньгам или смирение с тем, что они — ничего не значат, так бессмысленно мгновенны в сравнении с вечностью, — не разобрать.
— И где? Где твоя... правда? — прошептал Слава. Вдалеке послышался гром.
Славе приснилось, что он стоит в школьном классе, залитом лунным светом. Колебалась в воздухе пыль, и вдали что-то падало с оглушающим грохотом, словно пытаясь разорвать саму ночь этими глухими ударами. Никого. Мертвая тишина, запах земли и покачивающиеся за окном деревья. Об этом он говорил Зиночке. О тихом блаженстве, пахнущем тленом.
Неужели правда в этой пустой комнате? Тесной, немного глупой, такой, чтобы до любого дошло. И та дорога, которой Слава пришел к этой правде, те хрупкие крылышки, принесшие его сюда, были настоящим поражением. Давай, обнажай свои протесты, и, быть может, далекий грохот ответит тебе, для чего понадобилось ограничить свободу и как не надоело другим править свои одинаковые судьбы.
— Это ты выбираешь? Ты сказал, что выберешь слабых и плюнешь в лицо?.. — спросило эхо голосом голубоглазого восьмиклассника.
Славе приснилось, что он снова ребенок и во дворе прыгает со звонких гаражей. Смех кругом растворялся в пыльном летнем воздухе. Слава должен был упасть в мокрую высокую траву, но земля под ним расступается, и он падает ниже, ниже, пока не ощущает саму бездну, с небом лицом к лицу. Оно, как дьявол, темное, оно тревожно колыхалось и плакало. Нечестно было, ходя под необъятным небосводом, доверять тем, кто столько решил за тебя.
Сюда не ходи, этого не делай, так не говори, невежливо, уважай, потому что попросили... Ты это, конечно же, ненавидишь, но вынужден смириться. И это не ты, а кто-то другой заставлял Зиночку скидывать то, что плохо лежит, в по-детски наивный шопер с игрушечными медвежатами.
Легенды гласят, что тот, кому откроется правда, не останется прежним. Славе не хотелось преклоняться — хотелось быть, ну, хотя бы на равных. Он скривился на мальчишек, с которыми бегал во дворе и навсегда отступил в тень. Остался в одиночестве: чтобы шепот бездны не слышался так отчетливо.
Над мировоззрением Славы, казалось, порхали демоны, а он прятал глаза, не мог воспротивиться. Подавиться смирением — невыносимо. Хлесткие фразы скрывали эту истину.
Слава, настоящий Слава, стоял в школьном классе, залитом лунным светом, и вслушивался в неизменный грохот вдали.
— И вообще, не переживай. Легко бить Олю, она слабее?..
***
Слава проснулся. Темно в комнате. Хорошенькие нарисованные девочки смотрели на него с плакатов на стене. На одеяле свернулась кошка. Под столом горели презрением чьи-то крошечные дьявольские глаза. За монитором — две иконки и кружка с недопитым чаем.
Слава встал с кровати, решительно подошел к столу и наклонился. Светились два круглых разъема на системном блоке. Вспомнив что-то, Слава подскочил к окну. На подоконнике беззащитно жались те самые купюры, которые он перебирал перед сном. Он разгладил их, пересчитал. Тревога что-то нашептывала в темной комнате, но небо — небо молчало. Не лгало, не говорило правду. Слава со злобой смял купюры и спрятал, громко хлопнув ящиком стола.
Очередной кошмар, не больше.
— Думаешь, я тебя боюсь?
Маленькая, со слипшимися темными волосами, из седьмого, должно быть, класса — она что-то искала взглядом за спиной Славы, ее рука рывками сползала по дверному косяку. Слава выпрямился, чтобы казаться выше.
— Думаю, боишься, — строго ответил он и, подождав немного, крикнул ей, как собаке: — Убирайся отсюда!
Она мгновенно исчезла в бескровной полутьме школьного коридора. Звук расстегивающихся металлических пуговиц, разъезжающихся замков, шелест курток стали громче — менее робкими. Слава молча обернулся к Зиночке, спрятавшейся между рядами одежды. На ее белой руке — раскрытый плюшевый шопер, такой по-детски наивный, с игрушечными медвежатами. Зиночка трясла карманы и доставала деньги, конфеты, что угодно — под пристальным вниманием Славы.
— Закончила? ...Что там? — спросил он.
— Вот.
Зиночка протянула две поблеклых тысячных купюры, которые, видно, держала отдельно, чтобы отдать Славе.
— Кайф, — кивнул он, небрежно свернув их. — Остальное потом. Давай, уходим.
Слава потянул ее за собой, в широкий, хмурый коридор, неохотно вбирающий в себя брызги мартовского солнца; на обжигающе-холодный воздух. Зиночка едва успевала за быстрыми шагами Славы. Он остановился перед дверями школы и еще раз ощупал мятые купюры, сунув руку в карман незастегнутой куртки... Зиночка, боясь спугнуть трепетное чувство в груди, бросилась ему на шею и поцеловала в пунцовую щеку. Смешно повисла, подтянувшись к его лицу. Слава с жестокой безучастностью выдавил из себя:
— Что?
Зиночка не ответила. Он обернулся и долго смотрел на ее округлое лицо со вздернутым носом, сахарно-бледными губами и темными, такими пугающе-бездонными глазами.
— Ничего...
Пока они стояли возле школы, мимо них прошли несколько восьми- или девятиклассников. Девушка впереди потянула за рукав пальто голубоглазого юношу, идущего с ней под руку, шепнула ему что-то, косясь на Славу. Она с мольбой улыбнулась багряными губами, и юноша неуверенно кивнул. Кашлянув, он подошел ближе к Зиночке и Славе, а его подруга осталась с одноклассницами, вставшими позади.
— Эй! Это ты Олю ударил и сказал, что в лицо ей плюнешь, если она расскажет, что ты вор? — сорвался хрипловатый голос юноши.
— Ну, и? — протянул Слава. Зиночка опустила взгляд на облупившиеся ступени. На грязный растаявший снег, одиноко хлюпающий у нее под ногами.
— Легко бить девушек, да?
— Нормально, — пожал плечами Слава.
— Выбираешь тех, кто слабее? — повысил голос голубоглазый юноша, хотя Слава стоял в двух метрах от него.
— Не выбираю. Ты слышал что-нибудь про равноправие полов? Или про свободу совести? Можешь ударить меня, но не обижайся, что я дам тебе в ответ.
Зиночка повернула голову и взглянула на прозрачное, высокое небо, стряхнувшее с себя рассветные облачка.
— Не переживай, еще ударю. — Юноша отошел к одноклассницам, не спуская со Славы гордого взгляда и сжимая узловатые ладони. — И вообще, пятые и седьмые любой обнести сможет.
— В следующий раз постарайся получше, братан, у тебя почти получилось, — крикнул ему вслед Слава. Удовлетворенно ухмыльнулся и приобнял Зиночку.
— Слышала? Хотят, чтобы мы и у них что-нибудь... Чего опять молчишь?
— Что-то не так, Слава, — тихо проговорила Зиночка. Она немного стеснялась тревоги. Ей было неловко сомневаться, когда Слава так убежден в своей правоте.
— Да, Зина, — вздохнул он. — Не смотри так на небо, — и невольно взглянул на него, необъятное, голубое, бесстрастно стерегущее насупленный город. — Там высоко и, значит, очень одиноко. Мы с тобой, мы, знаешь, насколько выше других? И поэтому мы одни. Так ведь?
Так, так. Когда Зиночка еще не догадывалась, что станет подругой Славы, она думала, что он такой... бездушный? Представляла его лицо, безжалостное, как некролог, и возникали из ниоткуда могильное молчание и подвальная сырость.
Но он, должно быть, рад был разделить убеждения с Зиночкой. Она так искренне удивлялась тому, насколько просто он говорил, что люди слишком слепы в своем доверии. Нужно сначала попробовать то притягательное, что строго-настрого запрещено, и тогда уж можно подумать о том, хорошо это или плохо.
Зиночка видела, сколько оставалось нерешенного, небезопасного. Но по-другому никак. Слава ведь рисковал, когда выбрал пойти против всех, своей дорогой. Он добился признания — его и вправду боялись.
Она достала смятые холодные наушники. Распутывала их замерзшими пальцами, пока Слава молча шел позади. Он проводил ее до остановки, и Зиночкино сердце так горько рвалось из груди, когда они прощались, что она нерешительно спросила:
— Слава! Если бы небо могло разговаривать, что бы оно сказало?
— Думаю, ничего, — сдержанно ответил он.
— А я думаю, правду, Слава. Небо не стало бы лгать.
***
А представь, Слава, если бы и впрямь сказало. Оно видело столько, сколько не выдержит никто. Оно было и будет, вечно, оно одно. Оно будет, когда закончится то, что есть сейчас, и наступит другое, чтобы когда-нибудь тоже кончиться.
Слава долго смотрел в окно, на беззвездную темную гладь, низко нависшую над землей, и разглаживал тысячные и сторублевые купюры, легонько шуршащие в застывшей тишине. Он поднял глаза к небу едва ли не с вызовом. Он хотел правды, но конечность человеческая и бесконечность природы сделали ее такой неприглядной. И что-то болело в ускользающей убежденности, но отвращение ли это было к присвоенным деньгам или смирение с тем, что они — ничего не значат, так бессмысленно мгновенны в сравнении с вечностью, — не разобрать.
— И где? Где твоя... правда? — прошептал Слава. Вдалеке послышался гром.
Славе приснилось, что он стоит в школьном классе, залитом лунным светом. Колебалась в воздухе пыль, и вдали что-то падало с оглушающим грохотом, словно пытаясь разорвать саму ночь этими глухими ударами. Никого. Мертвая тишина, запах земли и покачивающиеся за окном деревья. Об этом он говорил Зиночке. О тихом блаженстве, пахнущем тленом.
Неужели правда в этой пустой комнате? Тесной, немного глупой, такой, чтобы до любого дошло. И та дорога, которой Слава пришел к этой правде, те хрупкие крылышки, принесшие его сюда, были настоящим поражением. Давай, обнажай свои протесты, и, быть может, далекий грохот ответит тебе, для чего понадобилось ограничить свободу и как не надоело другим править свои одинаковые судьбы.
— Это ты выбираешь? Ты сказал, что выберешь слабых и плюнешь в лицо?.. — спросило эхо голосом голубоглазого восьмиклассника.
Славе приснилось, что он снова ребенок и во дворе прыгает со звонких гаражей. Смех кругом растворялся в пыльном летнем воздухе. Слава должен был упасть в мокрую высокую траву, но земля под ним расступается, и он падает ниже, ниже, пока не ощущает саму бездну, с небом лицом к лицу. Оно, как дьявол, темное, оно тревожно колыхалось и плакало. Нечестно было, ходя под необъятным небосводом, доверять тем, кто столько решил за тебя.
Сюда не ходи, этого не делай, так не говори, невежливо, уважай, потому что попросили... Ты это, конечно же, ненавидишь, но вынужден смириться. И это не ты, а кто-то другой заставлял Зиночку скидывать то, что плохо лежит, в по-детски наивный шопер с игрушечными медвежатами.
Легенды гласят, что тот, кому откроется правда, не останется прежним. Славе не хотелось преклоняться — хотелось быть, ну, хотя бы на равных. Он скривился на мальчишек, с которыми бегал во дворе и навсегда отступил в тень. Остался в одиночестве: чтобы шепот бездны не слышался так отчетливо.
Над мировоззрением Славы, казалось, порхали демоны, а он прятал глаза, не мог воспротивиться. Подавиться смирением — невыносимо. Хлесткие фразы скрывали эту истину.
Слава, настоящий Слава, стоял в школьном классе, залитом лунным светом, и вслушивался в неизменный грохот вдали.
— И вообще, не переживай. Легко бить Олю, она слабее?..
***
Слава проснулся. Темно в комнате. Хорошенькие нарисованные девочки смотрели на него с плакатов на стене. На одеяле свернулась кошка. Под столом горели презрением чьи-то крошечные дьявольские глаза. За монитором — две иконки и кружка с недопитым чаем.
Слава встал с кровати, решительно подошел к столу и наклонился. Светились два круглых разъема на системном блоке. Вспомнив что-то, Слава подскочил к окну. На подоконнике беззащитно жались те самые купюры, которые он перебирал перед сном. Он разгладил их, пересчитал. Тревога что-то нашептывала в темной комнате, но небо — небо молчало. Не лгало, не говорило правду. Слава со злобой смял купюры и спрятал, громко хлопнув ящиком стола.
Очередной кошмар, не больше.
Павлюк Яна. Полёт в Гонолупу, или Парадоксы возраста
Полёт в Гонолупу, или Парадоксы возраста
«Понедельник. Дорогой дневник, вот и начинается последняя неделя зимы. Парадокс: февраль – самый короткий месяц, но кажется, что он тянется вечно…»
Ладно, никакого дневника у неё не было. Она не из тех, кто проговаривает и структурирует свои мысли и переживания. Она любит хаос. Правда, упорядоченный хаос. Но с виду не скажешь: она прилежная, робкая и послушная. Пытается слушать себя, но получается плохо. Она слушает, но не слышит. И её никто не слышит.
Она бежит после уроков домой – не хочет, как все, толпиться у ящика с «валентинками», ей не нужно внимание. Но она его получает: заледенелый снежок прилетает прямо в нос, и рот заполняется кровью, солёной и тёплой. Она поворачивается к детям, которые развлекались, бросая эти самые снежки в случайных прохожих, и оскаливается. Дети начинают смешно дразниться, а она бросает красный от крови снежок в стену школы, удивляется причудливой кляксе и фотографирует на смартфон.
Кровь всё ещё не останавливается, и она запрокидывает голову вверх. Там – бесконечная парча неба, синеву которого вспарывает белый шрам от пролетающего самолета. Куда летят эти люди? Она представляет Бангкок и Сингапур. Майами и Канберру. Пытается представить Гонолулу, хотя даже не представляет себе, где он (или она?) находится. Неожиданно разозлившись, она одёргивает себя и вспоминает, что люди летят в какой-нибудь Челябинск или в Магнитогорск. И больше не представляет Бангкок или Гонолулу. Она представляет свой вечер…
Вечер наступает, и она идёт навестить бабушку и дедушку. Они угощают её пирогами и спрашивают, как дела в школе. Но вопрос не услышан, вернее, проигнорирован – она вспоминает, какими они были раньше. Дедушка раньше слушал «ДДТ» и ездил на УАЗе. Сейчас он слушает бабушку и смотрит телевизор.
Она спрашивает бабушку, были ли они с дедом в Гонолулу. Бабушка отвечает, что они были в Кавминводах. Там есть пальмы. Дедушка говорит, что не помнит там пальм. Бабушка говорит, что та неделя была отличной. Дедушка спорит и говорит, что та неделя была лучшей. Она спрашивает у дедушки и бабушки, будут ли ещё когда-то отличные недели в их жизни. Они не отвечают и говорят, что ей пора домой.
Она заходит домой и прыгает под одеяло к сестре. Ноги сестры ледяные, хотя она давно лежит под одеялом. Она греет ноги сестры, а сестра щиплет её пальцами ног. Потом она идёт к другой сестре, но та уже спит. Она убирает её волосы с горячего лба – температура так и не спадает третий день. Сестра выдыхает тихий стон. Она смотрит и думает о том, что не знает своих сестёр. Смотрит на них каждый день, но не видит. Потом она думает о себе, о том, что её тоже никто не видит, – парадокс очевидности. И засыпает.
«Вторник. Дорогой дневник, я сегодня решила устроить день, когда не буду врать никому ни секунды. Кажется, что это будет отличный день…»
Нет, она не ведёт дневник, ей хватает её памяти. Ведь воспоминания непостоянны, но их можно регулировать, ими можно управлять. Главное – не записывать их. Если не написано – значит их могло не быть. Значит, можно всё исправить.
Она пробирается сквозь толпу на остановке, чтобы первой заскочить в автобус, и падает на сиденье. Автобус наполняется людьми и, кажется, раздувается в размерах. Наконец сжимает зубами дверей пуховики последних втиснувшихся в него людей и, фыркая, покачиваясь и потрескивая, как перезрелый арбуз, нехотя трогается с места. К ней подходит пожилая женщина и требует уступить место. Она отвечает, что хоть женщина и выглядит потрёпанно, но всё же она не старуха и вполне может постоять. Это была первая правда за день. Но в ответ получила не благодарность, а крик и упрёки в невоспитанности. Хотя разве ТАК кричат воспитанные люди?
Она заходит в школу и на приветствие охранника отвечает, что день не такой уж и добрый, а если он считает его таковым, то может держать своё мнение при себе. Охранник юмор не оценил (вернее, оценил криком воспитанной женщины из автобуса), но ей всё равно – для неё это вторая на сегодня правда.
На вопрос учителя о домашнем задании она (единственная!) говорит, что готова, и отвечает на все вопросы правильно. Но за мгновение до того, как учитель собирается поставить ей «отлично», выпаливает, что выучила всё это просто так, на автомате, и что завтра точно так же забудет это, потому что это пыль и что она не видит никакой ценности в большинстве знаний, дающихся ей в школе. Оценка учителя моментально меняется на «неуд», выговор с нравоучениями перед всем классом и записью в дневник с вызовом родителей в школу.
Её родители… Мама любит её без остатка и без «но». Но она, как и все, не слышит её. Папа – единственный, кто слышит. Но он далеко, и у него нет времени её слушать. Парадокс. Это слово недавно появилось в её жизни, и она всё ещё продолжает с ним знакомиться. Часто думает о нём и иногда пробует на вкус. Сегодня оно холодное и колючее. Как туман. Или как мороженое. А цвет? Наверное, синий. Или загадочный индиго.
Она заходит домой и на вопрос мамы о прошедшем дне сразу отвечает, что её вызывают в школу. Потом долго стоит в душе, подставляя горячей воде холодный лоб. А мама что-то говорит и говорит…
Выйдя из ванны, она собирается пройтись по комнатам и пожелать всем доброй ночи, но вспоминает, что это день, когда она не врёт, и молча идёт спать. Ведь как минимум её ночь доброй не будет.
«Среда. Дорогой дневник, сегодня мама идёт в школу, потому что её вызвали…» Так могла бы написать она, но дневник она не ведёт.
Её маме объясняют, что её дочь устроила диверсию, что её дочь устроила клоунаду, что её дочь дискредитирует роль педагога и функции образования. Мама слушает и говорит, что дочь будет наказана. Но это слова для чужих. А глазами мама с ней. Поэтому ничего удивительного в том, что, выйдя из школы, мама ведет её в магазин. Там нет ничего подходящего. Ничего такого, что было бы не стыдно надеть перед тем, чьё мнение может быть важным. Ситуация такая же, как и с самолётами, – они летят в никуда, вместо того, чтобы лететь в Гонолулу. Мама открывает приложение в телефоне и заказывает в интернет-магазине.
«Четверг. Дорогой дневник, сегодня будет ненавистный день в школе, а потом я обязана буду ехать на день рождения родственницы…»
Она думает: можно ли сделать так, чтобы этот день уже скорее закончился, ещё не успев начаться? Так бы она написала в дневнике, если бы он у неё был.
Она заходит в класс и моментально считывает в равнодушных чужих глазах, что она странная. Что она ненормальная. Что с ней лучше не связываться. В его глазах она читает другое – она классная. Что с ней неплохо было бы связаться. А она задумывается о том, что у них может быть загородный дом, кудрявый пёс (она забыла эту породу) и хвойный лес за окном. Она думает, что между ними может быть что-то искреннее, что-то нежное, что-то… Но ей нужно ехать к родственнице на день рождения.
Она сидит за столом, за которым собралась вся семья. Все едят рыбу и какой-то заморский сыр – очень дорогой, а потому очень вкусный (так смешно утверждают собравшиеся). Приходит время для торта. Она смотрит на него и видит красоту – ту, которой нет в настоящей жизни. Все поздравляют именинницу, желают ей всего хорошего. А она говорит, что этот торт – нереальная красота. Именинница отвечает, что никакая это не красота и предлагает быстрее его резать. Она поражается, что красоту можно резать и есть, и выходит из-за стола.
«Пятница. Дорогой дневник, сегодня ничего не произойдёт…»
Она всё ещё не ведёт дневник, и в этот день действительно не происходит ничего, что можно было записать в него, если бы она его вела. Она ложится спать пораньше.
«Суббота. Дорогой дневник, я влюбилась…»
Она просыпается. Потягиваясь, открывает заметки в телефоне и пишет первую фразу своего дневника. Потом стирает. Весь день ходит по квартире, вернее, летает. Потому что он ей написал. Написал, что считает её крутой. А она ответила, что предпочла бы, чтобы он считал её загадочной. Он написал, что ему нравится, как она смотрит на мир. А она ответила, что он даже не представляет, как она смотрит на мир. И радостно смеётся – на душе удивительно хорошо. Тоже парадокс – но сегодня он изумрудно-розовый. И бархатно-тёплый (ого, сегодня он даже осязаемый!) И они договариваются увидеться завтра…
Чтобы быстрее наступило завтра, она снова ложится спать в детское время, ещё вчера презираемое, послушно закрывает глаза, но ещё долго слушает шорох занавески, звук мотора холодильника и кашель младшей сестры. Кажется, сестра выздоравливает.
«Воскресенье. Дорогой дневник…»
Она кричит на всю квартиру, кричит на весь двор и, кажется, на весь район. Но она делает это так, что её не слышит ни одна живая душа. Она отменяет встречу с ним, потому что сегодня случился семейный праздник. Мама заказала столик в кафе и будет нас баловать фастфудом, который в другие дни под запретом. Младшая сестра выздоровела. Мама говорит, что это чудо. А она думает, что это антибиотики.
В кафе нет его, зато есть сёстры и мама. А ещё там есть окно, в котором трещинками паутины проступают прощальные узоры уходящей зимы. Этот февраль сгинет навсегда, но она продолжит в нём жить. «Снова парадокс», – подумала она, глядя на тающий шарик мороженого цвета февраля – мяты и шоколада.
Сквозь стену из стекла она смотрит на мир за границами кафе. Всё самое интересное разворачивается наверху. Она поднимает взгляд в небо и видит самолёт, который разрезает небо, словно гарпун капитана Ахавы вспарывает брюхо Моби Дика.
«Девочки, давайте полетим куда-нибудь?» – восклицает счастливая мама. С таким предложением спорить невозможно, и все одобрительно кричат «ура!». На правах старшей она улыбается маме, а мама понимающе говорит: «Это был отличный день». Младшая сестра добавляет басом: «Дамы, это была отличная неделя». И все смеются.
«Понедельник. Я поняла, что слышать, слушать, видеть и смотреть – это не главное. Важно чувствовать. Но это тоже парадокс. Парадокс возраста.
P.S: это была и вправду отличная неделя. Но как же я рада, что она закончилась. Как же я рада приближению этой неумолимой и бесстыдной весны…»
Полёт в Гонолупу, или Парадоксы возраста
«Понедельник. Дорогой дневник, вот и начинается последняя неделя зимы. Парадокс: февраль – самый короткий месяц, но кажется, что он тянется вечно…»
Ладно, никакого дневника у неё не было. Она не из тех, кто проговаривает и структурирует свои мысли и переживания. Она любит хаос. Правда, упорядоченный хаос. Но с виду не скажешь: она прилежная, робкая и послушная. Пытается слушать себя, но получается плохо. Она слушает, но не слышит. И её никто не слышит.
Она бежит после уроков домой – не хочет, как все, толпиться у ящика с «валентинками», ей не нужно внимание. Но она его получает: заледенелый снежок прилетает прямо в нос, и рот заполняется кровью, солёной и тёплой. Она поворачивается к детям, которые развлекались, бросая эти самые снежки в случайных прохожих, и оскаливается. Дети начинают смешно дразниться, а она бросает красный от крови снежок в стену школы, удивляется причудливой кляксе и фотографирует на смартфон.
Кровь всё ещё не останавливается, и она запрокидывает голову вверх. Там – бесконечная парча неба, синеву которого вспарывает белый шрам от пролетающего самолета. Куда летят эти люди? Она представляет Бангкок и Сингапур. Майами и Канберру. Пытается представить Гонолулу, хотя даже не представляет себе, где он (или она?) находится. Неожиданно разозлившись, она одёргивает себя и вспоминает, что люди летят в какой-нибудь Челябинск или в Магнитогорск. И больше не представляет Бангкок или Гонолулу. Она представляет свой вечер…
Вечер наступает, и она идёт навестить бабушку и дедушку. Они угощают её пирогами и спрашивают, как дела в школе. Но вопрос не услышан, вернее, проигнорирован – она вспоминает, какими они были раньше. Дедушка раньше слушал «ДДТ» и ездил на УАЗе. Сейчас он слушает бабушку и смотрит телевизор.
Она спрашивает бабушку, были ли они с дедом в Гонолулу. Бабушка отвечает, что они были в Кавминводах. Там есть пальмы. Дедушка говорит, что не помнит там пальм. Бабушка говорит, что та неделя была отличной. Дедушка спорит и говорит, что та неделя была лучшей. Она спрашивает у дедушки и бабушки, будут ли ещё когда-то отличные недели в их жизни. Они не отвечают и говорят, что ей пора домой.
Она заходит домой и прыгает под одеяло к сестре. Ноги сестры ледяные, хотя она давно лежит под одеялом. Она греет ноги сестры, а сестра щиплет её пальцами ног. Потом она идёт к другой сестре, но та уже спит. Она убирает её волосы с горячего лба – температура так и не спадает третий день. Сестра выдыхает тихий стон. Она смотрит и думает о том, что не знает своих сестёр. Смотрит на них каждый день, но не видит. Потом она думает о себе, о том, что её тоже никто не видит, – парадокс очевидности. И засыпает.
«Вторник. Дорогой дневник, я сегодня решила устроить день, когда не буду врать никому ни секунды. Кажется, что это будет отличный день…»
Нет, она не ведёт дневник, ей хватает её памяти. Ведь воспоминания непостоянны, но их можно регулировать, ими можно управлять. Главное – не записывать их. Если не написано – значит их могло не быть. Значит, можно всё исправить.
Она пробирается сквозь толпу на остановке, чтобы первой заскочить в автобус, и падает на сиденье. Автобус наполняется людьми и, кажется, раздувается в размерах. Наконец сжимает зубами дверей пуховики последних втиснувшихся в него людей и, фыркая, покачиваясь и потрескивая, как перезрелый арбуз, нехотя трогается с места. К ней подходит пожилая женщина и требует уступить место. Она отвечает, что хоть женщина и выглядит потрёпанно, но всё же она не старуха и вполне может постоять. Это была первая правда за день. Но в ответ получила не благодарность, а крик и упрёки в невоспитанности. Хотя разве ТАК кричат воспитанные люди?
Она заходит в школу и на приветствие охранника отвечает, что день не такой уж и добрый, а если он считает его таковым, то может держать своё мнение при себе. Охранник юмор не оценил (вернее, оценил криком воспитанной женщины из автобуса), но ей всё равно – для неё это вторая на сегодня правда.
На вопрос учителя о домашнем задании она (единственная!) говорит, что готова, и отвечает на все вопросы правильно. Но за мгновение до того, как учитель собирается поставить ей «отлично», выпаливает, что выучила всё это просто так, на автомате, и что завтра точно так же забудет это, потому что это пыль и что она не видит никакой ценности в большинстве знаний, дающихся ей в школе. Оценка учителя моментально меняется на «неуд», выговор с нравоучениями перед всем классом и записью в дневник с вызовом родителей в школу.
Её родители… Мама любит её без остатка и без «но». Но она, как и все, не слышит её. Папа – единственный, кто слышит. Но он далеко, и у него нет времени её слушать. Парадокс. Это слово недавно появилось в её жизни, и она всё ещё продолжает с ним знакомиться. Часто думает о нём и иногда пробует на вкус. Сегодня оно холодное и колючее. Как туман. Или как мороженое. А цвет? Наверное, синий. Или загадочный индиго.
Она заходит домой и на вопрос мамы о прошедшем дне сразу отвечает, что её вызывают в школу. Потом долго стоит в душе, подставляя горячей воде холодный лоб. А мама что-то говорит и говорит…
Выйдя из ванны, она собирается пройтись по комнатам и пожелать всем доброй ночи, но вспоминает, что это день, когда она не врёт, и молча идёт спать. Ведь как минимум её ночь доброй не будет.
«Среда. Дорогой дневник, сегодня мама идёт в школу, потому что её вызвали…» Так могла бы написать она, но дневник она не ведёт.
Её маме объясняют, что её дочь устроила диверсию, что её дочь устроила клоунаду, что её дочь дискредитирует роль педагога и функции образования. Мама слушает и говорит, что дочь будет наказана. Но это слова для чужих. А глазами мама с ней. Поэтому ничего удивительного в том, что, выйдя из школы, мама ведет её в магазин. Там нет ничего подходящего. Ничего такого, что было бы не стыдно надеть перед тем, чьё мнение может быть важным. Ситуация такая же, как и с самолётами, – они летят в никуда, вместо того, чтобы лететь в Гонолулу. Мама открывает приложение в телефоне и заказывает в интернет-магазине.
«Четверг. Дорогой дневник, сегодня будет ненавистный день в школе, а потом я обязана буду ехать на день рождения родственницы…»
Она думает: можно ли сделать так, чтобы этот день уже скорее закончился, ещё не успев начаться? Так бы она написала в дневнике, если бы он у неё был.
Она заходит в класс и моментально считывает в равнодушных чужих глазах, что она странная. Что она ненормальная. Что с ней лучше не связываться. В его глазах она читает другое – она классная. Что с ней неплохо было бы связаться. А она задумывается о том, что у них может быть загородный дом, кудрявый пёс (она забыла эту породу) и хвойный лес за окном. Она думает, что между ними может быть что-то искреннее, что-то нежное, что-то… Но ей нужно ехать к родственнице на день рождения.
Она сидит за столом, за которым собралась вся семья. Все едят рыбу и какой-то заморский сыр – очень дорогой, а потому очень вкусный (так смешно утверждают собравшиеся). Приходит время для торта. Она смотрит на него и видит красоту – ту, которой нет в настоящей жизни. Все поздравляют именинницу, желают ей всего хорошего. А она говорит, что этот торт – нереальная красота. Именинница отвечает, что никакая это не красота и предлагает быстрее его резать. Она поражается, что красоту можно резать и есть, и выходит из-за стола.
«Пятница. Дорогой дневник, сегодня ничего не произойдёт…»
Она всё ещё не ведёт дневник, и в этот день действительно не происходит ничего, что можно было записать в него, если бы она его вела. Она ложится спать пораньше.
«Суббота. Дорогой дневник, я влюбилась…»
Она просыпается. Потягиваясь, открывает заметки в телефоне и пишет первую фразу своего дневника. Потом стирает. Весь день ходит по квартире, вернее, летает. Потому что он ей написал. Написал, что считает её крутой. А она ответила, что предпочла бы, чтобы он считал её загадочной. Он написал, что ему нравится, как она смотрит на мир. А она ответила, что он даже не представляет, как она смотрит на мир. И радостно смеётся – на душе удивительно хорошо. Тоже парадокс – но сегодня он изумрудно-розовый. И бархатно-тёплый (ого, сегодня он даже осязаемый!) И они договариваются увидеться завтра…
Чтобы быстрее наступило завтра, она снова ложится спать в детское время, ещё вчера презираемое, послушно закрывает глаза, но ещё долго слушает шорох занавески, звук мотора холодильника и кашель младшей сестры. Кажется, сестра выздоравливает.
«Воскресенье. Дорогой дневник…»
Она кричит на всю квартиру, кричит на весь двор и, кажется, на весь район. Но она делает это так, что её не слышит ни одна живая душа. Она отменяет встречу с ним, потому что сегодня случился семейный праздник. Мама заказала столик в кафе и будет нас баловать фастфудом, который в другие дни под запретом. Младшая сестра выздоровела. Мама говорит, что это чудо. А она думает, что это антибиотики.
В кафе нет его, зато есть сёстры и мама. А ещё там есть окно, в котором трещинками паутины проступают прощальные узоры уходящей зимы. Этот февраль сгинет навсегда, но она продолжит в нём жить. «Снова парадокс», – подумала она, глядя на тающий шарик мороженого цвета февраля – мяты и шоколада.
Сквозь стену из стекла она смотрит на мир за границами кафе. Всё самое интересное разворачивается наверху. Она поднимает взгляд в небо и видит самолёт, который разрезает небо, словно гарпун капитана Ахавы вспарывает брюхо Моби Дика.
«Девочки, давайте полетим куда-нибудь?» – восклицает счастливая мама. С таким предложением спорить невозможно, и все одобрительно кричат «ура!». На правах старшей она улыбается маме, а мама понимающе говорит: «Это был отличный день». Младшая сестра добавляет басом: «Дамы, это была отличная неделя». И все смеются.
«Понедельник. Я поняла, что слышать, слушать, видеть и смотреть – это не главное. Важно чувствовать. Но это тоже парадокс. Парадокс возраста.
P.S: это была и вправду отличная неделя. Но как же я рада, что она закончилась. Как же я рада приближению этой неумолимой и бесстыдной весны…»
Лейнвебер Артем. Маскарад
- Знаешь, я недавно прочитала «Маскарад» Лермонтова, – увлечённо говорила на перемене Катя. – Там речь идёт как будто о наших. Все персонажи – такие же лицемеры…
Не знаю, почему я не замечал Катю раньше. Как и я, в школе она всё время проводила одна, потому что также не любила наших одноклассников. Да, год или полтора назад мы сблизились на почве нелюбви к своему классу. Я заметил Катю, когда она выбежала из кабинета в слезах, потому что услышала, как над ней смеются на задних партах. И я тоже всё прекрасно слышал и пошёл за ней, чтобы успокоить. Уверен, что и обо мне тогда тоже говорили далеко не самые приятные вещи.
Катю действительно можно назвать красивой девушкой, ведь своей внешностью она явно выделяется на фоне остальных одноклассниц: у неё выразительные, синие – синие, как бескрайний океан, и такие же глубокие глаза; маленький курносый носик и утончённый подбородок. Она – мой ангел во плоти… Самое доброе и невинное существо, которое я встречал в своей жизни.
Много времени мы проводим вместе и часто говорим об обществе, в котором находимся, как будто в тюрьме, вот уже десять лет, и которое нам неприятно. Осуждаем поведение и поступки людей из этого общества.
В нашем классе есть девушка Лера, также отстранённая от всех. Часто над ней насмехаются прямо за её спиной – причем делают это абсолютно открыто, – но она всё терпит. Причиной насмешек в её адрес всегда становятся внешность и не совсем обычное поведение. Да, действительно, Леру нельзя назвать привлекательной: прыщавая, немного косоглазая, пухлая, а потому больше похожая на бочку с руками и ногами, неуклюже переваливающуюся из стороны в сторону при ходьбе; и волосы её, всегда немытые и сальные, напоминают скорее щупальца осьминога, расползшиеся по широким, похожим на мужские плечам. А что касается поведения… Мне доводилось беседовать с ней несколько раз, и я всегда удивлялся ее непостоянству. Во время разговора она то визгливо кричит, то невнятно тараторит, то невпопад смеется, то хмурит брови, то мечтательно закатывает глаза, а иногда даже злится, при этом как-то странно жестикулируя. Понятное дело, из-за таких манер окружающие старались её избегать, хотя она никому не причиняла вреда…
На уроке, когда мои «любимые» одноклассники в очередной раз смеялись над Лерой, я заметил нечто странное: на руках и шеях у некоторых из них вдруг образовались синеватые пятна, очень похожие на трупные. Меня поразило увиденное, и я сказал об этом Кате, но она лишь ответила, что в последнее время у меня какие-то странные шутки. Однако я точно знаю, что мне не показалось. И я не могу так просто выбросить это из головы!
Потом, за пару минут до звонка, откуда-то с задних парт я услышал ещё одну шутку о Лере, граничащую с оскорблением, однако довольно смешную. Все, кто сидел поблизости, посмеялись. И я тоже не смог сдержать улыбки. Не смогла и Катя.
Бедная Лера! Как же ей не повезло с окружением! Она ведь наверняка чувствует себя одинокой…
- Хм… – у Кати дрожали уголки губ. Она пыталась сдержать улыбку, чтобы что-то сказать мне, и через несколько мгновений у неё всё-таки получилось перебороть смех и принять серьёзное, хотя и немного наигранное, выражение лица. – Почему они все опять так шутят?.. Все десять лет они жестоко смеются над ней! Но мы ведь никак не можем повлиять на это…
- Да, и это самое печальное, – тихо вздохнул я.
А потом случайно бросил взгляд на Катину белоснежную шею и обомлел… На ней тоже было синее пятно! И оно было здоровым, раза в два больше, чем у других, тем более какая-то часть этого пятна была скрыта под кружевным воротником блузки, что ужасало. А вдруг оно уже разрослось до плеча?.. Но ведь она не поверит, если я об этом скажу.
Казалось, будто мой ангел начал медленно умирать.
Прогулявшись после школы с Катей и проводив её до подъезда, я случайно столкнулся с Лерой. Она, нелепо улыбаясь, предложила немного пройтись вдвоём. Я любезно согласился, но через некоторое время пожалел о своём решении…
Поначалу всё было в порядке, мы просто болтали на разные темы (и я терпел её как всегда странное поведение), но потом, когда вдруг возникла неловкая пауза, Лера перешла на глупые шутки и сама же над ними смеялась, и меня раздражал ее скрипучий смех. Некоторые её анекдоты были совершенно несмешными, они вызывали у меня чувство стыда! Её юмор оказался таким же нелепым, как и её походка. Но, чтобы её не обидеть, я шёл с наклеенной улыбкой и заливался фальшивым смехом – таким, каким умел.
Затем на пути нам встретилась уродливая дряхлая собака с грустными глазами: почти вся облысевшая и кое-как стоящая на своих тонких, как ветки кустарника, лапах. Казалось, стоит на них слегка надавить, и они с хрустом сломаются на части.
Лера медленно подошла к этой несчастной собаке, начала её гладить и утешать. В её глазах читалось искреннее сочувствие, ну а я… Я же был абсолютно равнодушен к этому жалкому созданию – а вдруг она ещё и заразна? – но, чтобы Лера ни о чём таком не подумала, я сказал, что мне её жаль. Стоило только видеть эту картину … Просто смешно.
Позже, придя домой, я позвонил Кате, рассказал обо всём этом, и мы вместе посмеялись. Как же это странно – пытаться нарушить неловкое молчание тупыми шутками времён наших прабабушек! Утешать бездомных псин! И что у неё вообще тогда творилось в голове? Странная всё-таки эта Лера...
А после того как я поделился этой историей, Катя незаметно перевела тему разговора на одного из наших одноклассников, который постоянно унижается перед учителями, чтобы быть в списке любимчиков, а потом оскорбляет этих самых учителей за их же спинами. И мы начали осуждать его за это – да ведь он самый настоящий лицемер! – а потом ещё раз посмеялись над Лерой и закончили разговор.
Наверное, Катя ещё не заметила огромное пятно на своей шее.
Завтра в школе будет дискотека. Вход платный, а те, кто отказывается платить, идут на уроки. Конечно же, я заплатил, ведь грызть гранит науки совсем не было желания.
Посреди ночи я проснулся от того, что у меня сильно чесалась нога. Я потёр её пяткой другой ноги, но не успел погрузиться в сон, как вдруг опять почувствовал, что она чешется. Раздражённо встал с кровати, включил свет, посмотрел на ногу и ужаснулся…
На ней была гнойная рана, из которой выползло несколько червей. Я чуть было не закричал, но кое-как сдержался, чтобы не разбудить семью. В страхе и недоумении я стоял так ещё несколько минут, а потом пошёл в ванную, брезгливо собрал всех паразитов, ползающих по моей ноге, и наклеил на рану прямоугольную повязку, которую взял в аптечке. Но не думаю, что это сможет мне как-то помочь. А как же от неё воняло! Пахло гнилью. Казалось, что вот-вот стошнит, но я всё же пошёл обратно в постель и, перебарывая рвотные позывы, уснул.
Наутро я просто не знал, что мне делать…
На моих предплечьях образовались и гнойные раны, и трупные пятна. И запах стоял невыносимый! А ведь мне ещё идти на дискотеку… Я уже пообещал Кате, что приду.
Я не придумал ничего лучше, чем обмотать предплечья бинтами, прежде стряхнув всех вылезших паразитов, и истратить на них чуть ли не целый флакон маминых французских духов. Но это почти никак не помогло…
Придя в школу, я сразу же встретил Катю. Вокруг шеи у неё был завязан легкий шарф с каким-то причудливым узором, который, конечно же, что-то скрывал, но всё-таки действительно подходил к наряду. Стоя на некотором расстоянии от Кати, я почувствовал душистый аромат сирени, который пытался перебороть противный запах разложения, однако, как и в моём случае, тщетно.
Она подошла ко мне и с взглядом, полным недоумения и беспокойства, спросила:
- У тебя тоже есть эти пятна?..
Я показал ей свои предплечья и сказал:
- А помнишь, я говорил про пятна на руках и на шеях у наших?
Пятна у одноклассников… О нет! Кажется, теперь я понял, откуда они появились! И я сказал об этом Кате. Она не могла в это поверить.
Поднявшись на второй этаж, где проходила дискотека, мы подошли к своим одноклассникам, которые были одеты как-то ярко и вычурно – кто в худи, кто в толстовке, кто в свитшоте или в свитере, – однако модные вещи так и не смогли скрыть следы их разложения. И мы поняли, что стеснятся нам, в общем-то говоря, нечего.
Дискотека началась. Первое время всё было в порядке, но потом стало происходить нечто необъяснимое: у моих одноклассников и у многих других учеников начала чернеть кожа, а раны загноились… И у меня в том числе. Все те, с кем этого не происходило, с криком и визгом убежали с дискотеки, и вряд ли им в тот момент было до веселья.
Затем, спустя несколько минут, с нас начала сползать кожа – она будто бы плавилась и, как желе, с громким хлюпаньем падала на пол. Вытекли глазные яблоки… И в итоге мы все остались голыми скелетами. Сначала нас охватил сильнейший ужас, мы были в панике, но через некоторое время продолжили дискотеку, потому что все поняли, из-за чего это случилось, и смирились с произошедшим. Мы одинаковы… А я так не хотел этого признавать.
Я подарил Кате кровавую розу, из середины которой, когда я её протянул, вдруг показался червь. Уверен, были бы у неё в тот момент губы, она бы расплылась в улыбке. Но сейчас я любовался прекрасными чёрными впадинами в её черепе. По нам, будто бы дразня, прыгали разноцветные зайчики света от диско-шара…
На сегодняшней дискотеке все сбросили с себя маски, выставив напоказ свои гнилые души.
Все, кроме… кроме Леры. Не знаю, почему она здесь всё ещё стоит, но… по сравнению со всеми нами она – косоглазая, прыщавая, с вечно немытыми волосами и нелепой походкой, на протяжении всей школьной жизни бывшая объектом насмешек – выглядела совершенством. В один момент мне показалось, будто ее лицо озарилось белым лучезарным светом и за спиной у неё выросли крылья, а в руках – белая роза… Вот кто настоящий ангел…
На следующий день все как ни в чём не бывало пришли на уроки, уже осознавая, кто на самом деле такие, и желая навсегда забыть, что произошло на дискотеке.
А Лера смотрела на меня и на Катю уже совсем иначе…
- Знаешь, я недавно прочитала «Маскарад» Лермонтова, – увлечённо говорила на перемене Катя. – Там речь идёт как будто о наших. Все персонажи – такие же лицемеры…
Не знаю, почему я не замечал Катю раньше. Как и я, в школе она всё время проводила одна, потому что также не любила наших одноклассников. Да, год или полтора назад мы сблизились на почве нелюбви к своему классу. Я заметил Катю, когда она выбежала из кабинета в слезах, потому что услышала, как над ней смеются на задних партах. И я тоже всё прекрасно слышал и пошёл за ней, чтобы успокоить. Уверен, что и обо мне тогда тоже говорили далеко не самые приятные вещи.
Катю действительно можно назвать красивой девушкой, ведь своей внешностью она явно выделяется на фоне остальных одноклассниц: у неё выразительные, синие – синие, как бескрайний океан, и такие же глубокие глаза; маленький курносый носик и утончённый подбородок. Она – мой ангел во плоти… Самое доброе и невинное существо, которое я встречал в своей жизни.
Много времени мы проводим вместе и часто говорим об обществе, в котором находимся, как будто в тюрьме, вот уже десять лет, и которое нам неприятно. Осуждаем поведение и поступки людей из этого общества.
В нашем классе есть девушка Лера, также отстранённая от всех. Часто над ней насмехаются прямо за её спиной – причем делают это абсолютно открыто, – но она всё терпит. Причиной насмешек в её адрес всегда становятся внешность и не совсем обычное поведение. Да, действительно, Леру нельзя назвать привлекательной: прыщавая, немного косоглазая, пухлая, а потому больше похожая на бочку с руками и ногами, неуклюже переваливающуюся из стороны в сторону при ходьбе; и волосы её, всегда немытые и сальные, напоминают скорее щупальца осьминога, расползшиеся по широким, похожим на мужские плечам. А что касается поведения… Мне доводилось беседовать с ней несколько раз, и я всегда удивлялся ее непостоянству. Во время разговора она то визгливо кричит, то невнятно тараторит, то невпопад смеется, то хмурит брови, то мечтательно закатывает глаза, а иногда даже злится, при этом как-то странно жестикулируя. Понятное дело, из-за таких манер окружающие старались её избегать, хотя она никому не причиняла вреда…
На уроке, когда мои «любимые» одноклассники в очередной раз смеялись над Лерой, я заметил нечто странное: на руках и шеях у некоторых из них вдруг образовались синеватые пятна, очень похожие на трупные. Меня поразило увиденное, и я сказал об этом Кате, но она лишь ответила, что в последнее время у меня какие-то странные шутки. Однако я точно знаю, что мне не показалось. И я не могу так просто выбросить это из головы!
Потом, за пару минут до звонка, откуда-то с задних парт я услышал ещё одну шутку о Лере, граничащую с оскорблением, однако довольно смешную. Все, кто сидел поблизости, посмеялись. И я тоже не смог сдержать улыбки. Не смогла и Катя.
Бедная Лера! Как же ей не повезло с окружением! Она ведь наверняка чувствует себя одинокой…
- Хм… – у Кати дрожали уголки губ. Она пыталась сдержать улыбку, чтобы что-то сказать мне, и через несколько мгновений у неё всё-таки получилось перебороть смех и принять серьёзное, хотя и немного наигранное, выражение лица. – Почему они все опять так шутят?.. Все десять лет они жестоко смеются над ней! Но мы ведь никак не можем повлиять на это…
- Да, и это самое печальное, – тихо вздохнул я.
А потом случайно бросил взгляд на Катину белоснежную шею и обомлел… На ней тоже было синее пятно! И оно было здоровым, раза в два больше, чем у других, тем более какая-то часть этого пятна была скрыта под кружевным воротником блузки, что ужасало. А вдруг оно уже разрослось до плеча?.. Но ведь она не поверит, если я об этом скажу.
Казалось, будто мой ангел начал медленно умирать.
Прогулявшись после школы с Катей и проводив её до подъезда, я случайно столкнулся с Лерой. Она, нелепо улыбаясь, предложила немного пройтись вдвоём. Я любезно согласился, но через некоторое время пожалел о своём решении…
Поначалу всё было в порядке, мы просто болтали на разные темы (и я терпел её как всегда странное поведение), но потом, когда вдруг возникла неловкая пауза, Лера перешла на глупые шутки и сама же над ними смеялась, и меня раздражал ее скрипучий смех. Некоторые её анекдоты были совершенно несмешными, они вызывали у меня чувство стыда! Её юмор оказался таким же нелепым, как и её походка. Но, чтобы её не обидеть, я шёл с наклеенной улыбкой и заливался фальшивым смехом – таким, каким умел.
Затем на пути нам встретилась уродливая дряхлая собака с грустными глазами: почти вся облысевшая и кое-как стоящая на своих тонких, как ветки кустарника, лапах. Казалось, стоит на них слегка надавить, и они с хрустом сломаются на части.
Лера медленно подошла к этой несчастной собаке, начала её гладить и утешать. В её глазах читалось искреннее сочувствие, ну а я… Я же был абсолютно равнодушен к этому жалкому созданию – а вдруг она ещё и заразна? – но, чтобы Лера ни о чём таком не подумала, я сказал, что мне её жаль. Стоило только видеть эту картину … Просто смешно.
Позже, придя домой, я позвонил Кате, рассказал обо всём этом, и мы вместе посмеялись. Как же это странно – пытаться нарушить неловкое молчание тупыми шутками времён наших прабабушек! Утешать бездомных псин! И что у неё вообще тогда творилось в голове? Странная всё-таки эта Лера...
А после того как я поделился этой историей, Катя незаметно перевела тему разговора на одного из наших одноклассников, который постоянно унижается перед учителями, чтобы быть в списке любимчиков, а потом оскорбляет этих самых учителей за их же спинами. И мы начали осуждать его за это – да ведь он самый настоящий лицемер! – а потом ещё раз посмеялись над Лерой и закончили разговор.
Наверное, Катя ещё не заметила огромное пятно на своей шее.
Завтра в школе будет дискотека. Вход платный, а те, кто отказывается платить, идут на уроки. Конечно же, я заплатил, ведь грызть гранит науки совсем не было желания.
Посреди ночи я проснулся от того, что у меня сильно чесалась нога. Я потёр её пяткой другой ноги, но не успел погрузиться в сон, как вдруг опять почувствовал, что она чешется. Раздражённо встал с кровати, включил свет, посмотрел на ногу и ужаснулся…
На ней была гнойная рана, из которой выползло несколько червей. Я чуть было не закричал, но кое-как сдержался, чтобы не разбудить семью. В страхе и недоумении я стоял так ещё несколько минут, а потом пошёл в ванную, брезгливо собрал всех паразитов, ползающих по моей ноге, и наклеил на рану прямоугольную повязку, которую взял в аптечке. Но не думаю, что это сможет мне как-то помочь. А как же от неё воняло! Пахло гнилью. Казалось, что вот-вот стошнит, но я всё же пошёл обратно в постель и, перебарывая рвотные позывы, уснул.
Наутро я просто не знал, что мне делать…
На моих предплечьях образовались и гнойные раны, и трупные пятна. И запах стоял невыносимый! А ведь мне ещё идти на дискотеку… Я уже пообещал Кате, что приду.
Я не придумал ничего лучше, чем обмотать предплечья бинтами, прежде стряхнув всех вылезших паразитов, и истратить на них чуть ли не целый флакон маминых французских духов. Но это почти никак не помогло…
Придя в школу, я сразу же встретил Катю. Вокруг шеи у неё был завязан легкий шарф с каким-то причудливым узором, который, конечно же, что-то скрывал, но всё-таки действительно подходил к наряду. Стоя на некотором расстоянии от Кати, я почувствовал душистый аромат сирени, который пытался перебороть противный запах разложения, однако, как и в моём случае, тщетно.
Она подошла ко мне и с взглядом, полным недоумения и беспокойства, спросила:
- У тебя тоже есть эти пятна?..
Я показал ей свои предплечья и сказал:
- А помнишь, я говорил про пятна на руках и на шеях у наших?
Пятна у одноклассников… О нет! Кажется, теперь я понял, откуда они появились! И я сказал об этом Кате. Она не могла в это поверить.
Поднявшись на второй этаж, где проходила дискотека, мы подошли к своим одноклассникам, которые были одеты как-то ярко и вычурно – кто в худи, кто в толстовке, кто в свитшоте или в свитере, – однако модные вещи так и не смогли скрыть следы их разложения. И мы поняли, что стеснятся нам, в общем-то говоря, нечего.
Дискотека началась. Первое время всё было в порядке, но потом стало происходить нечто необъяснимое: у моих одноклассников и у многих других учеников начала чернеть кожа, а раны загноились… И у меня в том числе. Все те, с кем этого не происходило, с криком и визгом убежали с дискотеки, и вряд ли им в тот момент было до веселья.
Затем, спустя несколько минут, с нас начала сползать кожа – она будто бы плавилась и, как желе, с громким хлюпаньем падала на пол. Вытекли глазные яблоки… И в итоге мы все остались голыми скелетами. Сначала нас охватил сильнейший ужас, мы были в панике, но через некоторое время продолжили дискотеку, потому что все поняли, из-за чего это случилось, и смирились с произошедшим. Мы одинаковы… А я так не хотел этого признавать.
Я подарил Кате кровавую розу, из середины которой, когда я её протянул, вдруг показался червь. Уверен, были бы у неё в тот момент губы, она бы расплылась в улыбке. Но сейчас я любовался прекрасными чёрными впадинами в её черепе. По нам, будто бы дразня, прыгали разноцветные зайчики света от диско-шара…
На сегодняшней дискотеке все сбросили с себя маски, выставив напоказ свои гнилые души.
Все, кроме… кроме Леры. Не знаю, почему она здесь всё ещё стоит, но… по сравнению со всеми нами она – косоглазая, прыщавая, с вечно немытыми волосами и нелепой походкой, на протяжении всей школьной жизни бывшая объектом насмешек – выглядела совершенством. В один момент мне показалось, будто ее лицо озарилось белым лучезарным светом и за спиной у неё выросли крылья, а в руках – белая роза… Вот кто настоящий ангел…
На следующий день все как ни в чём не бывало пришли на уроки, уже осознавая, кто на самом деле такие, и желая навсегда забыть, что произошло на дискотеке.
А Лера смотрела на меня и на Катю уже совсем иначе…
Максимюк Ольга. На станции потерянных слов
Шаг.
Приятный, чуть потрескивающий женский голос из динамика объявляет посадку на поезд. Вдыхаю глубоко, чтобы холодный воздух обжёг горло. Ночь сегодня, словно занавес из хрустальных бус, трещит, стоит задеть плечом.
Шаг.
Рюкзак тяжёлой ношей висит на спине. Я иду вдоль пустого перрона, тихо постукивая колёсиками чемодана, когда тот наезжает на очередной камень. Большие старые часы с чёрными, как сажа, стрелками показывают без пятнадцати четыре.
Шаг.
Всем нам когда-нибудь придётся покинуть отчий дом, чтобы создать себе свой, новый. Чтобы воздвигнуть стены из песка и медленно, терпеливо заменить их сперва на картон, затем на кирпич и так слой за слоем добраться до стали.
Останавливаюсь около вагона номер восемь. Знаете, какой цвет у этой цифры? Я вам подскажу: он у многих ассоциируется с бушующим морем. Глубокий синий. Глубже, чем дно Марианской впадины. И в то же время это ещё далёкий от чёрной единицы оттенок.
Так я вижу мир: от части к целому. Деталь, и только потом объект. Картинка из кусочков разной текстуры.
Я крепко сжимаю ручку чемодана, поднимая голову вверх: перед рассветом небо самое тёмное. Внутри скопился ворох не озвученных слов. Крылья бессмысленных фраз трепещут где-то под рёбрами, но так и не могут расправиться как подобает. Глаза птиц, которым не суждено взлететь, отливают аквамарином.
Изо рта еле различимым облаком выходит, растворяясь в ночи, пар.
Тишина щекочет.
Чье-то тёплое дыхание опаляет шею.
"Обернись," - шепчет ветер. Я прикусываю губу, делая круг на пятках, но вместо бирюзовой стены вокзала, вместо тлеющей в морщинистых пальцах мужчины сигареты, я вижу дом. Родители беспокойно сидят на кухне. Младшая сестра спит на моём месте. Я не люблю долгих прощаний, от них искра желания - остаться - разгорается сильнее. Поэтому и стою сейчас одна.
Новая жизнь полна неизвестности - самого большого человеческого страха. Мой юношеский энтузиазм растаял вместе с лучами закатного солнца.
Крепко зажмуриваюсь.
Дрожащими пальцами хватаюсь за край джинсовой куртки.
Открываю глаза: дом не исчез, лишь отошёл на второй план, пропуская вперёд новых людей. Друзья приветливо машут мне. Пять девочек, учитывая меня, и десять лет общения на всех. Последняя наша встреча была самой весёлой, потому что не только я покидаю родной город. Мы хотели запомнить друг друга с улыбками на лице, но сквозь мелкие сколы радостных масок всё равно просачивалась едва различимая грусть.
"Я буду скучать," - и снова слова застревают в горле.
Люди, как вода ванну, заполняют перрон. Стрелки сдвинулись всего на три деления. Чувство, будто время заперли в стеклянный шар. Я пытаюсь вернуться в настоящее, перенося внимание на ощущения.
Ткань куртки шершавая, нитки тянутся вниз.
Земля под ногами твёрдая, под правой подошвой спрятался кусочек асфальта.
- Девушка, у вас всё хорошо? - интересуется вагоновожатый в синей жилетке.
- Да, посадку жду.
- Извините, но это вагон-ресторан. Давайте проверим билет? Вот же, у вас написано: восемнадцатый. - я смущённо пожала плечами.
- Ошиблась немного. Спасибо.
Подхватываю ручку чемодана и неспешно иду, вливаясь в толчею пассажиров и провожающих. В свете высоких фонарей летают белокрылые мотыли. Я вспоминаю поле васильков, где любила играть в детстве. Как падала в траву без сил, раскинув руки в стороны, и вдыхала запах цветов. Бывало, закрою глаза, затаю дыхание, и на нос сядет бабочка, расправит крылья. Я смотрела на небо сквозь них, видела облака не белыми, а светло-голубыми.
Я снова ухожу в себя.
Среди одинаковых тёмных голов взгляд цепляется лишь за одну. Каштановые и, как леска прямые, волосы, бледный шрам в основании шеи. Груз потерянных слов оттягивает карман. Есть ли смысл доставать их сейчас?
"Давай, останови его!" - кричит сердце, и я делаю попытку ухватиться за ткань чужой кофты, но на мне смыкается круг из рук, тел, семенящих ног и багажа. Я заперта. Он растворяется в толпе.
Останавливаюсь, ожидая, когда эта часть перрона опустеет. Чувство беспомощности накрывает с головой как волна. Мышцы на плечах зудят, я обнимаю себя, скользя по чемодану вниз. Мне страшно. Всё, что было мне дорого, остаётся здесь, а я - нет.
Прячу лицо в коленях, выдыхая. Нужно успокоиться, вернуть себя в строй - я больше не маленькая девочка.
О ноги трётся что-то мягкое. Подымаю голову. Мне дружелюбно мяукает кот цвета первого снега. Его звали Марк. Он ходит взад и вперёд, задевая прозрачным боком мои голени. Последний призрак, провожающий меня в путь.
Я глажу пушистую, сияющую в свете Луны голову, слушаю успокаивающее мурлыканье, утопая в синем цвете. И наконец встаю. Вытряхивают из карманов невидимые сожаления о не сделанном, кот рвёт их на мелкие кусочки. Нужно двигать дальше, оставив прошлое в прошлом.
- Вперёд. - тихо, но вслух, чтобы придать словам форму.
Я больше не оборачиваюсь. Марк провожает меня до вагона, но внутрь не запрыгивает. Ему со мной нельзя, мы оба это понимаем.
Высокий мужчина помогает мне закинуть чемодан на ступеньку. Я прохожу четыре купе внутрь и сажусь за столик "боковушки". На перроне один только Марк на прощание машет хвостом. Я улыбаюсь ему и поднимаю глаза на скопление звёзд.
Минута до окончания ночи.
Ещё шесть до отправления.
Для меня у каждых суток есть свой цвет. Один день - серый, другой - жёлтый, с шелушащимися, как у старой бумаги, краями, третий - розовый с привкусом сахарной пудры. Этот день запомнится мне как предрассветный синий, когда тревога и умиротворение сплелись в неразрывную нить.
Шаг.
Приятный, чуть потрескивающий женский голос из динамика объявляет посадку на поезд. Вдыхаю глубоко, чтобы холодный воздух обжёг горло. Ночь сегодня, словно занавес из хрустальных бус, трещит, стоит задеть плечом.
Шаг.
Рюкзак тяжёлой ношей висит на спине. Я иду вдоль пустого перрона, тихо постукивая колёсиками чемодана, когда тот наезжает на очередной камень. Большие старые часы с чёрными, как сажа, стрелками показывают без пятнадцати четыре.
Шаг.
Всем нам когда-нибудь придётся покинуть отчий дом, чтобы создать себе свой, новый. Чтобы воздвигнуть стены из песка и медленно, терпеливо заменить их сперва на картон, затем на кирпич и так слой за слоем добраться до стали.
Останавливаюсь около вагона номер восемь. Знаете, какой цвет у этой цифры? Я вам подскажу: он у многих ассоциируется с бушующим морем. Глубокий синий. Глубже, чем дно Марианской впадины. И в то же время это ещё далёкий от чёрной единицы оттенок.
Так я вижу мир: от части к целому. Деталь, и только потом объект. Картинка из кусочков разной текстуры.
Я крепко сжимаю ручку чемодана, поднимая голову вверх: перед рассветом небо самое тёмное. Внутри скопился ворох не озвученных слов. Крылья бессмысленных фраз трепещут где-то под рёбрами, но так и не могут расправиться как подобает. Глаза птиц, которым не суждено взлететь, отливают аквамарином.
Изо рта еле различимым облаком выходит, растворяясь в ночи, пар.
Тишина щекочет.
Чье-то тёплое дыхание опаляет шею.
"Обернись," - шепчет ветер. Я прикусываю губу, делая круг на пятках, но вместо бирюзовой стены вокзала, вместо тлеющей в морщинистых пальцах мужчины сигареты, я вижу дом. Родители беспокойно сидят на кухне. Младшая сестра спит на моём месте. Я не люблю долгих прощаний, от них искра желания - остаться - разгорается сильнее. Поэтому и стою сейчас одна.
Новая жизнь полна неизвестности - самого большого человеческого страха. Мой юношеский энтузиазм растаял вместе с лучами закатного солнца.
Крепко зажмуриваюсь.
Дрожащими пальцами хватаюсь за край джинсовой куртки.
Открываю глаза: дом не исчез, лишь отошёл на второй план, пропуская вперёд новых людей. Друзья приветливо машут мне. Пять девочек, учитывая меня, и десять лет общения на всех. Последняя наша встреча была самой весёлой, потому что не только я покидаю родной город. Мы хотели запомнить друг друга с улыбками на лице, но сквозь мелкие сколы радостных масок всё равно просачивалась едва различимая грусть.
"Я буду скучать," - и снова слова застревают в горле.
Люди, как вода ванну, заполняют перрон. Стрелки сдвинулись всего на три деления. Чувство, будто время заперли в стеклянный шар. Я пытаюсь вернуться в настоящее, перенося внимание на ощущения.
Ткань куртки шершавая, нитки тянутся вниз.
Земля под ногами твёрдая, под правой подошвой спрятался кусочек асфальта.
- Девушка, у вас всё хорошо? - интересуется вагоновожатый в синей жилетке.
- Да, посадку жду.
- Извините, но это вагон-ресторан. Давайте проверим билет? Вот же, у вас написано: восемнадцатый. - я смущённо пожала плечами.
- Ошиблась немного. Спасибо.
Подхватываю ручку чемодана и неспешно иду, вливаясь в толчею пассажиров и провожающих. В свете высоких фонарей летают белокрылые мотыли. Я вспоминаю поле васильков, где любила играть в детстве. Как падала в траву без сил, раскинув руки в стороны, и вдыхала запах цветов. Бывало, закрою глаза, затаю дыхание, и на нос сядет бабочка, расправит крылья. Я смотрела на небо сквозь них, видела облака не белыми, а светло-голубыми.
Я снова ухожу в себя.
Среди одинаковых тёмных голов взгляд цепляется лишь за одну. Каштановые и, как леска прямые, волосы, бледный шрам в основании шеи. Груз потерянных слов оттягивает карман. Есть ли смысл доставать их сейчас?
"Давай, останови его!" - кричит сердце, и я делаю попытку ухватиться за ткань чужой кофты, но на мне смыкается круг из рук, тел, семенящих ног и багажа. Я заперта. Он растворяется в толпе.
Останавливаюсь, ожидая, когда эта часть перрона опустеет. Чувство беспомощности накрывает с головой как волна. Мышцы на плечах зудят, я обнимаю себя, скользя по чемодану вниз. Мне страшно. Всё, что было мне дорого, остаётся здесь, а я - нет.
Прячу лицо в коленях, выдыхая. Нужно успокоиться, вернуть себя в строй - я больше не маленькая девочка.
О ноги трётся что-то мягкое. Подымаю голову. Мне дружелюбно мяукает кот цвета первого снега. Его звали Марк. Он ходит взад и вперёд, задевая прозрачным боком мои голени. Последний призрак, провожающий меня в путь.
Я глажу пушистую, сияющую в свете Луны голову, слушаю успокаивающее мурлыканье, утопая в синем цвете. И наконец встаю. Вытряхивают из карманов невидимые сожаления о не сделанном, кот рвёт их на мелкие кусочки. Нужно двигать дальше, оставив прошлое в прошлом.
- Вперёд. - тихо, но вслух, чтобы придать словам форму.
Я больше не оборачиваюсь. Марк провожает меня до вагона, но внутрь не запрыгивает. Ему со мной нельзя, мы оба это понимаем.
Высокий мужчина помогает мне закинуть чемодан на ступеньку. Я прохожу четыре купе внутрь и сажусь за столик "боковушки". На перроне один только Марк на прощание машет хвостом. Я улыбаюсь ему и поднимаю глаза на скопление звёзд.
Минута до окончания ночи.
Ещё шесть до отправления.
Для меня у каждых суток есть свой цвет. Один день - серый, другой - жёлтый, с шелушащимися, как у старой бумаги, краями, третий - розовый с привкусом сахарной пудры. Этот день запомнится мне как предрассветный синий, когда тревога и умиротворение сплелись в неразрывную нить.
Гнеушева Мария. Сказка о том, как коты государством управляли
В некотором царстве - в некотором государстве царь устал. Устал – и всё тут.
– Ухожу я от вас! Устал! Надоели, неблагодарные. И не угодишь вам никак! Да я ради вас! Да я! – носился по тронному залу и размахивал руками Царь.
Придворные то смотрели широко раскрытыми глазами на государя, то переглядывались. Все боялись перечить Царю. Видите ли, надоело ему обязанности правителя Тридевятого царства исполнять. Это же такой тяжелый труд! Вот с утра, пока слуги оденут в царские наряды, сто лет пройдет! А потом завтрак. Уж там Царь не жалеет живота своего – все ест и ест, ест и ест. А дальше приходится либо приказы отдавать, либо жалобы подданных выслушивать и проблемы их решать. Ни минуты покоя! А потом опять обед, там и до ужина недалеко. Так думали придворные, но разве можно сказать это Царю?
– Все! Отпуск у меня. Не ищите, улетаю в Лукоморье. На неделю. Или две. Нет, лучше всё-таки на месяц. А то и два.
– А кто ж вместо вас, царь-батюшка, будет? – робко поинтересовался Храбрый Советник.
– Да кто угодно! Хоть… кот! – Царь снял с головы золотую корону и кинул ее вверх. Она чуть не задела роскошную люстру, все замерли, один Ловкий Советник не растерялся, подпрыгнул и поймал корону.
– Счастливо оставаться! Кто за мной пойдёт, тот отпуска до конца жизни не получит! – усмехнулся Царь и громко хлопнул дверью.
Придворные переглянулись и дружно посмотрели на советников. Идти за Царем никто не решился, иначе мечтам о летней поездке в Лукоморье никогда не сбыться.
– Что делать-то будем? – наконец прервал молчание Трусливый Советник.
– Кота искать. Раз Царь приказал, значит, кот вместо него будет, – вздохнул Храбрый Советник.
А за ним хором вздохнули все. Новая затея их царю-батюшке в голову пришла! А если пришла – делать нечего, придется исполнять.
Оказывается, не каждый кот может государством управлять. В этом убедились слуги, когда изловили первого попавшегося уличного кота, надели на него корону и посадили на царский трон. Новый государь говорил только «мяу», и писарь исписал целый лист словом «мяу», пока Его Величество не решило скинуть корону и пойти гулять по крышам.
На совете придворные решили, что нужно отыскать другого кота, который сможет управлять Тридевятым царством. Желательно такого, который умеет говорить что-то, кроме «мяу». Тогда послали гонцов во все концы Тридевятого царства, чтобы найти говорящих котов. Когда гонцы вернулись, то доложили, что нашли двух претендентов, готовых примерить царскую корону, – кота Учёного и кота Баюна. Только кого царём выбрать?
Кот Баюн был не против временно занять место царя, ведь делать-то было нечего. А тут появилась такая возможность царём побывать, народ потешить сказками и прославиться в Тридевятом царстве. И кот Учёный тоже сразу согласился – наконец-то в царстве-государстве оценили его ум! В мечтах кота Учёного, благодаря его знаниям, Тридевятое царство продвинется на годы, нет, десятилетия, а то и сотни лет вперед в развитии. Ловкий Советник объявил, что корона достанется только одному, поэтому нужно будет пройти испытания. Кто лучше всех с царскими обязанностями справится – тот и будет править.
Наконец посадили котов на царский трон и испытание началось.
Первым к котам пришёл путешественник, прибывший из Тридесятого королевства.
– Ого, вот какие цари в Тридевятом царстве. Дивно! – пробубнил он себе под нос.
– Здравствуйте, цари-батюшки! Путешественник я. Шёл по горам, по пустыням, по лесам. Шёл, шёл и устал. Лёг, задремал, а кто-то у меня котомку украл! Помоги, царь! Восстанови справедливость! Накажи разбойников.
– Вы подозреваете, что вас обокрали разбойники? – нахмурился кот Учёный.
– Конечно! Кто же ещё?!
– Разбойники в нашем лесу – одно название. Уже много-много лет никого не грабят. Я Соловью-разбойнику зуб заговаривал, так что по моему приказу все тебе вернут. У него зуб однажды так заболел, что даже свистеть не мог. Позвали меня с Бабой-Ягой. Она снадобье варила, а я сказки ему рассказывал, – гордо ответил кот Баюн.
– Нужно выстроить цепочку событий. Что вы делали, прежде чем обнаружили пропажу? – спросил кот Учёный.
– Спал! Я заснул - котомка была, проснулся – уже нет!
– Что вы делали до того, как спали?
– Шёл по лесу!
– Значит, нужно отправиться в лес и восстановить цепочку событий.
Вдруг они услышали стук в окно. Слуги подбежали к нему и распахнули. В тронный зал влетела толстая сорока с котомкой в клюве.
– Потеряют свои вещи, а потом на разбойников клевещут! Соловей – друг мой, блестяшками и безделушками всякими со мной делится! Вещи свои разбрасывать не надо! А то сунул под кустик, сам во сне ногой задвинул в листву, а теперь к царю идёшь жаловаться на кого-то! Я, между прочим, за чужаками в лесу наблюдаю, – затараторила сорока и кинула котомку.
– Ура! Нашлась! – обрадовался путешественник и схватил свою сумку. – Простите, цари-батюшки, что на честных людей наговаривал!
Путешественник поспешил удалиться и продолжить свой путь. А коты и придворные довольны – проблема решена.
На следующий день к котам пришёл крестьянин и сразу, как вошёл в зал, бухнулся на колени, а от страха перед царским величием даже глаза закрыл.
– Царь-батюшка, не вели казнить, вели слово молвить! Не растёт ничего у меня в огороде уже второй год. Всё перепробовали – и к бабке ходили, каждый день поливали, не поливали, перекапывали, сорняки убирали, сорняки не убирали – ничего не работает! Помоги, царь-батюшка, семья у меня большая, а кушать нечего!
Когда крестьянин открыл глаза и увидел двух котов, сидящих на царском троне, то сразу же зажмурился от удивления. Ну, никак он не ожидал, что их царь-батюшка – это кот, но тут даже два кота!
– Что на огороде выращиваете, хозяин? – лениво зевнул кот Баюн.
– Всё, что только можно. И морковь, и капусту, и репу, и лук, и горох, и даже овощ заморский – картофель. И ничего не растёт! Помоги, царь-батюшка!
– Не люблю овощи. Я люблю рыбку, молочко, сметанку, мяско, – размечтался кот Баюн, – лучше корову или козу себе возьми. Или на рыбалку проще ходить – рыбка сама ловится!
– Да где же у нас реки-то с рыбами! Одни ручейки да речушки! Я далеко от дома уходить не могу. Жена, дети! – всплеснул руками и открыл глаза крестьянин.
– Или корову. Она сама травку себе кушает, а вечером молочко даёт. Вкусное-вкусное! Баба-Яга иногда на базар ходит, молочко покупает и меня им угощает. Лучше её помочь попроси.
– Да как же?! Бабу-Ягу?! Она же злодейка! – ахнул он.
– Не злодейка. Просто иногда не в настроении бывает. Ты скажи, что от меня, она и поможет.
– Удобрения и полив регулярный нужны, – строго сказал кот Учёный.
– Что такое удобрения? Кого задобрить надо?
– Никого задабривать на надо. Удобрение – это вещество, оно растениям расти помогает.
– Понял-понял. Спасибо, царь-батюшка! Спас ты нас! Вовек твою мудрость на забудем! – поклонился крестьянин и ушёл.
А коты, довольные собой, решили отменить все приёмы и пойти отдыхать.
На следующий день прибежал испуганный гонец и доложил, что по всему Тридевятому царству начали расти гигантские овощи. Оказывается, крестьянин послушал и кота Учёного, и кота Баюна, поэтому попросил Бабу-Ягу сделать удобрения, а она немножко перестаралась. И крестьянин насыпал чуть больше, чем надо было, чтобы уж наверняка всё выросло. Он ещё с товарищами поделился волшебным удобрением. Всё Тридевятое царство было в ужасе, никто не знал, что делать с гигантскими морковью и огурцами.
В зал в смятении вбежали царские советники. Рассерженный Храбрый Советник стукнул кулаком по столу.
– Вы что наделали?! Теперь по всему царству овощи-переростки! И как теперь всё исправить?!
– Нужно проанализировать ситуацию и хорошо подумать, – сказал Кот Учёный.
Ловкий Советник попытался примерить корону на голову кота Учёного.
– Нужно было корову заводить. Молочко такое вкусненькое, а морковь да огурцы – просто фу, – ответил кот Баюн.
Трусливый Советник в ужасе закрыл лицо руками.
– Я тебе дам корову! Как вы тут правили?! Сами кашу заварили – сами и думайте, как всех успокоить и овощи убрать! – завопил Храбрый Советник.
Под его вопли двери распахнулись, и в зал вошёл Царь, а за ним – слуги, которые несли много тяжёлых сундуков.
– Ну что, соскучились по своему царю-батюшке? Думали, что я под пальмой прохлаждался! А я вовсе не отдыхать ездил! Я полетел на ковре-самолёте в далёкую страну заморскую, где все жители счастливы. Опыт у них перенял!
И вдруг Царь замолчал, увидев двух котов, сидящих на его троне и вовсе не ожидавших, что Царь так скоро вернётся.
– А вы что, действительно кота вместо меня посадили? Даже двух?! – строго спросил он у своих советников.
Храбрый Советник в ужасе побелел, Ловкий Советник бросился надевать корону на голову Царя, а Трусливый Советник, не изменяя своей привычке, попытался спрятаться.
А придворные испуганно молчали: они не знали, что ответить, чтобы избежать царского гнева.
– Молодцы! Слово царя – закон! – расхохотался Царь.
– Царь-батюшка, не бросай больше нас! Прости нас, неразумных! Управлять государством – это такой труд! Не умеют говорящие коты Тридевятым царством управлять! – бухнулись на колени придворные.
– Ладно-ладно. Так уж и быть, прощаю. На то я и царь-батюшка, чтобы прощать и мудро править.
– Царь-батюшка, скажи нам, что делать с огромными овощами?
– Устроить пир на все Тридевятое царство! – приказал Царь.
Следующие пару дней все жители не отходили от столов, накрытых по всему царству-государству. Каждому хотелось попробовать морковку, размером с мост, или капусту – с терем. Котов царь наградил за то, что в его отсутствие не побоялись взять на себя тяжёлые обязанности да народ позабавили.
– Чтобы государством управлять, одного красноречия и знаний маловато. Нужно мудрым быть, заботу о подданных проявлять, а не о славе думать! Да о здравом смысле не забывать! – сказал всем Царь.
Кот Баюн ещё долго рассказывал всем сказки, как коты царя замещали. А кот Учёный написал научные рекомендации, как народом управлять. В Лукоморье государь больше не собирался: опасное это дело – управление государством котам доверять.
Наша сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.
В некотором царстве - в некотором государстве царь устал. Устал – и всё тут.
– Ухожу я от вас! Устал! Надоели, неблагодарные. И не угодишь вам никак! Да я ради вас! Да я! – носился по тронному залу и размахивал руками Царь.
Придворные то смотрели широко раскрытыми глазами на государя, то переглядывались. Все боялись перечить Царю. Видите ли, надоело ему обязанности правителя Тридевятого царства исполнять. Это же такой тяжелый труд! Вот с утра, пока слуги оденут в царские наряды, сто лет пройдет! А потом завтрак. Уж там Царь не жалеет живота своего – все ест и ест, ест и ест. А дальше приходится либо приказы отдавать, либо жалобы подданных выслушивать и проблемы их решать. Ни минуты покоя! А потом опять обед, там и до ужина недалеко. Так думали придворные, но разве можно сказать это Царю?
– Все! Отпуск у меня. Не ищите, улетаю в Лукоморье. На неделю. Или две. Нет, лучше всё-таки на месяц. А то и два.
– А кто ж вместо вас, царь-батюшка, будет? – робко поинтересовался Храбрый Советник.
– Да кто угодно! Хоть… кот! – Царь снял с головы золотую корону и кинул ее вверх. Она чуть не задела роскошную люстру, все замерли, один Ловкий Советник не растерялся, подпрыгнул и поймал корону.
– Счастливо оставаться! Кто за мной пойдёт, тот отпуска до конца жизни не получит! – усмехнулся Царь и громко хлопнул дверью.
Придворные переглянулись и дружно посмотрели на советников. Идти за Царем никто не решился, иначе мечтам о летней поездке в Лукоморье никогда не сбыться.
– Что делать-то будем? – наконец прервал молчание Трусливый Советник.
– Кота искать. Раз Царь приказал, значит, кот вместо него будет, – вздохнул Храбрый Советник.
А за ним хором вздохнули все. Новая затея их царю-батюшке в голову пришла! А если пришла – делать нечего, придется исполнять.
Оказывается, не каждый кот может государством управлять. В этом убедились слуги, когда изловили первого попавшегося уличного кота, надели на него корону и посадили на царский трон. Новый государь говорил только «мяу», и писарь исписал целый лист словом «мяу», пока Его Величество не решило скинуть корону и пойти гулять по крышам.
На совете придворные решили, что нужно отыскать другого кота, который сможет управлять Тридевятым царством. Желательно такого, который умеет говорить что-то, кроме «мяу». Тогда послали гонцов во все концы Тридевятого царства, чтобы найти говорящих котов. Когда гонцы вернулись, то доложили, что нашли двух претендентов, готовых примерить царскую корону, – кота Учёного и кота Баюна. Только кого царём выбрать?
Кот Баюн был не против временно занять место царя, ведь делать-то было нечего. А тут появилась такая возможность царём побывать, народ потешить сказками и прославиться в Тридевятом царстве. И кот Учёный тоже сразу согласился – наконец-то в царстве-государстве оценили его ум! В мечтах кота Учёного, благодаря его знаниям, Тридевятое царство продвинется на годы, нет, десятилетия, а то и сотни лет вперед в развитии. Ловкий Советник объявил, что корона достанется только одному, поэтому нужно будет пройти испытания. Кто лучше всех с царскими обязанностями справится – тот и будет править.
Наконец посадили котов на царский трон и испытание началось.
Первым к котам пришёл путешественник, прибывший из Тридесятого королевства.
– Ого, вот какие цари в Тридевятом царстве. Дивно! – пробубнил он себе под нос.
– Здравствуйте, цари-батюшки! Путешественник я. Шёл по горам, по пустыням, по лесам. Шёл, шёл и устал. Лёг, задремал, а кто-то у меня котомку украл! Помоги, царь! Восстанови справедливость! Накажи разбойников.
– Вы подозреваете, что вас обокрали разбойники? – нахмурился кот Учёный.
– Конечно! Кто же ещё?!
– Разбойники в нашем лесу – одно название. Уже много-много лет никого не грабят. Я Соловью-разбойнику зуб заговаривал, так что по моему приказу все тебе вернут. У него зуб однажды так заболел, что даже свистеть не мог. Позвали меня с Бабой-Ягой. Она снадобье варила, а я сказки ему рассказывал, – гордо ответил кот Баюн.
– Нужно выстроить цепочку событий. Что вы делали, прежде чем обнаружили пропажу? – спросил кот Учёный.
– Спал! Я заснул - котомка была, проснулся – уже нет!
– Что вы делали до того, как спали?
– Шёл по лесу!
– Значит, нужно отправиться в лес и восстановить цепочку событий.
Вдруг они услышали стук в окно. Слуги подбежали к нему и распахнули. В тронный зал влетела толстая сорока с котомкой в клюве.
– Потеряют свои вещи, а потом на разбойников клевещут! Соловей – друг мой, блестяшками и безделушками всякими со мной делится! Вещи свои разбрасывать не надо! А то сунул под кустик, сам во сне ногой задвинул в листву, а теперь к царю идёшь жаловаться на кого-то! Я, между прочим, за чужаками в лесу наблюдаю, – затараторила сорока и кинула котомку.
– Ура! Нашлась! – обрадовался путешественник и схватил свою сумку. – Простите, цари-батюшки, что на честных людей наговаривал!
Путешественник поспешил удалиться и продолжить свой путь. А коты и придворные довольны – проблема решена.
На следующий день к котам пришёл крестьянин и сразу, как вошёл в зал, бухнулся на колени, а от страха перед царским величием даже глаза закрыл.
– Царь-батюшка, не вели казнить, вели слово молвить! Не растёт ничего у меня в огороде уже второй год. Всё перепробовали – и к бабке ходили, каждый день поливали, не поливали, перекапывали, сорняки убирали, сорняки не убирали – ничего не работает! Помоги, царь-батюшка, семья у меня большая, а кушать нечего!
Когда крестьянин открыл глаза и увидел двух котов, сидящих на царском троне, то сразу же зажмурился от удивления. Ну, никак он не ожидал, что их царь-батюшка – это кот, но тут даже два кота!
– Что на огороде выращиваете, хозяин? – лениво зевнул кот Баюн.
– Всё, что только можно. И морковь, и капусту, и репу, и лук, и горох, и даже овощ заморский – картофель. И ничего не растёт! Помоги, царь-батюшка!
– Не люблю овощи. Я люблю рыбку, молочко, сметанку, мяско, – размечтался кот Баюн, – лучше корову или козу себе возьми. Или на рыбалку проще ходить – рыбка сама ловится!
– Да где же у нас реки-то с рыбами! Одни ручейки да речушки! Я далеко от дома уходить не могу. Жена, дети! – всплеснул руками и открыл глаза крестьянин.
– Или корову. Она сама травку себе кушает, а вечером молочко даёт. Вкусное-вкусное! Баба-Яга иногда на базар ходит, молочко покупает и меня им угощает. Лучше её помочь попроси.
– Да как же?! Бабу-Ягу?! Она же злодейка! – ахнул он.
– Не злодейка. Просто иногда не в настроении бывает. Ты скажи, что от меня, она и поможет.
– Удобрения и полив регулярный нужны, – строго сказал кот Учёный.
– Что такое удобрения? Кого задобрить надо?
– Никого задабривать на надо. Удобрение – это вещество, оно растениям расти помогает.
– Понял-понял. Спасибо, царь-батюшка! Спас ты нас! Вовек твою мудрость на забудем! – поклонился крестьянин и ушёл.
А коты, довольные собой, решили отменить все приёмы и пойти отдыхать.
На следующий день прибежал испуганный гонец и доложил, что по всему Тридевятому царству начали расти гигантские овощи. Оказывается, крестьянин послушал и кота Учёного, и кота Баюна, поэтому попросил Бабу-Ягу сделать удобрения, а она немножко перестаралась. И крестьянин насыпал чуть больше, чем надо было, чтобы уж наверняка всё выросло. Он ещё с товарищами поделился волшебным удобрением. Всё Тридевятое царство было в ужасе, никто не знал, что делать с гигантскими морковью и огурцами.
В зал в смятении вбежали царские советники. Рассерженный Храбрый Советник стукнул кулаком по столу.
– Вы что наделали?! Теперь по всему царству овощи-переростки! И как теперь всё исправить?!
– Нужно проанализировать ситуацию и хорошо подумать, – сказал Кот Учёный.
Ловкий Советник попытался примерить корону на голову кота Учёного.
– Нужно было корову заводить. Молочко такое вкусненькое, а морковь да огурцы – просто фу, – ответил кот Баюн.
Трусливый Советник в ужасе закрыл лицо руками.
– Я тебе дам корову! Как вы тут правили?! Сами кашу заварили – сами и думайте, как всех успокоить и овощи убрать! – завопил Храбрый Советник.
Под его вопли двери распахнулись, и в зал вошёл Царь, а за ним – слуги, которые несли много тяжёлых сундуков.
– Ну что, соскучились по своему царю-батюшке? Думали, что я под пальмой прохлаждался! А я вовсе не отдыхать ездил! Я полетел на ковре-самолёте в далёкую страну заморскую, где все жители счастливы. Опыт у них перенял!
И вдруг Царь замолчал, увидев двух котов, сидящих на его троне и вовсе не ожидавших, что Царь так скоро вернётся.
– А вы что, действительно кота вместо меня посадили? Даже двух?! – строго спросил он у своих советников.
Храбрый Советник в ужасе побелел, Ловкий Советник бросился надевать корону на голову Царя, а Трусливый Советник, не изменяя своей привычке, попытался спрятаться.
А придворные испуганно молчали: они не знали, что ответить, чтобы избежать царского гнева.
– Молодцы! Слово царя – закон! – расхохотался Царь.
– Царь-батюшка, не бросай больше нас! Прости нас, неразумных! Управлять государством – это такой труд! Не умеют говорящие коты Тридевятым царством управлять! – бухнулись на колени придворные.
– Ладно-ладно. Так уж и быть, прощаю. На то я и царь-батюшка, чтобы прощать и мудро править.
– Царь-батюшка, скажи нам, что делать с огромными овощами?
– Устроить пир на все Тридевятое царство! – приказал Царь.
Следующие пару дней все жители не отходили от столов, накрытых по всему царству-государству. Каждому хотелось попробовать морковку, размером с мост, или капусту – с терем. Котов царь наградил за то, что в его отсутствие не побоялись взять на себя тяжёлые обязанности да народ позабавили.
– Чтобы государством управлять, одного красноречия и знаний маловато. Нужно мудрым быть, заботу о подданных проявлять, а не о славе думать! Да о здравом смысле не забывать! – сказал всем Царь.
Кот Баюн ещё долго рассказывал всем сказки, как коты царя замещали. А кот Учёный написал научные рекомендации, как народом управлять. В Лукоморье государь больше не собирался: опасное это дело – управление государством котам доверять.
Наша сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.
Сиванькова Анастасия. Баюнки
Колька с любопытством и небольшой опаской заглянул в класс. Первое сентября он бессовестно пропустил. И Второе, и третье. В общем, в школу он пришел десятого. Нет, конечно, оправдание у него было: он был на море. И это была идея родителей, да и потом, один раз можно!
Вот только за эти десять дней произошло много событий. Не сказать, чтобы очень странных, но как минимум, неожиданных. В 6 «Б» поменялся классный руководитель. Само по себе это было обычным делом, поменялся и поменялся. Подумаешь! Но девятого к нему забежал Валёк. И, взволнованно размахивая руками, начал объяснять. Понятно было мало: при всех его достоинствах, он все же обладал по крайней мере одним недостатком. Язык Вальки не успевал за его мыслями. Он был хорошим товарищем: на него можно было положиться. Он брал девять мячей из десяти, поэтому почти всегда стоял на воротах, мастерил рогатки, из которых метко стрелял. У него был свой перочинный ножик, который он везде таскал с собой, хотя единственный раз, когда он им воспользовался, случился на рыбалке этим летом – у них запуталась леска, а разорвать противный узелок руками, как известно, задача не из легких. Но, та самая неуспеваемость языка делала из него плохого рассказчика. И сейчас он рассказывал о первой неделе учебы точно так же, как пересказывал фильмы.
- Он зашел, потом представился… А еще… Мы мяч принесли, его Серега пнул, тот в окно летел… Да такой мяч и Яшин мог бы упустить! А он взял!
Голос Колькиного друга был полон восхищения. Это тоже не было бы необычным, если бы не одно НО.
Валёк не признавал авторитетов. Совсем. Нет, он был вежлив, послушен (настолько, насколько эти слова могут быть применимы к двенадцатилетнему мальчишке), но еще ни один взрослый на памяти Кольки не заслужил одновременно восхищения и уважения от его друга. По мнению Вальки, все взрослые делились на две категории: взрослые-взрослые и взрослые-невзрослые. Во всяком случае, идея была такая. Вот дядя Андрей – взрослый-взрослый: он всегда приходит вовремя, здоровается по очереди, сначала папе жмет руку, потом делает комплимент маме (и еще ни разу не повторился!), а потом уже пожимает Валькину ладонь. А дядя Миша – взрослый-невзрослый. Сначала он подкидывает Вальку, потом здоровается с мамой, а потом хлопает по плечу папу.
Дядю Андрея он уважает - тот всегда может рассказать что-то жутко интересное, а дядей Мишей он восхищается, потому что никто еще не сделал тарзанки, лучше, чем он.
А сейчас Валёк рассказывал с таким восторгом, что Колька успел пожалеть о море! Новый учитель в его рассказе был невзрослым-взрослым.
И это было самым необычным.
И вот Колька заглядывал в класс, не зная чего ожидать. Там, где в прошлом году была Мария Юрьевна, сидел новый Учитель.
Рядом стоял Логинов, и старательно доказывал, что книги он читать не будет, потому что это неинтересно.
- А у нас теперь председательствует кот.
Колька моргнул. Он решительно не понимал, какая связь между книгами и котом. «Чем ворон похож на письменный стол?» - строчки возникли будто сами собой. Потом он вспомнил, про новенький учебник, который ему выдали в мае вместе с остальными. Информатика – значилось на обложке. Летом он его пролистал, и там точно встречалось слово код. Колька попытался вспомнить, как называлось это явления, какое-то там оглушение, приглушение. Он мотнул головой - какая разница.
- Здравствуйте!
Всё-таки коты кодами, а вежливость никто не отменял.
А Валёк – настоящий друг: место рядом с ним пустовало.
- А кто теперь русский ведёт, вместо Марии Юрьевны?
- Что значит «кто»? Он ведёт. И русский, и литературу.
- Но ведь Он ведет информатику.
- Коль, ты чего? Информатик – это тот, который нас в прошлом году обещал за уши отвести к родителям, когда мы ему окно в кабинете разбили. И он, кстати, не забыл про тот мяч. – Валёк потер левое ухо.
Удивиться тому, что Учитель ведёт русский, Колька не успел. Прозвенел звонок. Коты-коды повисли в воздухе.
- Давайте начнем с простого. О чем мы говорили на прошлом уроке?
Колька оглядел класс. В воздух взметнулся десяток рук, а ведь обычно 6 «Б» молчал очень слаженно, как партизаны на допросе.
- О баснях! – это Верка, она хорошо учится, хотя и не задается по этому поводу.
- Вы рассказывали об образности и современности басен Ивана Ивановича Дмитриева, - а это уже Максим, гордость класса, и вообще, отличник.
- Про муху!
- Фррр, опять эти басни, мораль, зачин. Вообще наш народ литераторы обижают: книги о нас по когтям пересчитать можно.
Колька чуть на стуле не подпрыгнул. Голос раздавался за спиной. Медленно повернув голову, мальчик непроизвольно открыл рот. Сзади на шкафу сидел кот. В школе, в кабинете русского языка и литературы рядом с репродукцией «Грачи прилетели» сидел кот. Темно-серый пушистый с хвостом и кисточками на ушах. И гитарой в лапах.
- Баюн, ты мешаешь вести мне урок.
- Баюнишки, баюнчики, баюнята… Для тебя же стараюсь, отроки ненареченные сидят, куда это годиться.
- И дисциплину разлагаешь.
- Баюнчики плохо ложатся, ни пропеть, ни промолвить, - Кот потряс гитарой, - не мог мне гусли нормальные достать, а? И потом, я обиду затаил, юнцы неразумные меня Ученым назвали. Мы же совершенно разные! У меня глаза оттенка свежего гречишного меда! А у него ореховые! Где ты видел хотя бы похожих близнецов?
- Нигде. Ты сейчас просто похож на самого обычного кота, которого против шерсти погладили.
- Ты еще «брысь» мне скажи.
- Баюн, согласно парадоксу Шредингера, ты можешь одновременно быть и Баюном, и Ученым, и даже Бегемотом, в этом нет ничего сверхъестественного. Правда, поскольку у нас урок литературы в шестом классе, а не квантовой физики в одиннадцатом, я бы предпочел, чтобы ты…
- Не напоминай мне об этом изверге! – На последнем слове кот скорее шипел, чем говорил.
- Басни. Я председательствую, тема сегодняшнего урока – басни Крылова.
Кольке казалось, что он сошел с ума. У него в голове настойчиво билась мысль: чем бы ни был код, с председательствующим котом ему не сравниться. Он посмотрел на Вальку и приподнял брови. Друг выразительно почесал нос. На их секретном языке жестов это означало примерно следующее: все нормально, сейчас поймешь.
Урок литературы был… сказочным. Слова Учителя окутывали класс, заставляя ребят задерживать дыхание. Кот рассказывал басни, растягивая слова и наигрывая на гитаре старинные напевы, такие, что ребятам казалось, будто они находятся где-то на холмах, слушая путешественников-сказителей. Вокруг шумели деревья, протяжно завывал ветер. И в этом царстве литературной стихии властвовали двое. Кот председательствовал. Учитель вел урок.
Звонок ворвался неожиданно, нарушая гармонию. Тонкое чувство чего-то неуловимого, нездешнего осыпалось, оставляя запах литературы. Никто и не подумал встать, до слов «урок окончен».
Учитель потер переносицу, когда класс ушел на перемену в коридор:
- Баюнки?
- Баюнки.
***
Колька смотрел в окно. Почему-то желание немедленно похвастаться летними приключениями пропало. А ведь он гладил дельфина! А летом в деревне дед дал ему пострелять из ружья.
Колька дернул плечами, будто отгоняя непрошеные мысли. Не помогло. Он вернулся в класс.
Учитель вопросительно посмотрел на мальчика. А Колька и не знал, что сказать.
Пожал плечами. Хотелось спросить… а что, собственно спросить? Почему кот председательствует? Но это же было очевидно.
Баюн, кот, председательствует! И точка.
Нет, хотелось узнать, кто Он, Учитель. Но как задать вопрос, который еще в собственной голове не прозвучал?
Вот, человек проверяет тетради. Все учителя проверяют тетради. От этой повинности избавлены только, наверное, физкультурники и девушка-студентка, которая ведет изо. Колька не представлял себе, как это, проверить столько тетрадей.
Ничего необычного.
Но рядом сидел кот. Неужели кот определяет учителя? Все дело в нем?
Разве так бывает? Почему Баюн выбрал этот класс? Или этого Учителя? Раньше в школе никогда не пахло свежим ветром. Книгами - сколько угодно, красками иногда, даже знаниям несколько раз. Колька решился.
- Как, - слова пропали, - Баюн… кто он… Вы…?
На него взглянул Учитель:
- Ну а сам-то как думаешь?
- У меня дома живет Зефир. И я его не понимаю. А Баюн…
- Баюн сам пришел. Лет десять назад.
- Но не может все зависеть от председательствующего кота! – он невольно покосился на Баюна.
- Дурашка. От меня и не зависит ничего. – Кот потянулся. – Я выбираю за кем идти. Где председательствовать. Все остальное зависит от человека. Мы, вечные, привередливы в этом вопросе.
- Николай, Баюн – спутник. Он будет рядом, пока ему интересно. Понял, Баюнок?
Отвечать было не нужно. Колька это понял каким-то внутренним чувством. Он кивнул и спросил, глядя на Баюна:
-А сметану вы любите?
Колька с любопытством и небольшой опаской заглянул в класс. Первое сентября он бессовестно пропустил. И Второе, и третье. В общем, в школу он пришел десятого. Нет, конечно, оправдание у него было: он был на море. И это была идея родителей, да и потом, один раз можно!
Вот только за эти десять дней произошло много событий. Не сказать, чтобы очень странных, но как минимум, неожиданных. В 6 «Б» поменялся классный руководитель. Само по себе это было обычным делом, поменялся и поменялся. Подумаешь! Но девятого к нему забежал Валёк. И, взволнованно размахивая руками, начал объяснять. Понятно было мало: при всех его достоинствах, он все же обладал по крайней мере одним недостатком. Язык Вальки не успевал за его мыслями. Он был хорошим товарищем: на него можно было положиться. Он брал девять мячей из десяти, поэтому почти всегда стоял на воротах, мастерил рогатки, из которых метко стрелял. У него был свой перочинный ножик, который он везде таскал с собой, хотя единственный раз, когда он им воспользовался, случился на рыбалке этим летом – у них запуталась леска, а разорвать противный узелок руками, как известно, задача не из легких. Но, та самая неуспеваемость языка делала из него плохого рассказчика. И сейчас он рассказывал о первой неделе учебы точно так же, как пересказывал фильмы.
- Он зашел, потом представился… А еще… Мы мяч принесли, его Серега пнул, тот в окно летел… Да такой мяч и Яшин мог бы упустить! А он взял!
Голос Колькиного друга был полон восхищения. Это тоже не было бы необычным, если бы не одно НО.
Валёк не признавал авторитетов. Совсем. Нет, он был вежлив, послушен (настолько, насколько эти слова могут быть применимы к двенадцатилетнему мальчишке), но еще ни один взрослый на памяти Кольки не заслужил одновременно восхищения и уважения от его друга. По мнению Вальки, все взрослые делились на две категории: взрослые-взрослые и взрослые-невзрослые. Во всяком случае, идея была такая. Вот дядя Андрей – взрослый-взрослый: он всегда приходит вовремя, здоровается по очереди, сначала папе жмет руку, потом делает комплимент маме (и еще ни разу не повторился!), а потом уже пожимает Валькину ладонь. А дядя Миша – взрослый-невзрослый. Сначала он подкидывает Вальку, потом здоровается с мамой, а потом хлопает по плечу папу.
Дядю Андрея он уважает - тот всегда может рассказать что-то жутко интересное, а дядей Мишей он восхищается, потому что никто еще не сделал тарзанки, лучше, чем он.
А сейчас Валёк рассказывал с таким восторгом, что Колька успел пожалеть о море! Новый учитель в его рассказе был невзрослым-взрослым.
И это было самым необычным.
И вот Колька заглядывал в класс, не зная чего ожидать. Там, где в прошлом году была Мария Юрьевна, сидел новый Учитель.
Рядом стоял Логинов, и старательно доказывал, что книги он читать не будет, потому что это неинтересно.
- А у нас теперь председательствует кот.
Колька моргнул. Он решительно не понимал, какая связь между книгами и котом. «Чем ворон похож на письменный стол?» - строчки возникли будто сами собой. Потом он вспомнил, про новенький учебник, который ему выдали в мае вместе с остальными. Информатика – значилось на обложке. Летом он его пролистал, и там точно встречалось слово код. Колька попытался вспомнить, как называлось это явления, какое-то там оглушение, приглушение. Он мотнул головой - какая разница.
- Здравствуйте!
Всё-таки коты кодами, а вежливость никто не отменял.
А Валёк – настоящий друг: место рядом с ним пустовало.
- А кто теперь русский ведёт, вместо Марии Юрьевны?
- Что значит «кто»? Он ведёт. И русский, и литературу.
- Но ведь Он ведет информатику.
- Коль, ты чего? Информатик – это тот, который нас в прошлом году обещал за уши отвести к родителям, когда мы ему окно в кабинете разбили. И он, кстати, не забыл про тот мяч. – Валёк потер левое ухо.
Удивиться тому, что Учитель ведёт русский, Колька не успел. Прозвенел звонок. Коты-коды повисли в воздухе.
- Давайте начнем с простого. О чем мы говорили на прошлом уроке?
Колька оглядел класс. В воздух взметнулся десяток рук, а ведь обычно 6 «Б» молчал очень слаженно, как партизаны на допросе.
- О баснях! – это Верка, она хорошо учится, хотя и не задается по этому поводу.
- Вы рассказывали об образности и современности басен Ивана Ивановича Дмитриева, - а это уже Максим, гордость класса, и вообще, отличник.
- Про муху!
- Фррр, опять эти басни, мораль, зачин. Вообще наш народ литераторы обижают: книги о нас по когтям пересчитать можно.
Колька чуть на стуле не подпрыгнул. Голос раздавался за спиной. Медленно повернув голову, мальчик непроизвольно открыл рот. Сзади на шкафу сидел кот. В школе, в кабинете русского языка и литературы рядом с репродукцией «Грачи прилетели» сидел кот. Темно-серый пушистый с хвостом и кисточками на ушах. И гитарой в лапах.
- Баюн, ты мешаешь вести мне урок.
- Баюнишки, баюнчики, баюнята… Для тебя же стараюсь, отроки ненареченные сидят, куда это годиться.
- И дисциплину разлагаешь.
- Баюнчики плохо ложатся, ни пропеть, ни промолвить, - Кот потряс гитарой, - не мог мне гусли нормальные достать, а? И потом, я обиду затаил, юнцы неразумные меня Ученым назвали. Мы же совершенно разные! У меня глаза оттенка свежего гречишного меда! А у него ореховые! Где ты видел хотя бы похожих близнецов?
- Нигде. Ты сейчас просто похож на самого обычного кота, которого против шерсти погладили.
- Ты еще «брысь» мне скажи.
- Баюн, согласно парадоксу Шредингера, ты можешь одновременно быть и Баюном, и Ученым, и даже Бегемотом, в этом нет ничего сверхъестественного. Правда, поскольку у нас урок литературы в шестом классе, а не квантовой физики в одиннадцатом, я бы предпочел, чтобы ты…
- Не напоминай мне об этом изверге! – На последнем слове кот скорее шипел, чем говорил.
- Басни. Я председательствую, тема сегодняшнего урока – басни Крылова.
Кольке казалось, что он сошел с ума. У него в голове настойчиво билась мысль: чем бы ни был код, с председательствующим котом ему не сравниться. Он посмотрел на Вальку и приподнял брови. Друг выразительно почесал нос. На их секретном языке жестов это означало примерно следующее: все нормально, сейчас поймешь.
Урок литературы был… сказочным. Слова Учителя окутывали класс, заставляя ребят задерживать дыхание. Кот рассказывал басни, растягивая слова и наигрывая на гитаре старинные напевы, такие, что ребятам казалось, будто они находятся где-то на холмах, слушая путешественников-сказителей. Вокруг шумели деревья, протяжно завывал ветер. И в этом царстве литературной стихии властвовали двое. Кот председательствовал. Учитель вел урок.
Звонок ворвался неожиданно, нарушая гармонию. Тонкое чувство чего-то неуловимого, нездешнего осыпалось, оставляя запах литературы. Никто и не подумал встать, до слов «урок окончен».
Учитель потер переносицу, когда класс ушел на перемену в коридор:
- Баюнки?
- Баюнки.
***
Колька смотрел в окно. Почему-то желание немедленно похвастаться летними приключениями пропало. А ведь он гладил дельфина! А летом в деревне дед дал ему пострелять из ружья.
Колька дернул плечами, будто отгоняя непрошеные мысли. Не помогло. Он вернулся в класс.
Учитель вопросительно посмотрел на мальчика. А Колька и не знал, что сказать.
Пожал плечами. Хотелось спросить… а что, собственно спросить? Почему кот председательствует? Но это же было очевидно.
Баюн, кот, председательствует! И точка.
Нет, хотелось узнать, кто Он, Учитель. Но как задать вопрос, который еще в собственной голове не прозвучал?
Вот, человек проверяет тетради. Все учителя проверяют тетради. От этой повинности избавлены только, наверное, физкультурники и девушка-студентка, которая ведет изо. Колька не представлял себе, как это, проверить столько тетрадей.
Ничего необычного.
Но рядом сидел кот. Неужели кот определяет учителя? Все дело в нем?
Разве так бывает? Почему Баюн выбрал этот класс? Или этого Учителя? Раньше в школе никогда не пахло свежим ветром. Книгами - сколько угодно, красками иногда, даже знаниям несколько раз. Колька решился.
- Как, - слова пропали, - Баюн… кто он… Вы…?
На него взглянул Учитель:
- Ну а сам-то как думаешь?
- У меня дома живет Зефир. И я его не понимаю. А Баюн…
- Баюн сам пришел. Лет десять назад.
- Но не может все зависеть от председательствующего кота! – он невольно покосился на Баюна.
- Дурашка. От меня и не зависит ничего. – Кот потянулся. – Я выбираю за кем идти. Где председательствовать. Все остальное зависит от человека. Мы, вечные, привередливы в этом вопросе.
- Николай, Баюн – спутник. Он будет рядом, пока ему интересно. Понял, Баюнок?
Отвечать было не нужно. Колька это понял каким-то внутренним чувством. Он кивнул и спросил, глядя на Баюна:
-А сметану вы любите?
Драгунова Дарья. Что в банке?
Ребята во дворе поголовно заболели новой игрой. Называется она «Что в банке?» В жестяную коробку из-под печенья ведущий кладет предмет, а остальные пытаются его угадать. Главное – задавать наводящие вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Игру эту «привез» из лагеря Денис Соловьев, а Машка Тюрина раздобыла подходящую тару. Ну и поехало. Сначала в ход пошли яблоки, расчески, блокноты, а когда ребятня во вкус вошла, то уже и поинтереснее предметы: карманный насос для воздушных шаров, осколок тарелки, засушенная муха с подоконника.
Самое веселое было, конечно, не отгадывать, а прятать что-то в банку. Каждый старался удивить больше остальных. Сначала родители дворовой детворы даже вздохнули с облегчением – их чада с деревьев и крыш проржавевших сарайчиков переключились на что-то интеллектуальное. Но потом стало ясно – затишье временное, ведь за оригинальными вещицами дети стали залезать в куда более опасные места. Вовка Синицын, например, умудрился пробраться в кабинет директора школы и стащить печать. Ребят он, конечно, удивил и еще неделю ходил героем, но отец, которого дернули с работы звонком классного руководителя, удивил Вовку вечером еще сильнее.
В понедельник после школы Костик Зубцов анонсировал свой предстоящий дебют двумя словами: «Ща обалдеете». Машка передала ему банку и скрестила руки на груди: «Ну давай, удивляй». Костя отвернулся, покопался в огромном черном рюкзаке, вытащил что-то и сунул в банку. Ребята в ожидании стояли за его спиной.
– Готовы?
– Да!
– Ну, спрашивайте.
Переглянувшись, ребята обрушились с вопросами на гордо держащего коробку Костика.
– Это хрупкое?
– Нет.
– Это ценное?
– О, еще какое!
– Это мягкое?
– Нет.
– Пушистое?
– Нет.
– С ушками? – Катя никак не могла угомониться, потому что знала, что у Костика дома на выходных окотилась кошка.
– Да нет же, там не котенок. Я что, совсем дурак?
– Съедобное?
– Нет.
– Денис, тебе же сказали, что там не котенок, – съязвил Вовка, на что ребята дружно рассмеялись.
– Если потрясти банку, будет греметь?
– Да.
– Там деньги?
– Нет.
– Там что-то, что можно положить в школьный пенал?
– Пфф… Ну и вопрос! Что угодно можно положить в школьный пенал. Никита вообще туда на прошлой неделе сосиску недоеденную положил.
– Фу-у!
– Я доел потом, – возмущенно воскликнул Никита, пихнув Костика локтем. Банка предательски звякнула в руках. В глазах ребят блеснул огонек азарта.
– Ну что ты лезешь? – злобно прошипел Костя.
– Это железное?
– Да.
– Какой-то рабочий инструмент?
– Нет.
– Цепочка?
– Нет.
– Брелок?
– Возможно…
– Так нельзя отвечать! Да или нет?
– Ну, да…
– О, ну показывай! А говорил, что обалдеем.
– Так вы еще не угадали. Там не просто брелок.
– Ключи! – Крикнула Маша. – На чем же еще может быть брелок!
– Точно! Ключи!
– Ключики!
– Открывай!
– Ладно, ладно, – Костик неторопливо снял крышку с банки. Ребята, толкаясь, заглянули внутрь. На дне лежал ключ на металлическом колечке, к которому крепился брелок с номером 25.
– И все? Я думал, хотя бы брелок-зажигалка, – разочарованно протянул Вовка.
– Правда, Зубцов, что тут удивительного? – недовольно поджала губы Катя. Костя загадочно ухмыльнулся, достал ключи двумя пальчиками и потряс ими перед лицами ребят.
– Вот вы тормозы! Какой тут номер? – Костя указал на брелок.
– Ну, 25.
– А что у нас за дверью с номером 25?
– Учительская?!
– Ну да!
– Ты что, ключи от учительской спёр?
– Не спёр, а нашел. Их уборщица уронила.
– Печать-то директорская покруче будет, – сказал Вовка, невзначай напоминая всем о своей проделке.
– Да на кой нам твоя печать?
– А ключи на кой?
– Да вы что! Это же золотая жила. Мы сейчас быстренько зайдем в учительскую и наставим себе лишних пятерок в журнале. Никто ничего не поймет, а мы уже – раз – и в отличниках!
– Ну, не знаю… Учителя обычно в электронный журнал оценки ставят. А бумажный это так, для вида.
– А для электронного они откуда оценки берут? Из бумажного, конечно! Не будут же они всё запоминать! У нас классов вон сколько, – деловито убеждал всех Костик.
– А если поймают?
– Скажем, что нас Марина Павловна попросила за журналом зайти. Ну что, идем?
Ребята задумчиво переглянулись.
– Только не толпой надо. Пусть двое идут.
– Да. Например, девчонки, – сказал Денис.
– Это еще почему? – возмутилась Катя.
– Да вы как-то… поблагороднее, – смущенно пробормотал Соловьев.
– Это нечестно. Пусть идет тот, кто предложил.
– Тогда я только себе пятерки поставлю, – буркнул Костик.
– Ну и ставь. Больно надо.
– А вам всем двойки нарисую!
Угроза оказалась существенной.
– Ладно, пойдем, – сказал авантюрист Вовка и скинул с себя рюкзак.
На следующий день все принесли домой дневники с пятерками по литературе.
– Надо же, какой молодец! – Сказала мама Денису. – Это за что пятерка?
– За стихотворение.
– За какое? Мы же не учили.
– А это я сам выучил.
– Ну-ка и мне расскажи.
– Точнее, я его сам написал.
– Ого! Прочтешь?
– Вообще-то я стесняюсь.
– В классе читал, а меня стесняешься?
– Ну да. Там это… про любовь.
– Как интересно!
– Пойду я, погуляю.
– Ладно, беги, Пушкин.
А в среду Костика дома нахваливала бабушка.
– Ба, пятерка по математике! Настоящий Перельман.
– Кто такой этот пеликан?
– Не пеликан, а Перельман. Это ученый, который от Нобелевской премии отказался. По телевизору вчера показывали.
– Ну, уж не знаю, как там твой пеликан, а я бы не отказался.
В пятницу Марина Павловна задержала 5 «В» после уроков. Учительница была недовольной и долго молчала в ожидании, пока разбушевавшийся класс затихнет.
– У нас случилась неприятность, – проговорила она подчеркнуто строгим тоном. – Другие учителя сказали мне, что у многих ребят появились оценки, которых они не получали. Как вы можете это объяснить?
Все сидели тише воды ниже травы.
– Зубцов, ничего не хочешь сказать?
Костик за пару секунд стал пунцовым и уставился в невероятно притягательную трещину на парте.
– Я знаю про каждого, кто причастен к этой постыдной выходке. Ваши пятерки сегодня же превратятся в двойки, – и учительница, громко хлопнув дверью, вышла из класса.
– Да как она узнала? – вскрикнул Вовка. – Кто проболтался?
– Сами виноваты! – вдруг выпалил Никита. – Почему вы всем пятерок наставили, а мне – четверки одни?!
– Так ты, лапоть, на двойки учишься! Мы тебе и так успеваемость подняли!
– А кто над сосиской смеялся?
Тут уж в классе поднялся настоящий гул. Все загалдели, зашумели, затопали.
А Марина Павловна с улыбкой глядела в дверную щель и думала: «А ведь если бы не сосиска, «отличная» могла бы быть неделька!...»
Ребята во дворе поголовно заболели новой игрой. Называется она «Что в банке?» В жестяную коробку из-под печенья ведущий кладет предмет, а остальные пытаются его угадать. Главное – задавать наводящие вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Игру эту «привез» из лагеря Денис Соловьев, а Машка Тюрина раздобыла подходящую тару. Ну и поехало. Сначала в ход пошли яблоки, расчески, блокноты, а когда ребятня во вкус вошла, то уже и поинтереснее предметы: карманный насос для воздушных шаров, осколок тарелки, засушенная муха с подоконника.
Самое веселое было, конечно, не отгадывать, а прятать что-то в банку. Каждый старался удивить больше остальных. Сначала родители дворовой детворы даже вздохнули с облегчением – их чада с деревьев и крыш проржавевших сарайчиков переключились на что-то интеллектуальное. Но потом стало ясно – затишье временное, ведь за оригинальными вещицами дети стали залезать в куда более опасные места. Вовка Синицын, например, умудрился пробраться в кабинет директора школы и стащить печать. Ребят он, конечно, удивил и еще неделю ходил героем, но отец, которого дернули с работы звонком классного руководителя, удивил Вовку вечером еще сильнее.
В понедельник после школы Костик Зубцов анонсировал свой предстоящий дебют двумя словами: «Ща обалдеете». Машка передала ему банку и скрестила руки на груди: «Ну давай, удивляй». Костя отвернулся, покопался в огромном черном рюкзаке, вытащил что-то и сунул в банку. Ребята в ожидании стояли за его спиной.
– Готовы?
– Да!
– Ну, спрашивайте.
Переглянувшись, ребята обрушились с вопросами на гордо держащего коробку Костика.
– Это хрупкое?
– Нет.
– Это ценное?
– О, еще какое!
– Это мягкое?
– Нет.
– Пушистое?
– Нет.
– С ушками? – Катя никак не могла угомониться, потому что знала, что у Костика дома на выходных окотилась кошка.
– Да нет же, там не котенок. Я что, совсем дурак?
– Съедобное?
– Нет.
– Денис, тебе же сказали, что там не котенок, – съязвил Вовка, на что ребята дружно рассмеялись.
– Если потрясти банку, будет греметь?
– Да.
– Там деньги?
– Нет.
– Там что-то, что можно положить в школьный пенал?
– Пфф… Ну и вопрос! Что угодно можно положить в школьный пенал. Никита вообще туда на прошлой неделе сосиску недоеденную положил.
– Фу-у!
– Я доел потом, – возмущенно воскликнул Никита, пихнув Костика локтем. Банка предательски звякнула в руках. В глазах ребят блеснул огонек азарта.
– Ну что ты лезешь? – злобно прошипел Костя.
– Это железное?
– Да.
– Какой-то рабочий инструмент?
– Нет.
– Цепочка?
– Нет.
– Брелок?
– Возможно…
– Так нельзя отвечать! Да или нет?
– Ну, да…
– О, ну показывай! А говорил, что обалдеем.
– Так вы еще не угадали. Там не просто брелок.
– Ключи! – Крикнула Маша. – На чем же еще может быть брелок!
– Точно! Ключи!
– Ключики!
– Открывай!
– Ладно, ладно, – Костик неторопливо снял крышку с банки. Ребята, толкаясь, заглянули внутрь. На дне лежал ключ на металлическом колечке, к которому крепился брелок с номером 25.
– И все? Я думал, хотя бы брелок-зажигалка, – разочарованно протянул Вовка.
– Правда, Зубцов, что тут удивительного? – недовольно поджала губы Катя. Костя загадочно ухмыльнулся, достал ключи двумя пальчиками и потряс ими перед лицами ребят.
– Вот вы тормозы! Какой тут номер? – Костя указал на брелок.
– Ну, 25.
– А что у нас за дверью с номером 25?
– Учительская?!
– Ну да!
– Ты что, ключи от учительской спёр?
– Не спёр, а нашел. Их уборщица уронила.
– Печать-то директорская покруче будет, – сказал Вовка, невзначай напоминая всем о своей проделке.
– Да на кой нам твоя печать?
– А ключи на кой?
– Да вы что! Это же золотая жила. Мы сейчас быстренько зайдем в учительскую и наставим себе лишних пятерок в журнале. Никто ничего не поймет, а мы уже – раз – и в отличниках!
– Ну, не знаю… Учителя обычно в электронный журнал оценки ставят. А бумажный это так, для вида.
– А для электронного они откуда оценки берут? Из бумажного, конечно! Не будут же они всё запоминать! У нас классов вон сколько, – деловито убеждал всех Костик.
– А если поймают?
– Скажем, что нас Марина Павловна попросила за журналом зайти. Ну что, идем?
Ребята задумчиво переглянулись.
– Только не толпой надо. Пусть двое идут.
– Да. Например, девчонки, – сказал Денис.
– Это еще почему? – возмутилась Катя.
– Да вы как-то… поблагороднее, – смущенно пробормотал Соловьев.
– Это нечестно. Пусть идет тот, кто предложил.
– Тогда я только себе пятерки поставлю, – буркнул Костик.
– Ну и ставь. Больно надо.
– А вам всем двойки нарисую!
Угроза оказалась существенной.
– Ладно, пойдем, – сказал авантюрист Вовка и скинул с себя рюкзак.
На следующий день все принесли домой дневники с пятерками по литературе.
– Надо же, какой молодец! – Сказала мама Денису. – Это за что пятерка?
– За стихотворение.
– За какое? Мы же не учили.
– А это я сам выучил.
– Ну-ка и мне расскажи.
– Точнее, я его сам написал.
– Ого! Прочтешь?
– Вообще-то я стесняюсь.
– В классе читал, а меня стесняешься?
– Ну да. Там это… про любовь.
– Как интересно!
– Пойду я, погуляю.
– Ладно, беги, Пушкин.
А в среду Костика дома нахваливала бабушка.
– Ба, пятерка по математике! Настоящий Перельман.
– Кто такой этот пеликан?
– Не пеликан, а Перельман. Это ученый, который от Нобелевской премии отказался. По телевизору вчера показывали.
– Ну, уж не знаю, как там твой пеликан, а я бы не отказался.
В пятницу Марина Павловна задержала 5 «В» после уроков. Учительница была недовольной и долго молчала в ожидании, пока разбушевавшийся класс затихнет.
– У нас случилась неприятность, – проговорила она подчеркнуто строгим тоном. – Другие учителя сказали мне, что у многих ребят появились оценки, которых они не получали. Как вы можете это объяснить?
Все сидели тише воды ниже травы.
– Зубцов, ничего не хочешь сказать?
Костик за пару секунд стал пунцовым и уставился в невероятно притягательную трещину на парте.
– Я знаю про каждого, кто причастен к этой постыдной выходке. Ваши пятерки сегодня же превратятся в двойки, – и учительница, громко хлопнув дверью, вышла из класса.
– Да как она узнала? – вскрикнул Вовка. – Кто проболтался?
– Сами виноваты! – вдруг выпалил Никита. – Почему вы всем пятерок наставили, а мне – четверки одни?!
– Так ты, лапоть, на двойки учишься! Мы тебе и так успеваемость подняли!
– А кто над сосиской смеялся?
Тут уж в классе поднялся настоящий гул. Все загалдели, зашумели, затопали.
А Марина Павловна с улыбкой глядела в дверную щель и думала: «А ведь если бы не сосиска, «отличная» могла бы быть неделька!...»
Кислякова Софья. Дачный начальник
Он шёл на своих четырёх лапах, как-то по-особенному их подгибая. Казалось, они вот-вот могли сложиться, как складывается дедушкин складной метр: раз, раз – и отрезки по десять сантиметров плотно прилегают друг к другу.
На самом деле такая походка кота могла быть последствием его многочисленных травм, которые на своём недолгом кошачьем веку претерпел Сеня.
Это мы его так называли, когда Сеня появлялся на нашем дачном участке. Но кот был ничей, одинокий, дикий. Жил, где придётся. Часто сам добывал себе пропитание. И от такой жизни вид имел потрёпанный и злой. К людям Сеня не приближался. Проходя по нашему участку, он мог немного полежать от усталости или поесть. Бабушка завела ему для этого миску и наполняла её куриными косточками, супом или картошкой. Сеня обычно с жадностью съедал всё.
Дедушка, глядя на кота, часто называл его «Бандит». И Сеня при этом понимал, что речь идёт именно о нём, и зажмуривал глаза от некоторого удовольствия, пока лежал или ел на расстоянии от нас.
Кот и в самом деле выглядел по-бандитски. На голове торчало то, что осталось от его ушей. Большую их часть явно кто-то откусил и выплюнул.
Глаза были, как правило, больные, тоже повреждённые в кошачьей суровой жизни и от того утратившие симметрию. Один был уже, другой смотрел на мир широко.
И ещё у Сени вместо хвоста торчал коричневый короткий обрубок, как у рыси. Это уже люди, если можно их так назвать, сотворили над котом своё зло.
По кофейно-коричневому окрасу порода кота угадывалась с первого взгляда – сиамская. Тем экзотичнее он выглядел среди обычных, чёрно-бело-рыжих Мурок и Барсиков на просторах нашего дачного посёлка «Строитель».
Лет 40 назад первые участки под строительство дач выдавали строителям города, чтобы они насадили здесь садов, развели огороды – кому что нравится. Среди них был и мой дедушка. Всю жизнь он строил в городе жилые многоэтажные дома и здания. А у себя на участке выстроил деревянный дачный домик – маленький и уютный.
Бабушка посадила вокруг него яблони, малину, смородину. Разбила огород с теплицей.
Дачники в округе жили разные. И как бывшие строители, они чего только себе не настроили. Баньки, курятники, всевозможные кроличьи фермы.
Сене жизнь дачников была до лампочки. Посёлок Сеня «инспектировал», так обычно говорил дедушка. Кот наведывался в дачные владения, когда хотел. При этом он проходил по посёлку своим особенным маршрутом — по диагонали, не сворачивая, не обращая внимания на дачные посадки и строения.
Дачники встречали его по-разному. Кто-то, как мы, старались его подкормить. Кто-то пугался его появления, и кота гнали, не оказывая ему никакой продуктовой поддержки.
При этом Сеня пересекал местность очень уверенно. Съедал, что было для него приготовлено, равнодушно проходил мимо тех, кто его не любил или боялся.
По нашему участку кот обычно прокладывал свой путь обязательно рядом с теплицей. Потому что рядом с ней бабушка выставляла угощение для Сени.
Он чуял еду за несколько метров, останавливался, замирал, складывал свои лапы-метры, оценивал обстановку. Только после этого не спеша подходил к месту фудкорта и начинал есть. После быстро удалялся.
И вот в одно прекрасное лето дачный посёлок «Строитель» с его курятниками и фермами атаковали крысы. Дачники делились друг с другом впечатлением об этих неприятных встречах и разводили руками: что же теперь с ними делать?
Дело дошло до самого председателя дачного товарищества – главного человека над всеми дачниками в посёлке. Все звали его коротко Игнатьич. Невысокого роста, крепкого телосложения, он имел самый большой дом в округе – кирпичный, с большущей террасой и стеклянной теплицей, пристроенной к одной стене его домовладения. Помидоры и огурцы у председателя Игнатьича росли гигантских размеров, так что на осенних дачных ярмарках он брал главные призы.
Игнатьич пообещал крыс изгнать. Этим должна была заняться местная санэпидемстанция.
Может быть, кто-то и приезжал в дачный посёлок «Строитель» уничтожать крыс. Только на них это никак не подействовало. И дачники продолжали рассказывать друг другу о своих битвах с этими очень неприятными гостями.
Однажды пришлось с ними повстречаться и нам. В тот вечер Сеня замаячил на своём проторённом маршруте. Как обычно он пересекал наш участок, приседая на лапах, как будто желая их сложить. Приблизившись к теплице, Сеня почему-то неожиданно прижался к земле и замер, пристально высматривая, что в невысокой траве. Потом вдруг подпрыгнул на месте и в ту же секунду с рёвом на кого-то набросился. Потом ещё раз и ещё. После чего в траве как будто закрутился непонятно откуда взявшийся мяч.Мы с дедушкой побросали свои дела и побежали смотреть, что там такое происходит. По траве, поднимая серую пыль, катался Сеня, вцепившись лапами в какой-то серый шерстяной ком.
— Крыса! — воскликнул дедушка и схватился за стоявшую возле теплицы мотыгу.
Но никакого его участия в этой битве не потребовалось, потому что Сеня победил сам. Он подался назад, встряхнулся на своих складных лапах. Серое чудище с длинным хвостом и острой мордой лежало поодаль от Сени и не шевелилось.
Кот ещё немного подождал, ненадолго приблизился к поражённому противнику, повёл носом над ним, после чего отдалился, и прилёг на траву, вытянув лапы вперёд. Обрубок хвоста у Сени подрагивал.
Дедушка тем временем рассматривал побеждённого врага и даже перевернул его мотыгой на другой бок. Возле головы на шерсти зияла кровавая рана – след от зубов Сени. Кот просто придушил эту крысятину.
Мы не успели обсудить всех подробностей этой битвы, как вдруг Сеня сорвался с места и ринулся куда-то за теплицу. Вновь раздался его короткий устрашающий рык, и Сеня опять скрылся в траве, поднимая серую пыль.
— Ещё одна, — не то спрашивая, не то удивляясь, воскликнул дедушка и бросился с мотыгой к Сене на подмогу.
А тот преследовал вторую свою жертву. Ещё одна крысюка намеревалась погулять по нашему участку. Но встретила бесстрашного Сеню. Кот, по-видимому, уже задел её, но не так сильно, как нам всем хотелось бы. И крысяка сидела напротив Сени на своих задних лапах. Раскачивалась и, подняв передние лапы вверх, собиралась вновь напасть на Сеню. На наших глазах кот собрался весь и без всякого предупреждения прыгнул на это серое чудище всем телом. Он как-то успел ещё выпрямить лапы и заодно ими ударил своего врага.
Опять завязалась потасовка, подобная первой, и через несколько секунд крыса лежала бездыханная. А Сеня, понюхав её для верности, опять удалился и присел в траве.
— Какой молодец! – похвалил Сеню дедушка и ласково поманил его. — Сеня, Сеня!
Через несколько минут Сеню ожидала полная миска еды — картошка и кусок колбасы. Кот всё это с удовольствием ел.
Мы с дедушкой наперебой рассказывали бабушке о Сениных победах. Бабушка решила без мотыги в огород не выходить.
А дедушка взял лопату и отправился утилизировать то, что осталось от незваных гостей.
Сеня все лето успешно сражался с серым нашествием на дачный посёлок «Строитель». Слава о его победах передавалась дачниками. Дедушка рассказал, что несколько Сениных «трофеев» кто-то принёс и положил на дорогу к дому Игнатьича.
— Вот, мол, как надо председателю работать! – с улыбкой рассуждал дедушка. – А у нас, получается, кот Сеня председательствует в дачном посёлке.
Он шёл на своих четырёх лапах, как-то по-особенному их подгибая. Казалось, они вот-вот могли сложиться, как складывается дедушкин складной метр: раз, раз – и отрезки по десять сантиметров плотно прилегают друг к другу.
На самом деле такая походка кота могла быть последствием его многочисленных травм, которые на своём недолгом кошачьем веку претерпел Сеня.
Это мы его так называли, когда Сеня появлялся на нашем дачном участке. Но кот был ничей, одинокий, дикий. Жил, где придётся. Часто сам добывал себе пропитание. И от такой жизни вид имел потрёпанный и злой. К людям Сеня не приближался. Проходя по нашему участку, он мог немного полежать от усталости или поесть. Бабушка завела ему для этого миску и наполняла её куриными косточками, супом или картошкой. Сеня обычно с жадностью съедал всё.
Дедушка, глядя на кота, часто называл его «Бандит». И Сеня при этом понимал, что речь идёт именно о нём, и зажмуривал глаза от некоторого удовольствия, пока лежал или ел на расстоянии от нас.
Кот и в самом деле выглядел по-бандитски. На голове торчало то, что осталось от его ушей. Большую их часть явно кто-то откусил и выплюнул.
Глаза были, как правило, больные, тоже повреждённые в кошачьей суровой жизни и от того утратившие симметрию. Один был уже, другой смотрел на мир широко.
И ещё у Сени вместо хвоста торчал коричневый короткий обрубок, как у рыси. Это уже люди, если можно их так назвать, сотворили над котом своё зло.
По кофейно-коричневому окрасу порода кота угадывалась с первого взгляда – сиамская. Тем экзотичнее он выглядел среди обычных, чёрно-бело-рыжих Мурок и Барсиков на просторах нашего дачного посёлка «Строитель».
Лет 40 назад первые участки под строительство дач выдавали строителям города, чтобы они насадили здесь садов, развели огороды – кому что нравится. Среди них был и мой дедушка. Всю жизнь он строил в городе жилые многоэтажные дома и здания. А у себя на участке выстроил деревянный дачный домик – маленький и уютный.
Бабушка посадила вокруг него яблони, малину, смородину. Разбила огород с теплицей.
Дачники в округе жили разные. И как бывшие строители, они чего только себе не настроили. Баньки, курятники, всевозможные кроличьи фермы.
Сене жизнь дачников была до лампочки. Посёлок Сеня «инспектировал», так обычно говорил дедушка. Кот наведывался в дачные владения, когда хотел. При этом он проходил по посёлку своим особенным маршрутом — по диагонали, не сворачивая, не обращая внимания на дачные посадки и строения.
Дачники встречали его по-разному. Кто-то, как мы, старались его подкормить. Кто-то пугался его появления, и кота гнали, не оказывая ему никакой продуктовой поддержки.
При этом Сеня пересекал местность очень уверенно. Съедал, что было для него приготовлено, равнодушно проходил мимо тех, кто его не любил или боялся.
По нашему участку кот обычно прокладывал свой путь обязательно рядом с теплицей. Потому что рядом с ней бабушка выставляла угощение для Сени.
Он чуял еду за несколько метров, останавливался, замирал, складывал свои лапы-метры, оценивал обстановку. Только после этого не спеша подходил к месту фудкорта и начинал есть. После быстро удалялся.
И вот в одно прекрасное лето дачный посёлок «Строитель» с его курятниками и фермами атаковали крысы. Дачники делились друг с другом впечатлением об этих неприятных встречах и разводили руками: что же теперь с ними делать?
Дело дошло до самого председателя дачного товарищества – главного человека над всеми дачниками в посёлке. Все звали его коротко Игнатьич. Невысокого роста, крепкого телосложения, он имел самый большой дом в округе – кирпичный, с большущей террасой и стеклянной теплицей, пристроенной к одной стене его домовладения. Помидоры и огурцы у председателя Игнатьича росли гигантских размеров, так что на осенних дачных ярмарках он брал главные призы.
Игнатьич пообещал крыс изгнать. Этим должна была заняться местная санэпидемстанция.
Может быть, кто-то и приезжал в дачный посёлок «Строитель» уничтожать крыс. Только на них это никак не подействовало. И дачники продолжали рассказывать друг другу о своих битвах с этими очень неприятными гостями.
Однажды пришлось с ними повстречаться и нам. В тот вечер Сеня замаячил на своём проторённом маршруте. Как обычно он пересекал наш участок, приседая на лапах, как будто желая их сложить. Приблизившись к теплице, Сеня почему-то неожиданно прижался к земле и замер, пристально высматривая, что в невысокой траве. Потом вдруг подпрыгнул на месте и в ту же секунду с рёвом на кого-то набросился. Потом ещё раз и ещё. После чего в траве как будто закрутился непонятно откуда взявшийся мяч.Мы с дедушкой побросали свои дела и побежали смотреть, что там такое происходит. По траве, поднимая серую пыль, катался Сеня, вцепившись лапами в какой-то серый шерстяной ком.
— Крыса! — воскликнул дедушка и схватился за стоявшую возле теплицы мотыгу.
Но никакого его участия в этой битве не потребовалось, потому что Сеня победил сам. Он подался назад, встряхнулся на своих складных лапах. Серое чудище с длинным хвостом и острой мордой лежало поодаль от Сени и не шевелилось.
Кот ещё немного подождал, ненадолго приблизился к поражённому противнику, повёл носом над ним, после чего отдалился, и прилёг на траву, вытянув лапы вперёд. Обрубок хвоста у Сени подрагивал.
Дедушка тем временем рассматривал побеждённого врага и даже перевернул его мотыгой на другой бок. Возле головы на шерсти зияла кровавая рана – след от зубов Сени. Кот просто придушил эту крысятину.
Мы не успели обсудить всех подробностей этой битвы, как вдруг Сеня сорвался с места и ринулся куда-то за теплицу. Вновь раздался его короткий устрашающий рык, и Сеня опять скрылся в траве, поднимая серую пыль.
— Ещё одна, — не то спрашивая, не то удивляясь, воскликнул дедушка и бросился с мотыгой к Сене на подмогу.
А тот преследовал вторую свою жертву. Ещё одна крысюка намеревалась погулять по нашему участку. Но встретила бесстрашного Сеню. Кот, по-видимому, уже задел её, но не так сильно, как нам всем хотелось бы. И крысяка сидела напротив Сени на своих задних лапах. Раскачивалась и, подняв передние лапы вверх, собиралась вновь напасть на Сеню. На наших глазах кот собрался весь и без всякого предупреждения прыгнул на это серое чудище всем телом. Он как-то успел ещё выпрямить лапы и заодно ими ударил своего врага.
Опять завязалась потасовка, подобная первой, и через несколько секунд крыса лежала бездыханная. А Сеня, понюхав её для верности, опять удалился и присел в траве.
— Какой молодец! – похвалил Сеню дедушка и ласково поманил его. — Сеня, Сеня!
Через несколько минут Сеню ожидала полная миска еды — картошка и кусок колбасы. Кот всё это с удовольствием ел.
Мы с дедушкой наперебой рассказывали бабушке о Сениных победах. Бабушка решила без мотыги в огород не выходить.
А дедушка взял лопату и отправился утилизировать то, что осталось от незваных гостей.
Сеня все лето успешно сражался с серым нашествием на дачный посёлок «Строитель». Слава о его победах передавалась дачниками. Дедушка рассказал, что несколько Сениных «трофеев» кто-то принёс и положил на дорогу к дому Игнатьича.
— Вот, мол, как надо председателю работать! – с улыбкой рассуждал дедушка. – А у нас, получается, кот Сеня председательствует в дачном посёлке.
Лозовая Елизавета. Двое
Вас когда-нибудь укорял кот? А вот Владимира Викторовича каждый день. Стоит заметить, укорял не просто так, а за дело.
Был холодный безрадостный вечер. На столе стояла чашка чая, внимательно разглядывая пустой лист. Просыпалась, стряхивая дремоту и тут же снова засыпала ручка, нависающая над листом.
– И что? – поднял морду кот на подлокотнике кресла. – Никак? Мужчина пренебрежительно дернул плечом, отбросив блокнот в сторону. Собеседник неодобрительно махнул драным хвостом.
– Слушай, я устал, – взмолился мужчина, на что кот закатил глаза. – Неужели тебе не хочется всё это прекратить? Рыжий, примерившись, грузно спрыгнул на пол и замер, переводя дух.
– Сам виноват, – заявил кот, пустив в голос рычащие нотки. Укор казался смехотворным, но Владимир Викторович вжался в кресло.
– Ты мне надоел. Снова мусолишь одно и то же. Как будешь готов снова попробовать – зови.
И в холодной комнате, где время уснуло ещё в 90-х, остался только человек – рыжий хвост мелькнул по направлению к темной кухне. Тихо икали тяжелые часы, под подоконником завывал ветер, а сверху раздавался топот маленьких ножек. Владимир Викторович поднял глаза к пыльному плафону и уже открыл, было, рот, но замер. Он сидел неподвижно, а по ногам змеей ползла судорога, щекочущая мышцы раздвоенным языком. Время перетекало неторопливо. Звук стрелки прозвучал набатом, а освобожденный от пленяющего страха мужчина сполз по дивану вниз. Острозубая пружина колола в спину, но незадачливый писатель уже улизнул в лабиринты своей памяти.
***
– Как долго может продолжаться цикл бесконечных смертей и перерождений? – с интересом спросил маленький мальчик у сидящего напротив кота. Тот что-то муркнул или даже буркнул, не заинтересованный в общении. Мальчишка раздраженно тыкнул Дыню пальцем, от чего кот сразу заворчал, морща нос. Вовка отвернулся от вредины и бросил взгляд в окно.
По улице плыла людская толпа, огрызаясь сама на себя, гудя сотнями голосов, словом – город жил. Вредный, скучный и грязный город!
– Эй, Дынь, почему тут все такие мрачные? Ответа снова не было. Батарея обожгла ногу. Тихонько ойкнув, мальчик пересел на подоконник и , прислонился щекой к стеклу. Кот устроился рядышком. Так они сидели, пока в замке не щелкнул ключ, впуская в квартиру дух города. Вовка сразу же скатился с наскучившего подоконника, кинувшись в коридор встречать родителей. Они были теплые, уютные и веселые. Отец положил тяжелую руку на голову сына и добродушно улыбнулся. Мальчонка оскалился в ответ кривыми молочными зубами.
– Милый, нужно улыбаться нежнее, – мягко засмеялась мама, поцеловав Вовку в лоб, прежде чем исчезнуть на кухне. Когда квартиру затопил золотой свет из лона пыльных абажуров, сразу сделалось уютно.
– Дыня сегодня расскажет нам свои истории? – прогудел отец со смехом. –Беги, принеси его к нам. Радостно кивнув, мальчишка юркнул в темный зал, схватил в охапку разом погрустневшего кота и побежал к родителям на кухню. Там уже что-то приятно шкворчало и плевалось горячим паром. Счастливый, Вовка взобрался на стул, усадив рыжего рядом. Кот смотрел вопросительно: «Ну как я могу знать какие-то сказки?»
– Сегодня я буду голосом Дыни! – важно заявил мальчишка, отсекая сомнения сказочника. – Дыня, начинай! Кот прикрыл глаза, усаживаясь поудобнее. Вовка замер, папа с интересом поглядывал на эту картину и даже очень занятая мама обернулась.
– Давным-давно, – начал мальчик, внимательно глядя на кота, – Жили-были… два королевства. И в одном из них водились… ужасные-ужасные драконы! Мама ахнула, прикрыв лицо руками, представив себе этих страшных существ. Вовка победно улыбнулся. – А в другом жили маленькие розовые, белые, синие, зеленые… лошади? – мальчик недоверчиво взглянул на Дыню, но рассказчик был невозмутим. – И однажды лошади поняли, что с драконами нужно бороться. И так началась великая война! Мама снова ахнула. Кот приоткрыл смеящийся янтарный глаз. – Но война была не очень страшная, – поспешил успокоить маму Вовка. – И вообще они дрались на подушках! И вот, однажды появилась чудесная крылатая…зебра? – Кот дернул тонким ушком, соглашаясь. – Зебра остановила их битву! Папа одобрительно кивнул, а на шипящей сковороде заплясали пузырьки масла, подпекая аристократично бледные бока макарон.
После ужина за окном совсем стемнело, но маленький фонарик позволял увидеть написанное в старой тетради. Она стала домом для косых строк стихов, сказок, драконов и волшебной зебры. Маленький карандаш снова встал у начала страницы.
– Ну что, Дынь? – хищно улыбнулся Вовка. – Готов к путешествию? Кот поднял морду, утыкаясь в руку с орудием по созданию миров и замурчал. Вовка чуть не рассмеялся от радости и резко прикусил край одеяльной крыши.
– Сегодня наша остановка – мир, где есть корабли и пираты! Ждешь? О, я хочу, очень хочу увидеть пушки! Дыня улыбнулся (правда, это больше походило на оскал) и выпалил: – Я готов, капитан!
***
Из сна вырвала очередная судорога. По привычке Владимир Викторович попытался нащупать одеяло, но не обнаружил его. Зато обнаружил листок на планшетке и обломанный кусок карандаша. Глаза так и не смогли распахнуться, и мужчина вновь провалился в сон.
***
– Мам, пап, сегодня сказка про пиратов и племя синих попугаев! – веселый голос разбил романтику вечернего коридора. Широкие ладони подхватили Вовку и усадили на плечи. Из кухни выглянула мама:
– Маленькие и большие пираты, прошу к столу! Думаю, что сегодня сказка Дыни будет очень кстати, не так ли? Вовка, вцепившийся в папины волосы, радостно рассмеялся. Внутри плясал огонек желания как можно скорее рассказать о приключениях. Очень-очень хотелось рассказать, как великий Пират, – разумеется, не Вовка, разгромил королевскую флотилию!
***
Окончательно пробудившись, мужчина, не обращая ни на что внимания, резко вцепился в планшетку и обломок карандаша. Он не видел окружения. Это было не нужно. Кривые строки, плывущие под сонным взглядом, топтали белизну бумаги. Листы сменяли друг друга, но Владимир Викторович писал и писал. Листы шуршали до тех пор, когда карандаш скрипнул и не оставил следа – совсем стерся.
Внезапно появившийся кот потерся о щеку.
– Спасибо, – с нежностью промурлыкал Дыня, держа в лапах стопку желтой мятой бумаги. Владимир попытался забрать листы, но кот резко махнул хвостом и увильнул:
– И не проси. Не отдам, пока не отредактирую. А потом уже посмотришь и, гляди, опубликуешь.
– Да постой ты! Что там вообще? И зачем тебе моя писанина?
– Там твои следы и моя награда, – терпеливо пояснил кот, недовольно сверкая рыжими глазами. – Что ты ещё хочешь? Спросить что-то про сон? Мужчина растерянно кивнул.
– Так спрашивай.
– Почему мы раньше путешествовали, а сейчас…
– Потому что я не хочу отправлять тебя на завод. И в контору ЖКХ. И на дачный участок. Я не вижу в тебе мечты, а вот это, – котяра поднял рукописи над головой, – Мои координаты. Собирайся, мы выезжаем в XIX век. Писатель глянул на часы.
– Это не предложение и не вопрос. Это приказ. И это моя работа, как твоего персонального водителя. Живо!
– А куда ты доставляешь, водитель? – съязвил Владимир, оттягивая время.
– Туда, куда получу координаты. А ты выдал мне направление в своем рассказе на XIX век. И нам уже пора!
Тихо хлопнуло. Вставало солнце, сияло безграничное небо. За окном была зима. Хрустящая, снежная и такая красивая зима. В настоящем исчезло два силуэта: писатель и его кот. Неразлучная пара, не существующая друг без друга.
Вас когда-нибудь укорял кот? А вот Владимира Викторовича каждый день. Стоит заметить, укорял не просто так, а за дело.
Был холодный безрадостный вечер. На столе стояла чашка чая, внимательно разглядывая пустой лист. Просыпалась, стряхивая дремоту и тут же снова засыпала ручка, нависающая над листом.
– И что? – поднял морду кот на подлокотнике кресла. – Никак? Мужчина пренебрежительно дернул плечом, отбросив блокнот в сторону. Собеседник неодобрительно махнул драным хвостом.
– Слушай, я устал, – взмолился мужчина, на что кот закатил глаза. – Неужели тебе не хочется всё это прекратить? Рыжий, примерившись, грузно спрыгнул на пол и замер, переводя дух.
– Сам виноват, – заявил кот, пустив в голос рычащие нотки. Укор казался смехотворным, но Владимир Викторович вжался в кресло.
– Ты мне надоел. Снова мусолишь одно и то же. Как будешь готов снова попробовать – зови.
И в холодной комнате, где время уснуло ещё в 90-х, остался только человек – рыжий хвост мелькнул по направлению к темной кухне. Тихо икали тяжелые часы, под подоконником завывал ветер, а сверху раздавался топот маленьких ножек. Владимир Викторович поднял глаза к пыльному плафону и уже открыл, было, рот, но замер. Он сидел неподвижно, а по ногам змеей ползла судорога, щекочущая мышцы раздвоенным языком. Время перетекало неторопливо. Звук стрелки прозвучал набатом, а освобожденный от пленяющего страха мужчина сполз по дивану вниз. Острозубая пружина колола в спину, но незадачливый писатель уже улизнул в лабиринты своей памяти.
***
– Как долго может продолжаться цикл бесконечных смертей и перерождений? – с интересом спросил маленький мальчик у сидящего напротив кота. Тот что-то муркнул или даже буркнул, не заинтересованный в общении. Мальчишка раздраженно тыкнул Дыню пальцем, от чего кот сразу заворчал, морща нос. Вовка отвернулся от вредины и бросил взгляд в окно.
По улице плыла людская толпа, огрызаясь сама на себя, гудя сотнями голосов, словом – город жил. Вредный, скучный и грязный город!
– Эй, Дынь, почему тут все такие мрачные? Ответа снова не было. Батарея обожгла ногу. Тихонько ойкнув, мальчик пересел на подоконник и , прислонился щекой к стеклу. Кот устроился рядышком. Так они сидели, пока в замке не щелкнул ключ, впуская в квартиру дух города. Вовка сразу же скатился с наскучившего подоконника, кинувшись в коридор встречать родителей. Они были теплые, уютные и веселые. Отец положил тяжелую руку на голову сына и добродушно улыбнулся. Мальчонка оскалился в ответ кривыми молочными зубами.
– Милый, нужно улыбаться нежнее, – мягко засмеялась мама, поцеловав Вовку в лоб, прежде чем исчезнуть на кухне. Когда квартиру затопил золотой свет из лона пыльных абажуров, сразу сделалось уютно.
– Дыня сегодня расскажет нам свои истории? – прогудел отец со смехом. –Беги, принеси его к нам. Радостно кивнув, мальчишка юркнул в темный зал, схватил в охапку разом погрустневшего кота и побежал к родителям на кухню. Там уже что-то приятно шкворчало и плевалось горячим паром. Счастливый, Вовка взобрался на стул, усадив рыжего рядом. Кот смотрел вопросительно: «Ну как я могу знать какие-то сказки?»
– Сегодня я буду голосом Дыни! – важно заявил мальчишка, отсекая сомнения сказочника. – Дыня, начинай! Кот прикрыл глаза, усаживаясь поудобнее. Вовка замер, папа с интересом поглядывал на эту картину и даже очень занятая мама обернулась.
– Давным-давно, – начал мальчик, внимательно глядя на кота, – Жили-были… два королевства. И в одном из них водились… ужасные-ужасные драконы! Мама ахнула, прикрыв лицо руками, представив себе этих страшных существ. Вовка победно улыбнулся. – А в другом жили маленькие розовые, белые, синие, зеленые… лошади? – мальчик недоверчиво взглянул на Дыню, но рассказчик был невозмутим. – И однажды лошади поняли, что с драконами нужно бороться. И так началась великая война! Мама снова ахнула. Кот приоткрыл смеящийся янтарный глаз. – Но война была не очень страшная, – поспешил успокоить маму Вовка. – И вообще они дрались на подушках! И вот, однажды появилась чудесная крылатая…зебра? – Кот дернул тонким ушком, соглашаясь. – Зебра остановила их битву! Папа одобрительно кивнул, а на шипящей сковороде заплясали пузырьки масла, подпекая аристократично бледные бока макарон.
После ужина за окном совсем стемнело, но маленький фонарик позволял увидеть написанное в старой тетради. Она стала домом для косых строк стихов, сказок, драконов и волшебной зебры. Маленький карандаш снова встал у начала страницы.
– Ну что, Дынь? – хищно улыбнулся Вовка. – Готов к путешествию? Кот поднял морду, утыкаясь в руку с орудием по созданию миров и замурчал. Вовка чуть не рассмеялся от радости и резко прикусил край одеяльной крыши.
– Сегодня наша остановка – мир, где есть корабли и пираты! Ждешь? О, я хочу, очень хочу увидеть пушки! Дыня улыбнулся (правда, это больше походило на оскал) и выпалил: – Я готов, капитан!
***
Из сна вырвала очередная судорога. По привычке Владимир Викторович попытался нащупать одеяло, но не обнаружил его. Зато обнаружил листок на планшетке и обломанный кусок карандаша. Глаза так и не смогли распахнуться, и мужчина вновь провалился в сон.
***
– Мам, пап, сегодня сказка про пиратов и племя синих попугаев! – веселый голос разбил романтику вечернего коридора. Широкие ладони подхватили Вовку и усадили на плечи. Из кухни выглянула мама:
– Маленькие и большие пираты, прошу к столу! Думаю, что сегодня сказка Дыни будет очень кстати, не так ли? Вовка, вцепившийся в папины волосы, радостно рассмеялся. Внутри плясал огонек желания как можно скорее рассказать о приключениях. Очень-очень хотелось рассказать, как великий Пират, – разумеется, не Вовка, разгромил королевскую флотилию!
***
Окончательно пробудившись, мужчина, не обращая ни на что внимания, резко вцепился в планшетку и обломок карандаша. Он не видел окружения. Это было не нужно. Кривые строки, плывущие под сонным взглядом, топтали белизну бумаги. Листы сменяли друг друга, но Владимир Викторович писал и писал. Листы шуршали до тех пор, когда карандаш скрипнул и не оставил следа – совсем стерся.
Внезапно появившийся кот потерся о щеку.
– Спасибо, – с нежностью промурлыкал Дыня, держа в лапах стопку желтой мятой бумаги. Владимир попытался забрать листы, но кот резко махнул хвостом и увильнул:
– И не проси. Не отдам, пока не отредактирую. А потом уже посмотришь и, гляди, опубликуешь.
– Да постой ты! Что там вообще? И зачем тебе моя писанина?
– Там твои следы и моя награда, – терпеливо пояснил кот, недовольно сверкая рыжими глазами. – Что ты ещё хочешь? Спросить что-то про сон? Мужчина растерянно кивнул.
– Так спрашивай.
– Почему мы раньше путешествовали, а сейчас…
– Потому что я не хочу отправлять тебя на завод. И в контору ЖКХ. И на дачный участок. Я не вижу в тебе мечты, а вот это, – котяра поднял рукописи над головой, – Мои координаты. Собирайся, мы выезжаем в XIX век. Писатель глянул на часы.
– Это не предложение и не вопрос. Это приказ. И это моя работа, как твоего персонального водителя. Живо!
– А куда ты доставляешь, водитель? – съязвил Владимир, оттягивая время.
– Туда, куда получу координаты. А ты выдал мне направление в своем рассказе на XIX век. И нам уже пора!
Тихо хлопнуло. Вставало солнце, сияло безграничное небо. За окном была зима. Хрустящая, снежная и такая красивая зима. В настоящем исчезло два силуэта: писатель и его кот. Неразлучная пара, не существующая друг без друга.
Волкова Татьяна. Музей воспоминаний
Друзья часто говорят, что моя квартира похожа на музей. Особенно моя комната, где на стенах, полках и других поверхностях множество предметов со своей историей. Плакаты, фотографии и письма на стенах. Необычные вещи на столе или тумбочке. Куча дедушкиных вещей, лежащих то тут, то там. От его лобзика и паяльника до портфеля с пластинками. Но главное сокровище - это книги, они буквально везде. Со стороны, наверное, и правда, похоже на экспозицию в музее, а я как главный экскурсовод с удовольствием приоткрываю дверь в прошлое, рассказывая истории, связанные с экспонатами. Людям интересно узнать, что и откуда появилось у меня в квартире, а мне только в радость рассказывать о своей семье. Ведь для меня это не просто плакат, вырезка из газеты или гитара. Каждая из вещей для меня как машина времени. Прикоснувшись к любой из них, я увижу картинки из детства, которые согревают сердце в самые холодные вечера.
Например, дедушкина старая кепка. Когда-то она была белой, но по прошествии лет стала желтой и выгоревшей. Он всегда ходил в ней по даче. Сколько я себя помню, было что-то вечное в этой троице - дедушка, дача и кепка. Первое воспоминание о ней тоже связанно с дачей.
Мне 3 года, я помогаю дедушке снимать колорадских жуков с картошки. Счастливая от того, что мне доверили такое важное задание, показываю их маме, а она визжит от страха и брезгливости. То лето было до одури жарким, а у меня были темные волосы, и дедушка без слов надевал эту кепку на меня. Я аж надувалась от гордости в тот момент. Бегая в ней по участку, я воображала, что это корона короля, которую ни в коем случае нельзя испачкать. Наверное, со стороны выглядело комично, когда я преувеличено аккуратно снимала эту заношенную кепку, отряхивала её и садилась играть в песочнице.
Мне 5 лет, я боюсь спать в темноте. Мама включает мне старый ночник в виде подсвечника, каждый раз, когда мы на даче. И я засыпаю у нее в объятьях, смотря в кромешной тьме на маленький и красный огонек на стене. Что интересно, в этом ночнике всегда работала только одна из двух лампочек. Вторую мы в скором времени приспособили как подставку для пера. Недалеко от дачи было страусиное хозяйство, куда нас позвали съездить соседи по даче. Я практически ничего не помню, кроме мордочки страуса и загона, но мама купила мне там перо. Когда мы приехали обратно на дачу, я с детским восторгом рассказывала услышанные факты про этих любопытных птиц дедушке. Сейчас это перо и ночник висят на стене в моей комнате, лампочка еле - еле работает, а перо крепится уже более надежно.
Мне исполняется 8 лет, мама с дедушкой дарят мне маленькие сережки в виде бабочек в честь того, что я уже первоклассница. Сережки невероятно красивые из малюсеньких рубинов и изумрудов. Открыть замок на этих сережках было практически невозможно, без разных примочек в стиле агента 007. Но по закону подлости одна из них непостижимым образом раскрутилась в самом неподходящем для этого месте - аквапарке на Тенерифе. Вторая же сейчас хранится в шкатулке вместе с бабушкиными старыми украшениями. А еще тогда я повадилась устраивать себе дом на дедушкином шкафу. Пока мама не видела, приносила себе кучу подушек, сладкого и сухариков, которые тайно покупал мне дедушка, и залазила на шкаф. Дедушка читал, а я смотрела со шкафа «Папиных дочек» или вместе с ним футбол. Это было так по-домашнему, особенно в тот момент, когда у меня всё затекало, и я спускалась к дедушке и болтала с ним.
Мне 11, я делаю дедушке открытку на 81 день рождения и вешаю на шкаф перед его кроватью, потому что он уже не встает. Он долго болел и в какой-то момент просто перестал сначала выходить на улицу, в подъезд, а потом уже и в другие комнаты. Это было очень тяжелое время, и возвращаться туда не хочется ни мне, ни маме. Октябрь. Дедушка умирает. Мы сжигаем его кровать через 40 дней. Кровать, на которой я засыпала у него под боком, пока он рассказывал мне сказки. На которой я прыгала, пока никто не видел, строила на ней домики и постоянно слушала сказки. Где-то там, в костре, закончилось мое детство. Страна сказок пропала, осталось лишь красное покрывало, в которое я куталась в попытках продлить счастливые моменты.
Мне 13, я уже с неохотой езжу на дачу. На нашем полуострове появился бобер и сгрыз корни черемухи, которую посадил дедушка. Она начала гнить изнутри и высыхать. А бабушкина яблоня сломалась от ветра, хотя до этого стояла спокойно 30 лет. Дача в один момент превратилась в хрупкое, как будто умирающее строение. Я хватаюсь за дедушкины инструменты. Спиливаю сухостой, делаю пугало, забиваю гвозди и чиню что-то по мелочи. Не знаю, помогает это или нет, но надеюсь и продолжаю пытаться что-то исправить. В конце лета я увожу с дачи гитару, выпущенную в 1980г. Мечтаю, что научусь играть хотя бы кузнечика, но забываю про нее быстро и просто вешаю ее на стену для красоты.
Мне 15, я с фанатизмом разбираю дедушкины фотографии и документы. Нахожу его и бабушкин выпускной альбом и кучу других уже совместных фотографии. В документах прописана родословная нашей семьи со всеми адресами и контактах аж до 1850 года. Когда-то дедушка исследовал ворох информации в архивах и записал это вручную, причем железным пером. Только позднее он попросил маму набрать это на печатной машинке. А в одной сумке огромная гора писем от родственников и коллег бабушке, дедушке и маме. Советские открытки невероятно красивые и продуманные, их можно долго рассматривать и изучать. Откладываю себе самые красивые и вкладываю их в фотоальбом. Ну а читать письма, написанные вручную - это отдельное удовольствие. Можно проследить почерк родственников и можно даже найти, что прадедушка пишет букву "У" точно так же, как и ты. Мама в этот момент достает из глубин шкафа дедушкину рубаху с народными узорами, в которой он женился. И невероятное бабушкино свадебное платье, полностью кружевное - ручной работы. А еще единственные вещи из дедушкиного гардероба, которые мы не раздали в разные фонды: тельняшка, футболка и свитер, вполне закономерно переселились в мой шкаф.
Мне 17, мы собираемся продавать дачу и вывозим оттуда нужные вещи. Я буквально вывожу всё, до чего дотянусь. Так у меня в комнате появляются и громадная карта Советского Союза, и бюст Маяковского, лобзик, паяльник и даже неработающий магнитофон. Не до конца понимаю, зачем мне половина из этих вещей, но упорно тащу их домой. Начинаю выжигать по дереву с помощью паяльника и делать меч из фанеры. Стараюсь придать ему историческую точность мельчайшими деталями. Начинаю читать дедушкины любимые произведения и так же, как и он, чинить старые книги на досуге. Выделяю отдельную полку для этих книг.
Мне 18. Дача продана. Мы последний раз ночуем там. Забираем последние мешки с вещами и прощаемся с дачей. Я обхожу буквально всю округу и впитываю малейший звук или запах местности. Собираю гербарий из дедушкиных цветов и забираю мелиссу с корнями, чтобы и дома пить вкусный чай. Мама забирает огромное количество пионов с грядок, какие-то - просто как букет, какие-то - с корнями. Где-то часа за 3 до отъезда нахожу в бане последнюю дедушкину пачку LM с зажигалкой и забираю их с собой. Пачка выглядит так, как будто хозяин только отошел и сейчас вернется. Помню, что в последние годы дедушка часто мечтал о LM, но ему было это противопоказанно по состоянию здоровья, поэтому отвожу эту пачку ему на могилу. Оставляю себе эту зажигалку и больше не расстаюсь с ней, перекладываю ее в карманы сумок или штанов, в которых собираюсь куда-то идти. У нас дома стоит та же фотография, что и на могиле. Он там улыбается. Как всю жизнь он улыбался только мне.
Мне все еще 18, у меня начинает получаться не цепляться за прошлое. Я стараюсь жить дальше, периодически давая себе возможность сесть в собственную машину времени и окунуться в детство. Холодной зимой отправляюсь в теплое лето на деревенском сказочном полуострове. Понимаю, что время не лечит, оно, как река, смывает плохое из памяти и оставляет только опыт. Наверное, дедушка гордился бы мной, видя, как я изменилась за эти 6,5 лет. Думая об этом или просто вспоминая его, я получаю новые силы для того, чтобы идти дальше с улыбкой.
Друзья часто говорят, что моя квартира похожа на музей. Особенно моя комната, где на стенах, полках и других поверхностях множество предметов со своей историей. Плакаты, фотографии и письма на стенах. Необычные вещи на столе или тумбочке. Куча дедушкиных вещей, лежащих то тут, то там. От его лобзика и паяльника до портфеля с пластинками. Но главное сокровище - это книги, они буквально везде. Со стороны, наверное, и правда, похоже на экспозицию в музее, а я как главный экскурсовод с удовольствием приоткрываю дверь в прошлое, рассказывая истории, связанные с экспонатами. Людям интересно узнать, что и откуда появилось у меня в квартире, а мне только в радость рассказывать о своей семье. Ведь для меня это не просто плакат, вырезка из газеты или гитара. Каждая из вещей для меня как машина времени. Прикоснувшись к любой из них, я увижу картинки из детства, которые согревают сердце в самые холодные вечера.
Например, дедушкина старая кепка. Когда-то она была белой, но по прошествии лет стала желтой и выгоревшей. Он всегда ходил в ней по даче. Сколько я себя помню, было что-то вечное в этой троице - дедушка, дача и кепка. Первое воспоминание о ней тоже связанно с дачей.
Мне 3 года, я помогаю дедушке снимать колорадских жуков с картошки. Счастливая от того, что мне доверили такое важное задание, показываю их маме, а она визжит от страха и брезгливости. То лето было до одури жарким, а у меня были темные волосы, и дедушка без слов надевал эту кепку на меня. Я аж надувалась от гордости в тот момент. Бегая в ней по участку, я воображала, что это корона короля, которую ни в коем случае нельзя испачкать. Наверное, со стороны выглядело комично, когда я преувеличено аккуратно снимала эту заношенную кепку, отряхивала её и садилась играть в песочнице.
Мне 5 лет, я боюсь спать в темноте. Мама включает мне старый ночник в виде подсвечника, каждый раз, когда мы на даче. И я засыпаю у нее в объятьях, смотря в кромешной тьме на маленький и красный огонек на стене. Что интересно, в этом ночнике всегда работала только одна из двух лампочек. Вторую мы в скором времени приспособили как подставку для пера. Недалеко от дачи было страусиное хозяйство, куда нас позвали съездить соседи по даче. Я практически ничего не помню, кроме мордочки страуса и загона, но мама купила мне там перо. Когда мы приехали обратно на дачу, я с детским восторгом рассказывала услышанные факты про этих любопытных птиц дедушке. Сейчас это перо и ночник висят на стене в моей комнате, лампочка еле - еле работает, а перо крепится уже более надежно.
Мне исполняется 8 лет, мама с дедушкой дарят мне маленькие сережки в виде бабочек в честь того, что я уже первоклассница. Сережки невероятно красивые из малюсеньких рубинов и изумрудов. Открыть замок на этих сережках было практически невозможно, без разных примочек в стиле агента 007. Но по закону подлости одна из них непостижимым образом раскрутилась в самом неподходящем для этого месте - аквапарке на Тенерифе. Вторая же сейчас хранится в шкатулке вместе с бабушкиными старыми украшениями. А еще тогда я повадилась устраивать себе дом на дедушкином шкафу. Пока мама не видела, приносила себе кучу подушек, сладкого и сухариков, которые тайно покупал мне дедушка, и залазила на шкаф. Дедушка читал, а я смотрела со шкафа «Папиных дочек» или вместе с ним футбол. Это было так по-домашнему, особенно в тот момент, когда у меня всё затекало, и я спускалась к дедушке и болтала с ним.
Мне 11, я делаю дедушке открытку на 81 день рождения и вешаю на шкаф перед его кроватью, потому что он уже не встает. Он долго болел и в какой-то момент просто перестал сначала выходить на улицу, в подъезд, а потом уже и в другие комнаты. Это было очень тяжелое время, и возвращаться туда не хочется ни мне, ни маме. Октябрь. Дедушка умирает. Мы сжигаем его кровать через 40 дней. Кровать, на которой я засыпала у него под боком, пока он рассказывал мне сказки. На которой я прыгала, пока никто не видел, строила на ней домики и постоянно слушала сказки. Где-то там, в костре, закончилось мое детство. Страна сказок пропала, осталось лишь красное покрывало, в которое я куталась в попытках продлить счастливые моменты.
Мне 13, я уже с неохотой езжу на дачу. На нашем полуострове появился бобер и сгрыз корни черемухи, которую посадил дедушка. Она начала гнить изнутри и высыхать. А бабушкина яблоня сломалась от ветра, хотя до этого стояла спокойно 30 лет. Дача в один момент превратилась в хрупкое, как будто умирающее строение. Я хватаюсь за дедушкины инструменты. Спиливаю сухостой, делаю пугало, забиваю гвозди и чиню что-то по мелочи. Не знаю, помогает это или нет, но надеюсь и продолжаю пытаться что-то исправить. В конце лета я увожу с дачи гитару, выпущенную в 1980г. Мечтаю, что научусь играть хотя бы кузнечика, но забываю про нее быстро и просто вешаю ее на стену для красоты.
Мне 15, я с фанатизмом разбираю дедушкины фотографии и документы. Нахожу его и бабушкин выпускной альбом и кучу других уже совместных фотографии. В документах прописана родословная нашей семьи со всеми адресами и контактах аж до 1850 года. Когда-то дедушка исследовал ворох информации в архивах и записал это вручную, причем железным пером. Только позднее он попросил маму набрать это на печатной машинке. А в одной сумке огромная гора писем от родственников и коллег бабушке, дедушке и маме. Советские открытки невероятно красивые и продуманные, их можно долго рассматривать и изучать. Откладываю себе самые красивые и вкладываю их в фотоальбом. Ну а читать письма, написанные вручную - это отдельное удовольствие. Можно проследить почерк родственников и можно даже найти, что прадедушка пишет букву "У" точно так же, как и ты. Мама в этот момент достает из глубин шкафа дедушкину рубаху с народными узорами, в которой он женился. И невероятное бабушкино свадебное платье, полностью кружевное - ручной работы. А еще единственные вещи из дедушкиного гардероба, которые мы не раздали в разные фонды: тельняшка, футболка и свитер, вполне закономерно переселились в мой шкаф.
Мне 17, мы собираемся продавать дачу и вывозим оттуда нужные вещи. Я буквально вывожу всё, до чего дотянусь. Так у меня в комнате появляются и громадная карта Советского Союза, и бюст Маяковского, лобзик, паяльник и даже неработающий магнитофон. Не до конца понимаю, зачем мне половина из этих вещей, но упорно тащу их домой. Начинаю выжигать по дереву с помощью паяльника и делать меч из фанеры. Стараюсь придать ему историческую точность мельчайшими деталями. Начинаю читать дедушкины любимые произведения и так же, как и он, чинить старые книги на досуге. Выделяю отдельную полку для этих книг.
Мне 18. Дача продана. Мы последний раз ночуем там. Забираем последние мешки с вещами и прощаемся с дачей. Я обхожу буквально всю округу и впитываю малейший звук или запах местности. Собираю гербарий из дедушкиных цветов и забираю мелиссу с корнями, чтобы и дома пить вкусный чай. Мама забирает огромное количество пионов с грядок, какие-то - просто как букет, какие-то - с корнями. Где-то часа за 3 до отъезда нахожу в бане последнюю дедушкину пачку LM с зажигалкой и забираю их с собой. Пачка выглядит так, как будто хозяин только отошел и сейчас вернется. Помню, что в последние годы дедушка часто мечтал о LM, но ему было это противопоказанно по состоянию здоровья, поэтому отвожу эту пачку ему на могилу. Оставляю себе эту зажигалку и больше не расстаюсь с ней, перекладываю ее в карманы сумок или штанов, в которых собираюсь куда-то идти. У нас дома стоит та же фотография, что и на могиле. Он там улыбается. Как всю жизнь он улыбался только мне.
Мне все еще 18, у меня начинает получаться не цепляться за прошлое. Я стараюсь жить дальше, периодически давая себе возможность сесть в собственную машину времени и окунуться в детство. Холодной зимой отправляюсь в теплое лето на деревенском сказочном полуострове. Понимаю, что время не лечит, оно, как река, смывает плохое из памяти и оставляет только опыт. Наверное, дедушка гордился бы мной, видя, как я изменилась за эти 6,5 лет. Думая об этом или просто вспоминая его, я получаю новые силы для того, чтобы идти дальше с улыбкой.
Ознобишин Константин. Чудище
Страшный, ужасный свитер. Рыжего цвета с белым узором а-ля Рождество. Острая шерсть щипает голый торс. В таком ходить – только курам на смех.
– Ну что, нравится кофточка? – Мама засияла, её мешки под глазами даже на мгновение пропали. Потом она увидела моё недовольное лицо и тут же снова нахмурилась. – Мину свою сожми обратно. На улице холодно, а в школе отопление сломалось. Что, заболеть надумал?!
– Нет... – грустно пробормотал я. Мама лучше знает, как надо.
– Я вбухивать деньги в лекарства больше не собираюсь. Ты с последнего карантина всё соплями булькаешь. Ну-ка, шмыгни, Андрюша!
Я шмыгнул в надежде ощутить сопли, но воздух проходил настолько просто, что одна ноздря даже свистнула.
– Я же говорила, ещё не долечился! А вот кофточка поможет!
– Ну, она не очень... – невольно, протяжно и максимально тихо вырвалось из моих уст, и я надеялся, что это не задело её.
Мама прошлась ладонями по плечам, пару раз провела по рукаву, потом по спине. Она делала это так ласково, аккуратно, будто свитер был для неё ценнее, чем родной сын.
– Зато обрати-ка внимание, какой материал! Вот я в твоём возрасте с большим удовольствием такие кофточки носила. До школы каждый день ходила по три километра, зимой даже не продувало!
– Но мне же не нужно ходить так далеко...
– И очень жаль!.. Андрюш, я же ради тебя стараюсь. Зато не простынешь...
Дурные воспоминания об этом текстильном кошмаре отзываются эхом в моём сознании до сих пор. С той самой примерки я подумал, что надо бы начать бороться за себя, за своё мнение, за самостоятельность, но сразу отказался от этой идеи. Мария Глебовна, наш классный руководитель, за каждым учеником глядит в оба, чтобы если кто сделал что-то не так, то оперативно набрать номер родителя. А если мама узнает, что я снял колючий свитер в такой холодный день, то дома от меня и пустого места не останется.
Ужасный, уродливый свитер. С оленями и Санта-Клаусом. А ведь папа говорил, что Рождество – это чужой праздник.
На следующий день я заходил в класс с опаской. Хоть надеть свитер я всё же осилил, да и холод не мешал, я был уверен, что кто-то всё равно обратит внимание на такое большое оранжевое пятно среди белых рубах с чёрными брючками. Среди красных бантов и приглаженных юбок. Я сел за парту, тихо достал из рюкзака книжку, тетрадь, пенал. Кто-то прошёл мимо меня, отчего я сразу же зажмурился. «Вот-вот сейчас кто-то да покажет на меня пальцем», – задумался и чуть не всплакнул. Но всем было всё равно. Пока.
Отчего такой сильный страх, что я кому-то не угожу своим нарядом? Мама старалась, искала этот свитер до победного в бабушкином шкафу, а как она радовалась, когда всё же отыскала и показала мне. «Как под меня сшит». Почему же теперь я хочу рыдать? Кто сделал меня таким зависимым от чужого мнения?
Поток мыслей прервал резкий звонок. Одноклассники вбежали в класс, сбивая друг друга с пути. Разрывающий уши детский ор начал постепенно затухать. Все встали, Мария Глебовна тоже встала. И я встал. И почему-то сразу заколотилось сердце.
Учительница провела строгий взгляд по классу. Я уж было хотел скрестить пальцы, ведь не заметить такого неприятно яркого героя было невозможным. Наконец, её глаза остановились на мне. А потом на моём свитере. За секунду из спокойного состояния Мария Глебовна превратилась в свирепого Зевса, готового метать молнии.
– Ребята, все помнят, что после этого урока мы фотографируемся на выпускной альбом?! – с долей недовольства спросила у всех классная, накалив тем самым воздух в кабинете. Она подняла подбородок, но взгляд всё ещё держала на мне.
В башке с полки памяти упала пыльная книга под названием «Альбом». Меня пронесло через линию озарений, я вспомнил, что сегодня важный день. Чёрт...
Дети без задней мысли хором закричали: «Да!» Я отлично понимал, к чему она ведёт этот разговор. После этого вопроса обычно следует безжалостное замечание. Печально, тогда я не подумал, насколько глупым было ощутить тремор в ладонях и выпучить глаза от волнения. Это было неизбежным страданием, которое сейчас я, маленький десятилетний Андрей, с щупленьким лицом и дрожащими губами, испытаю в полной мере.
– И что нужно было на сегодня надеть?! – последнее слово Мария Глебовна чуть не прокричала.
Дети защебетали: «Форму! Надо было надеть форму!» Началась пустая дискуссия, кое-кто уже начал догадываться, что к чему. А из моих глаз уже были готовы рваться самые искренние слёзы. Всё шло к этому, и нужно было срочно брать ситуацию под контроль.
– Я сниму её, честно-честно! – неистовый страх разрывал голосовые связки. Я невольно подскочил, схватился за воротник, изобразил на лице самую искреннюю мольбу о пощаде. Я был готов рвать с себя этот паршивый свитер, лишь бы меня не ругали, лишь бы не стать посмешищем для класса...
...Но было поздно. Одноклассники, словно резаные свиньи, завизжали от смеха, только завидев, как я начал трястись и вертеться, стягивая с себя этот рыжий ужас. Уже не дети, а черти, на которых сетовала бабушка, разъедали воздух в кабинете пронзительным хохотом, как тысячи игл протыкавший мой мозг в самых больных местах. Казалось, на полу валялись все, думая, что это смешно, но не Мария Глебовна. Её острый взгляд, полный страшного презрения, не сходил с меня. Как же я надеялся, что в тот момент я найду в этих свирепых глазах хоть каплю сочувствия, хоть частичку искренней любви к детям...
Смех разрезало на миллионы кусочков, когда вдруг классная, ударив кулаком по столу, тяжело крикнула «Тихо!» Хохот постепенно сошёл на нет, и воцарилась тишина. Замер и я, надеялся, что она всё поймёт и молчанием даст самой себе начать урок.
Но время вдруг замедлилось. Кровавого цвета морщинистые губы вдруг начали распахиваться как калитка в пропасть. Все морщины на её лице начали напрягаться, выступили полосы на лбу, а ноздри по-бычьи надулись. Перед глазами пронеслось всё что можно: первое сентября и я с пышным букетом, вид из колеса обозрения... Вдруг вспомнил мой десятый день рождения. Мы пели ту песню, мама даже купила нам троим колпаки. А торт, который бабуля тогда испекла, ах... С ягодами и сгущёнкой, с десятью полосатыми свечками. Как мне хотелось тогда снова ощутить в классе ту сладость, счастье от задувания огоньков, чтобы перекрыть безжалостную горечь во рту.
Она подняла свою дрожащую острую ладонь в мою сторону. На ногтях уродливых пальцев был нанесён багряного огня лак. Нет, это не бабушка пришла обнять, спасти от этих глупцов и снять с меня противный свитер. Это живой мертвец вылез из гнилой могилы, чтобы поставить на место проказливого мальчугана с моим именем.
– Что ж, Андрей...
Холодным потом её слова прошлись по моему лбу. Я был готов к чему угодно.
– ...жди сегодня звонок «другу», – рукой она подняла телефон со стола, с желчной ласковостью водила пальцем по экрану, неуклюже постукивая своими красными ноготками. От безысходности я сощурился и пустил горячую слезу, которую чвсеми силами до этого сдерживал. – Вот пусть твоя мама знает, какое в школу сегодня пришло позорное...
...чудище!
После этих слов я будто позабыл всё, кроме разразившегося за спиной ребячьего хохота. Класс подхватил это странное обзывательство: «чудище». И почему они целый день, как саранча, прыгали вокруг меня, щипали за свитер, хихикали? Сколько страха было лежало тогда на сердце... А что, если мама заплачет, мешки под глазами станут глубже? Бабушка накажет, запретит телевизор на месяц? Всем опять станет жить плохо?..
Уродливый, паршивый свитер. Санта-Клаус летит по небу верхом на волшебных санях. А шерсть всё так же щипается, режет кожу, оставляет крапинки на руках. Вот бы этот старикашка свалился и разбил себе колени.
Кажется, обычная кофта! А так испортила сегодняшний день. Месяц буду отмываться от этой глупой клички "чудище". Паршивая, глупая тряпка!
Поднялся по сырой лестнице на пятый этаж. Ключом на шее отпер скрипучую дверь в нашу квартиру. На душе желал груз словно весом в сто тонн, и мне хотелось как можно скорее его сбросить. Глубоко и не по-детски я вздохнул, заперся за собой, снял тонкую куртку и повесил на плечики.
Я прошёл в нашу пустую, унылую гостиную. Бабушкины депрессивные ситцевые шторы пропускали через себя уличный свет, роняли его на алый советский ковёр посреди комнаты. Беззаботные крупицы пыли в зимних лучах при виде меня пытались улететь, не осесть на противном рыжем свитере.
И странная ярость обратила тяжелый груз на душе в горящий стог сена. Не в первый раз: сейчас я сделаю что-то по-детски непредсказуемое, разворошу всю комнату, а потом непременно приберу за собой, чтобы мама и бабушка не качали головой.
Я снял с себя шерстяную тряпку, протянул перед лицом. Глупая колючая одежонка ехидно помалкивала, сдерживала смех. Дай этой вещице какой-нибудь волшебник возможность открыть рот, она бы удавилась в гортанном хохоте, назвала бы Андрея самыми некрасивыми словами. Подняла бы рукав и попыталась бы показать свои невидимым пальцем на мальчика.
Но Андрей такого отношения к себе не заслуживал.
Я взял этот паршивый свитер за шкирку и бросил в диван. Стог сена внутри меня дымил, разъедал нос едким газом, сдавливал перегородку. Я прыгнул за рыжим ужасом вслед, схватил за шерстяную грудь. Мои пальцы впивались в его бесстыжую вязаную кожу. А он не хрипел, всё ещё сдерживал свою глупую насмешку. Я, как дикое животное, зарычал, направил ладони в противоположные стороны. Недетская сила тогда проснулась во мне: я что есть мочи начал рвать этот чертов свитер пополам, гасить внутри невероятное пламя. Должно быть, я тогда действительно стал настоящим чудищем, но уже ни о чём не жалел. Пусть оранжевый злодей получит по заслугам, пусть Андрей больше никогда не страдает!..
...Ужасная дыра в свитере в тот вечер стала предметом для мощного порицания. Мама кричала, вздыхала, кидалась вещами и чуть не проклинала. Потом успокаивалась, гладила по голове. А потом опять злилась. Бабушка лишь пару раз наказала пальцем и молча принялась за штопанье бреши в рыжем ужасе...
Паршивый, страшный свитер. Рыжего цвета с белым узором а-ля Рождество. Острая шерсть щипает голый торс. В таком ходить – только курам на смех.
– Ну что, нравится кофточка?..
Страшный, ужасный свитер. Рыжего цвета с белым узором а-ля Рождество. Острая шерсть щипает голый торс. В таком ходить – только курам на смех.
– Ну что, нравится кофточка? – Мама засияла, её мешки под глазами даже на мгновение пропали. Потом она увидела моё недовольное лицо и тут же снова нахмурилась. – Мину свою сожми обратно. На улице холодно, а в школе отопление сломалось. Что, заболеть надумал?!
– Нет... – грустно пробормотал я. Мама лучше знает, как надо.
– Я вбухивать деньги в лекарства больше не собираюсь. Ты с последнего карантина всё соплями булькаешь. Ну-ка, шмыгни, Андрюша!
Я шмыгнул в надежде ощутить сопли, но воздух проходил настолько просто, что одна ноздря даже свистнула.
– Я же говорила, ещё не долечился! А вот кофточка поможет!
– Ну, она не очень... – невольно, протяжно и максимально тихо вырвалось из моих уст, и я надеялся, что это не задело её.
Мама прошлась ладонями по плечам, пару раз провела по рукаву, потом по спине. Она делала это так ласково, аккуратно, будто свитер был для неё ценнее, чем родной сын.
– Зато обрати-ка внимание, какой материал! Вот я в твоём возрасте с большим удовольствием такие кофточки носила. До школы каждый день ходила по три километра, зимой даже не продувало!
– Но мне же не нужно ходить так далеко...
– И очень жаль!.. Андрюш, я же ради тебя стараюсь. Зато не простынешь...
Дурные воспоминания об этом текстильном кошмаре отзываются эхом в моём сознании до сих пор. С той самой примерки я подумал, что надо бы начать бороться за себя, за своё мнение, за самостоятельность, но сразу отказался от этой идеи. Мария Глебовна, наш классный руководитель, за каждым учеником глядит в оба, чтобы если кто сделал что-то не так, то оперативно набрать номер родителя. А если мама узнает, что я снял колючий свитер в такой холодный день, то дома от меня и пустого места не останется.
Ужасный, уродливый свитер. С оленями и Санта-Клаусом. А ведь папа говорил, что Рождество – это чужой праздник.
На следующий день я заходил в класс с опаской. Хоть надеть свитер я всё же осилил, да и холод не мешал, я был уверен, что кто-то всё равно обратит внимание на такое большое оранжевое пятно среди белых рубах с чёрными брючками. Среди красных бантов и приглаженных юбок. Я сел за парту, тихо достал из рюкзака книжку, тетрадь, пенал. Кто-то прошёл мимо меня, отчего я сразу же зажмурился. «Вот-вот сейчас кто-то да покажет на меня пальцем», – задумался и чуть не всплакнул. Но всем было всё равно. Пока.
Отчего такой сильный страх, что я кому-то не угожу своим нарядом? Мама старалась, искала этот свитер до победного в бабушкином шкафу, а как она радовалась, когда всё же отыскала и показала мне. «Как под меня сшит». Почему же теперь я хочу рыдать? Кто сделал меня таким зависимым от чужого мнения?
Поток мыслей прервал резкий звонок. Одноклассники вбежали в класс, сбивая друг друга с пути. Разрывающий уши детский ор начал постепенно затухать. Все встали, Мария Глебовна тоже встала. И я встал. И почему-то сразу заколотилось сердце.
Учительница провела строгий взгляд по классу. Я уж было хотел скрестить пальцы, ведь не заметить такого неприятно яркого героя было невозможным. Наконец, её глаза остановились на мне. А потом на моём свитере. За секунду из спокойного состояния Мария Глебовна превратилась в свирепого Зевса, готового метать молнии.
– Ребята, все помнят, что после этого урока мы фотографируемся на выпускной альбом?! – с долей недовольства спросила у всех классная, накалив тем самым воздух в кабинете. Она подняла подбородок, но взгляд всё ещё держала на мне.
В башке с полки памяти упала пыльная книга под названием «Альбом». Меня пронесло через линию озарений, я вспомнил, что сегодня важный день. Чёрт...
Дети без задней мысли хором закричали: «Да!» Я отлично понимал, к чему она ведёт этот разговор. После этого вопроса обычно следует безжалостное замечание. Печально, тогда я не подумал, насколько глупым было ощутить тремор в ладонях и выпучить глаза от волнения. Это было неизбежным страданием, которое сейчас я, маленький десятилетний Андрей, с щупленьким лицом и дрожащими губами, испытаю в полной мере.
– И что нужно было на сегодня надеть?! – последнее слово Мария Глебовна чуть не прокричала.
Дети защебетали: «Форму! Надо было надеть форму!» Началась пустая дискуссия, кое-кто уже начал догадываться, что к чему. А из моих глаз уже были готовы рваться самые искренние слёзы. Всё шло к этому, и нужно было срочно брать ситуацию под контроль.
– Я сниму её, честно-честно! – неистовый страх разрывал голосовые связки. Я невольно подскочил, схватился за воротник, изобразил на лице самую искреннюю мольбу о пощаде. Я был готов рвать с себя этот паршивый свитер, лишь бы меня не ругали, лишь бы не стать посмешищем для класса...
...Но было поздно. Одноклассники, словно резаные свиньи, завизжали от смеха, только завидев, как я начал трястись и вертеться, стягивая с себя этот рыжий ужас. Уже не дети, а черти, на которых сетовала бабушка, разъедали воздух в кабинете пронзительным хохотом, как тысячи игл протыкавший мой мозг в самых больных местах. Казалось, на полу валялись все, думая, что это смешно, но не Мария Глебовна. Её острый взгляд, полный страшного презрения, не сходил с меня. Как же я надеялся, что в тот момент я найду в этих свирепых глазах хоть каплю сочувствия, хоть частичку искренней любви к детям...
Смех разрезало на миллионы кусочков, когда вдруг классная, ударив кулаком по столу, тяжело крикнула «Тихо!» Хохот постепенно сошёл на нет, и воцарилась тишина. Замер и я, надеялся, что она всё поймёт и молчанием даст самой себе начать урок.
Но время вдруг замедлилось. Кровавого цвета морщинистые губы вдруг начали распахиваться как калитка в пропасть. Все морщины на её лице начали напрягаться, выступили полосы на лбу, а ноздри по-бычьи надулись. Перед глазами пронеслось всё что можно: первое сентября и я с пышным букетом, вид из колеса обозрения... Вдруг вспомнил мой десятый день рождения. Мы пели ту песню, мама даже купила нам троим колпаки. А торт, который бабуля тогда испекла, ах... С ягодами и сгущёнкой, с десятью полосатыми свечками. Как мне хотелось тогда снова ощутить в классе ту сладость, счастье от задувания огоньков, чтобы перекрыть безжалостную горечь во рту.
Она подняла свою дрожащую острую ладонь в мою сторону. На ногтях уродливых пальцев был нанесён багряного огня лак. Нет, это не бабушка пришла обнять, спасти от этих глупцов и снять с меня противный свитер. Это живой мертвец вылез из гнилой могилы, чтобы поставить на место проказливого мальчугана с моим именем.
– Что ж, Андрей...
Холодным потом её слова прошлись по моему лбу. Я был готов к чему угодно.
– ...жди сегодня звонок «другу», – рукой она подняла телефон со стола, с желчной ласковостью водила пальцем по экрану, неуклюже постукивая своими красными ноготками. От безысходности я сощурился и пустил горячую слезу, которую чвсеми силами до этого сдерживал. – Вот пусть твоя мама знает, какое в школу сегодня пришло позорное...
...чудище!
После этих слов я будто позабыл всё, кроме разразившегося за спиной ребячьего хохота. Класс подхватил это странное обзывательство: «чудище». И почему они целый день, как саранча, прыгали вокруг меня, щипали за свитер, хихикали? Сколько страха было лежало тогда на сердце... А что, если мама заплачет, мешки под глазами станут глубже? Бабушка накажет, запретит телевизор на месяц? Всем опять станет жить плохо?..
Уродливый, паршивый свитер. Санта-Клаус летит по небу верхом на волшебных санях. А шерсть всё так же щипается, режет кожу, оставляет крапинки на руках. Вот бы этот старикашка свалился и разбил себе колени.
Кажется, обычная кофта! А так испортила сегодняшний день. Месяц буду отмываться от этой глупой клички "чудище". Паршивая, глупая тряпка!
Поднялся по сырой лестнице на пятый этаж. Ключом на шее отпер скрипучую дверь в нашу квартиру. На душе желал груз словно весом в сто тонн, и мне хотелось как можно скорее его сбросить. Глубоко и не по-детски я вздохнул, заперся за собой, снял тонкую куртку и повесил на плечики.
Я прошёл в нашу пустую, унылую гостиную. Бабушкины депрессивные ситцевые шторы пропускали через себя уличный свет, роняли его на алый советский ковёр посреди комнаты. Беззаботные крупицы пыли в зимних лучах при виде меня пытались улететь, не осесть на противном рыжем свитере.
И странная ярость обратила тяжелый груз на душе в горящий стог сена. Не в первый раз: сейчас я сделаю что-то по-детски непредсказуемое, разворошу всю комнату, а потом непременно приберу за собой, чтобы мама и бабушка не качали головой.
Я снял с себя шерстяную тряпку, протянул перед лицом. Глупая колючая одежонка ехидно помалкивала, сдерживала смех. Дай этой вещице какой-нибудь волшебник возможность открыть рот, она бы удавилась в гортанном хохоте, назвала бы Андрея самыми некрасивыми словами. Подняла бы рукав и попыталась бы показать свои невидимым пальцем на мальчика.
Но Андрей такого отношения к себе не заслуживал.
Я взял этот паршивый свитер за шкирку и бросил в диван. Стог сена внутри меня дымил, разъедал нос едким газом, сдавливал перегородку. Я прыгнул за рыжим ужасом вслед, схватил за шерстяную грудь. Мои пальцы впивались в его бесстыжую вязаную кожу. А он не хрипел, всё ещё сдерживал свою глупую насмешку. Я, как дикое животное, зарычал, направил ладони в противоположные стороны. Недетская сила тогда проснулась во мне: я что есть мочи начал рвать этот чертов свитер пополам, гасить внутри невероятное пламя. Должно быть, я тогда действительно стал настоящим чудищем, но уже ни о чём не жалел. Пусть оранжевый злодей получит по заслугам, пусть Андрей больше никогда не страдает!..
...Ужасная дыра в свитере в тот вечер стала предметом для мощного порицания. Мама кричала, вздыхала, кидалась вещами и чуть не проклинала. Потом успокаивалась, гладила по голове. А потом опять злилась. Бабушка лишь пару раз наказала пальцем и молча принялась за штопанье бреши в рыжем ужасе...
Паршивый, страшный свитер. Рыжего цвета с белым узором а-ля Рождество. Острая шерсть щипает голый торс. В таком ходить – только курам на смех.
– Ну что, нравится кофточка?..
Пономарева Дарья. Рукописи не горят
Изначально они договаривались встречаться раз в 10 лет. Амос уже многое позабыл из своей прежней жизни, но встречу с Мораксом помнил настолько ясно, что порой задумывался: «А не специально ли этот дух заколдовал мой разум так, чтобы я помнил нашу первую встречу в подробнейших деталях?»
***
Смерть пахла гадко. Попадала в организм через ноздри и распространялась по всему телу, разъедая на своем пути всё. Не оставляя ни бактерий, ни вирусов, вообще ничего. За ней следом тянулась кромешная пустота, которая, будто болото, затягивала на самое дно. Смерть забиралась в душу и оседала там, забирая разноцветные краски. Наевшись жизненной энергией сполна, она усаживалась на трон, словно королева, и победно уходила в спячку. Смерть никогда не покидала свой трон, не позволяла покоренной душе ощутить прежние эмоции.
Амос понял, что отныне этот запах и это чувство будет преследовать его повсюду.
Не в силах стоять, он свалился на колени. По щекам струились горячие слезы, контрастируя с ледяными каплями дождя, размывая застывшую на коже грязь. Он не мог закричать, голосовые связки словно сжались в кулак и изо рта доносилось лишь слабое кряхтение.
Смерть преследовала меня по пятам с самого рождения. Я бы всё отдал, только чтобы она от меня отстала.
Он не заметил, что сказал это вслух.
- А если я тебе скажу, что есть способ от неё избавиться насовсем? - промурлыкал незнакомый голос где-то из-за спины. Амос застыл на месте затаив дыхание.
- Что же ты стоишь, не шелохнувшись? - продолжил голос с насмешкой. - Или это всего лишь пустые слова, которыми вы, смертные, так любите бросаться?
Амос нерешительно развернулся. Перед ним предстал взрослый мужчина лет сорока. Он опирался на черную, поблескивающую при холодном свете луны трость, а вся его одежда и внешний вид переливались кроваво-красным. Незнакомец усмехнулся, обнажив острые клыки, смерив Амоса дразнящим взглядом.
- И что это за способ? - голос дрогнул. Что это за человек такой?
- Нет причины так меня бояться, -захохотал незнакомец, и у Амоса побежали мурашки вдоль позвоночника. - Имя мое Моракс - злой дух. Кто-то принимает меня за вампира, кто-то за лешего.
- Что ты от меня хочешь?..
- А ты ещё не догадался? - Моракс прыснул. – Патриаршие пруды… Ты, друг мой, стоишь на том месте, где все отчаявшиеся до тебя вызывали меня. Моракса призывают для исполнения сокровенных желаний отчаявшихся смертных. Взамен я лишь забираю что-то равноценное их желанию для поддержания баланса во Вселенной, - его лицо разрезал оскал. - Но твой случай уникален... я готов пойти на уступку.
Амос недоуменно похлопал ресницами. В голове царила звенящая пустота, он не знал, что сказать, если вообще надо что-то говорить. Может, он сошел с ума и ему все привиделось?
Моракс заинтересованно уставился на него, не моргая, видимо, в ожидании ответной реакции.
- Я дарую тебе вечную жизнь, умник! - вдруг вскрикнул дух. Амоса передернуло. - Долго же до тебя доходит...
- Ты даруешь мне вечную жизнь?..
-Да, - кивнул он. - И смерть тебя больше никогда не догонит и не покалечит.
Неужели он забудет этот противный осевший в нем запах?
- Взамен ты заберешь мою душу?..
- Нет же! - Моракс хлопнул ладонью по лбу. - Как я могу забрать твою душу, если ты будешь жить вечно? И не слишком ли это банально? Вообще, у меня на тебя иные планы, - он осекся, внимательно изучая Амоса.
- Видишь ли, Амос, я своего рода ученый. И ты будешь моим ма-аленьким экспериментом! Ты получаешь вечную жизнь, встречаться со мной будешь раз в десять лет и описывать свои ощущения! Согласен?
С этими словами он протянул ему руку в бордовой перчатке для рукопожатия.
В голове Амоса пролетели миллион мыслей. Он понимал, что вечная жизнь ставит свои определенные условия, однако это предложение позволит ему наблюдать за изменением человечества... Ему все равно больше нечего терять в этой жизни. Быть может в его существовании появится хоть какой-то смысл?
"На самом деле, главное, что смерть меня не догонит", - пронеслось где-то на затворках его разума.
- Согласен, - твердо произнес он, отвечая на рукопожатие.
Расцепив руки, Моракс, как-то чересчур удовлетворенно лыбясь, сказал:
- Вечность сводит с ума даже самых сильных духом. Мне всегда было интересно понаблюдать, что она сможет сделать со смертным.
***
Моракс считал себя ученым. Сам Амос считал его одиноким.
Где-то в веке восемнадцатом на одном из выступлений какого-то популярного композитора, они слушали реквием. Музыка произвела на Амоса сильное впечатление. А Моракс спросил:
- Как ты думаешь, эту музыку будут слушать через 100 лет?
Амос не отвечал. Он пожал плечами и вздохнул, чувствуя, как внутри что-то словно перекрыло дыхание. Прошло 100 лет после первой встречи с Мораксом, и он уже не наслаждался бессмертием, но ещё не устал от бренности бытия.
Амос размышлял об этом и только на выходе из театра дал Мораксу окончательный ответ:
- Нет, - просто сказал Амос, надевая пальто и поправляя шляпу. - Он будет существовать еще лет триста, может больше, но в конечном итоге его забудут, написанные на бумаги ноты сотрутся временем, а памятники, посвященные ему, сломают вандалы, и государству будет невыгодно их восстанавливать. Я же независим от времени.
"От смерти", - хотел добавить он.
Моракс криво усмехнулся.
Смерть перестала преследовать Амоса, она забрала его родителей, друзей и знакомых, стерев их с лица Земли. Теперь он старался не знакомиться с новыми людьми. Если же у него получалось заводить знакомства, то исчезал из их жизни раньше, чем они из его.
Естественно, в первое время Амос наслаждался своим беззаботным бременем, не особо думая о будущем и его сохранности.
В качестве стороннего наблюдателя он лицезрел уничтожения и создания государств, пережил столько изменений моды, что его шкаф трещал по швам от различной одежды. Он перечитал множество книг, побывал на премьере самого первого фильма в истории. Пожимал руки таким историческим личностям, чьи произведения или личные вещи продавались на аукционах за баснословные деньги.
Однако Амос ужасно устал. С каждым днем все тяжелее было ему подниматься, только чтобы проводить тянущиеся, как резина, дни. Никто его не знал, никто и не пытался его узнать. Одиночество - плата за бессмертие.
В начале 20 века в Москве, прогуливаясь по осеннему парку, он наткнулся на мрачноватого молодого человека, увлеченно читавшего какую-то религиозную литературу. Он сидел на лавочке и болтал ногами, разбрасывая кипу желтых листьев. Ему явно хотелось с кем-то поговорить.
- ...вот знаете, - произнес незнакомец, когда Амос подсел к нему на скамейку, - моя сестрица Вера в детстве очень боялась смерти. Говорила мне, мол, Миша, как же так, после меня ничего не останется? Я тогда её к батеньке отводил: «Афанасий Иванович тебе лучше меня скажет". - Ненадолго разговор прервался, и каждый погрузился в свои мысли под аккомпанемент каркающих ворон и шелеста осенних листьев.
Назвавшийся Мишей поправил съехавшую шляпу и задумчиво продолжил:
- Позже, однако, я осознал, что по сути своей человек бессмертен. Мы все оставляем что-то после себя, неважно, лучшая ли это соната за всю историю человечества, или ничем не примечательный рисунок, который передается из поколения в поколение как семейная реликвия. Мне бы лично хотелось оставить после себя что-то великое, поэтому, наверное, вопреки семейной традиции, решил писать книги. Знаете, господин... - дальнейшие его слова Амос запомнит навеки:
- Несмотря на законы физики, рукописи не горят.
Действительно. Тот композитор, чье выступление он посетил с Мораксом, не был забыт. Большинство уничтоженных временем памятников были впоследствии восстановлены.
Амос помнил своих родителей: их доброту, отзывчивость, любовь. Получается, даже такие простые люди живут, пока их помнят?
Недавно к нему пришла весточка от Моракса с предложением снова встретиться на Патриарших.
- Рад тебя видеть, - Моракс помахал ему рукой, доброжелательно улыбаясь. У Амоса до сих бегут мурашки по позвоночнику от этой улыбки. – Что за книга у тебя в руках?
- «Мастер и Маргарита».
-Ты думаешь этого автора будут читать через 100 лет?
-Да, будут.
Моракс наклонил голову, хмурясь:
- И почему же?
- Его произведения гениальны.
- То есть, можно сказать, что Булгаков вечен?
- Да, - твердо ответил Амос. – И Булгаков, и Моцарт, и Рафаэль…
Ухмылка Моракса разрасталась до ушей:
- Проживут ли они дольше тебя?
- Безусловно. - Ну, или столько же, учитывая, что Амос живет вечно. - Ибо, Моракс, я недавно понял, что смерти нет, я больше не боюсь ее… Потому что «рукописи не горят».
Изначально они договаривались встречаться раз в 10 лет. Амос уже многое позабыл из своей прежней жизни, но встречу с Мораксом помнил настолько ясно, что порой задумывался: «А не специально ли этот дух заколдовал мой разум так, чтобы я помнил нашу первую встречу в подробнейших деталях?»
***
Смерть пахла гадко. Попадала в организм через ноздри и распространялась по всему телу, разъедая на своем пути всё. Не оставляя ни бактерий, ни вирусов, вообще ничего. За ней следом тянулась кромешная пустота, которая, будто болото, затягивала на самое дно. Смерть забиралась в душу и оседала там, забирая разноцветные краски. Наевшись жизненной энергией сполна, она усаживалась на трон, словно королева, и победно уходила в спячку. Смерть никогда не покидала свой трон, не позволяла покоренной душе ощутить прежние эмоции.
Амос понял, что отныне этот запах и это чувство будет преследовать его повсюду.
Не в силах стоять, он свалился на колени. По щекам струились горячие слезы, контрастируя с ледяными каплями дождя, размывая застывшую на коже грязь. Он не мог закричать, голосовые связки словно сжались в кулак и изо рта доносилось лишь слабое кряхтение.
Смерть преследовала меня по пятам с самого рождения. Я бы всё отдал, только чтобы она от меня отстала.
Он не заметил, что сказал это вслух.
- А если я тебе скажу, что есть способ от неё избавиться насовсем? - промурлыкал незнакомый голос где-то из-за спины. Амос застыл на месте затаив дыхание.
- Что же ты стоишь, не шелохнувшись? - продолжил голос с насмешкой. - Или это всего лишь пустые слова, которыми вы, смертные, так любите бросаться?
Амос нерешительно развернулся. Перед ним предстал взрослый мужчина лет сорока. Он опирался на черную, поблескивающую при холодном свете луны трость, а вся его одежда и внешний вид переливались кроваво-красным. Незнакомец усмехнулся, обнажив острые клыки, смерив Амоса дразнящим взглядом.
- И что это за способ? - голос дрогнул. Что это за человек такой?
- Нет причины так меня бояться, -захохотал незнакомец, и у Амоса побежали мурашки вдоль позвоночника. - Имя мое Моракс - злой дух. Кто-то принимает меня за вампира, кто-то за лешего.
- Что ты от меня хочешь?..
- А ты ещё не догадался? - Моракс прыснул. – Патриаршие пруды… Ты, друг мой, стоишь на том месте, где все отчаявшиеся до тебя вызывали меня. Моракса призывают для исполнения сокровенных желаний отчаявшихся смертных. Взамен я лишь забираю что-то равноценное их желанию для поддержания баланса во Вселенной, - его лицо разрезал оскал. - Но твой случай уникален... я готов пойти на уступку.
Амос недоуменно похлопал ресницами. В голове царила звенящая пустота, он не знал, что сказать, если вообще надо что-то говорить. Может, он сошел с ума и ему все привиделось?
Моракс заинтересованно уставился на него, не моргая, видимо, в ожидании ответной реакции.
- Я дарую тебе вечную жизнь, умник! - вдруг вскрикнул дух. Амоса передернуло. - Долго же до тебя доходит...
- Ты даруешь мне вечную жизнь?..
-Да, - кивнул он. - И смерть тебя больше никогда не догонит и не покалечит.
Неужели он забудет этот противный осевший в нем запах?
- Взамен ты заберешь мою душу?..
- Нет же! - Моракс хлопнул ладонью по лбу. - Как я могу забрать твою душу, если ты будешь жить вечно? И не слишком ли это банально? Вообще, у меня на тебя иные планы, - он осекся, внимательно изучая Амоса.
- Видишь ли, Амос, я своего рода ученый. И ты будешь моим ма-аленьким экспериментом! Ты получаешь вечную жизнь, встречаться со мной будешь раз в десять лет и описывать свои ощущения! Согласен?
С этими словами он протянул ему руку в бордовой перчатке для рукопожатия.
В голове Амоса пролетели миллион мыслей. Он понимал, что вечная жизнь ставит свои определенные условия, однако это предложение позволит ему наблюдать за изменением человечества... Ему все равно больше нечего терять в этой жизни. Быть может в его существовании появится хоть какой-то смысл?
"На самом деле, главное, что смерть меня не догонит", - пронеслось где-то на затворках его разума.
- Согласен, - твердо произнес он, отвечая на рукопожатие.
Расцепив руки, Моракс, как-то чересчур удовлетворенно лыбясь, сказал:
- Вечность сводит с ума даже самых сильных духом. Мне всегда было интересно понаблюдать, что она сможет сделать со смертным.
***
Моракс считал себя ученым. Сам Амос считал его одиноким.
Где-то в веке восемнадцатом на одном из выступлений какого-то популярного композитора, они слушали реквием. Музыка произвела на Амоса сильное впечатление. А Моракс спросил:
- Как ты думаешь, эту музыку будут слушать через 100 лет?
Амос не отвечал. Он пожал плечами и вздохнул, чувствуя, как внутри что-то словно перекрыло дыхание. Прошло 100 лет после первой встречи с Мораксом, и он уже не наслаждался бессмертием, но ещё не устал от бренности бытия.
Амос размышлял об этом и только на выходе из театра дал Мораксу окончательный ответ:
- Нет, - просто сказал Амос, надевая пальто и поправляя шляпу. - Он будет существовать еще лет триста, может больше, но в конечном итоге его забудут, написанные на бумаги ноты сотрутся временем, а памятники, посвященные ему, сломают вандалы, и государству будет невыгодно их восстанавливать. Я же независим от времени.
"От смерти", - хотел добавить он.
Моракс криво усмехнулся.
Смерть перестала преследовать Амоса, она забрала его родителей, друзей и знакомых, стерев их с лица Земли. Теперь он старался не знакомиться с новыми людьми. Если же у него получалось заводить знакомства, то исчезал из их жизни раньше, чем они из его.
Естественно, в первое время Амос наслаждался своим беззаботным бременем, не особо думая о будущем и его сохранности.
В качестве стороннего наблюдателя он лицезрел уничтожения и создания государств, пережил столько изменений моды, что его шкаф трещал по швам от различной одежды. Он перечитал множество книг, побывал на премьере самого первого фильма в истории. Пожимал руки таким историческим личностям, чьи произведения или личные вещи продавались на аукционах за баснословные деньги.
Однако Амос ужасно устал. С каждым днем все тяжелее было ему подниматься, только чтобы проводить тянущиеся, как резина, дни. Никто его не знал, никто и не пытался его узнать. Одиночество - плата за бессмертие.
В начале 20 века в Москве, прогуливаясь по осеннему парку, он наткнулся на мрачноватого молодого человека, увлеченно читавшего какую-то религиозную литературу. Он сидел на лавочке и болтал ногами, разбрасывая кипу желтых листьев. Ему явно хотелось с кем-то поговорить.
- ...вот знаете, - произнес незнакомец, когда Амос подсел к нему на скамейку, - моя сестрица Вера в детстве очень боялась смерти. Говорила мне, мол, Миша, как же так, после меня ничего не останется? Я тогда её к батеньке отводил: «Афанасий Иванович тебе лучше меня скажет". - Ненадолго разговор прервался, и каждый погрузился в свои мысли под аккомпанемент каркающих ворон и шелеста осенних листьев.
Назвавшийся Мишей поправил съехавшую шляпу и задумчиво продолжил:
- Позже, однако, я осознал, что по сути своей человек бессмертен. Мы все оставляем что-то после себя, неважно, лучшая ли это соната за всю историю человечества, или ничем не примечательный рисунок, который передается из поколения в поколение как семейная реликвия. Мне бы лично хотелось оставить после себя что-то великое, поэтому, наверное, вопреки семейной традиции, решил писать книги. Знаете, господин... - дальнейшие его слова Амос запомнит навеки:
- Несмотря на законы физики, рукописи не горят.
Действительно. Тот композитор, чье выступление он посетил с Мораксом, не был забыт. Большинство уничтоженных временем памятников были впоследствии восстановлены.
Амос помнил своих родителей: их доброту, отзывчивость, любовь. Получается, даже такие простые люди живут, пока их помнят?
Недавно к нему пришла весточка от Моракса с предложением снова встретиться на Патриарших.
- Рад тебя видеть, - Моракс помахал ему рукой, доброжелательно улыбаясь. У Амоса до сих бегут мурашки по позвоночнику от этой улыбки. – Что за книга у тебя в руках?
- «Мастер и Маргарита».
-Ты думаешь этого автора будут читать через 100 лет?
-Да, будут.
Моракс наклонил голову, хмурясь:
- И почему же?
- Его произведения гениальны.
- То есть, можно сказать, что Булгаков вечен?
- Да, - твердо ответил Амос. – И Булгаков, и Моцарт, и Рафаэль…
Ухмылка Моракса разрасталась до ушей:
- Проживут ли они дольше тебя?
- Безусловно. - Ну, или столько же, учитывая, что Амос живет вечно. - Ибо, Моракс, я недавно понял, что смерти нет, я больше не боюсь ее… Потому что «рукописи не горят».
Крамарова Елизавета. По душам
- Слушай… Давай поговорим по душам… Ну, как человек с человеком, что ли?
Нас на берегу острова было двое, весь лагерь копошился где-то за спиной в предобеденной суете и ему, казалось, мы были совсем не интересны.
Юнги нашего патриотического клуба, подобно тараканам, сновали кто куда и выполняли каждый свою работу: мальчики перестраивали туалет, потому что при любом дуновении ветра тент отрывался от земли, оголяя то, что не следует оголять, девочки убирали в палатках и готовили что-то на камбузе. Преподаватели мирно курили за гаражом и изредка раздавали указания по готовке и забиванию гвоздей. Мы были вне зоны их видимости, ну или им не очень-то и хотелось нас замечать.
- Так, поговорим?
И тишина… Бесполезно было ждать от моего собеседника ответа. Он задумчиво покачивался от легкого бриза, который пригоняло на остров Рейнеке Японское море. За него ответили кроткие волны, одна за одной шуршащие о камешки и обломки ракушек: «Он тебя слушшшает.».
- Знаешь, Гош, хоть я и впервые здесь, на острове, мне вроде и всё нравится. Нет, правда! Ну и пусть электричество только с ветрогенератора и солнечной панели, и его на освещение столовой на время ужина не хватает, пусть воду нам возит этот мальчишка пятнадцатилетний на своём ржавом «Караване», так ласково называемом им «ласточкой», пусть даже этой воды не хватает на помыться по-божески… Это всё меркнет по сравнению с тем, какая здесь атмосфера и природа. Однако…
Однако я не успела договорить. Поле тихо начало гудеть и похрустывать от гуляющего там ветерка. Дурман травы донёсся и до нас, из-за чего с минуту я просто наслаждалась этим горьким запахом подсушенной травы, закрыв глаза. Но вместе с этим ветер принёс на пляж и ещё кого-то…
Неуклюжие шаги проваливающихся в песок по щиколотку ног торопливо приближались ко мне и моему товарищу. Уже тогда, не открывая глаз, я поняла кто это.
- Привет, Леночка…
Рядом со мной уселся высокий парень, который сразу заслонил собой часть солнца.
- Да как ты это делаешь??? Я же и так на цыпочках крался.
- Твои цыпочки как бомба, не услышать сложно. Чего хотел?
Тут уже мне пришлось сделать над собой усилие и поднять веки. Передо мной был никто иной как Гришка Ленченков, юнга с другого взвода. Мы с ним подружились ещё задолго до прибытия на лагерную смену. Чёрный пушок над губой, не менее тёмные волосы, которые кучерявились слегка, голубые доверчивые глаза, веснушки и даже по-детски пухлое лицо – всё в нем напоминало мне советского пионера (правда, картавого), особенно его любовь к галстукам.
- Да так…Ничего… А, вообще, тебя звала Маша на камбуз, сказала, что там без тебя лук горит.
- Ага, горит скорее не лук, а кое-какое другое у нее место. Нечего было спать на прошлой вахте, может тогда бы и пошла ей помогать. Роман Игнатьевич сказал, что я только слежу за процессом сегодня, а она готовит в наказание.
- Ой, ладно тебе…
После мы замолчали. Я не очень хотела сейчас болтать с ним, потому что предыдущий разговор так и не был мной закончен.
- Если не секрет, почему сидишь тут одна?
- Почему одна? С Гошей.
Гриша посмотрел на него и улыбнулся.
- Пойдёшь сегодня со мной и Шуриком в ночной караул? Уверен, будет весело.
- Чтобы вы надо мной как над новеньким подшучивали?! Фиг вам!
- Да ты же знаешь, я никогда бы не поступил так с…
Он неожиданно покраснел. Я давно предполагала, что нравлюсь ему, но это не мешало нам просто мило общаться каждый раз при редкой встрече. Он был робким, от того никогда не говорил со мной о чувствах, и я этому была рада. Не люблю неловких ситуаций…
- Знаю, знаю. Но всё равно не пойду.
- Почему?
- Я темноты боюсь… - тут уже пришлось покраснеть мне, ведь это была правда, - только никому не слова, усёк?
- Так точно… А что тебе так в этой темноте не нравится?
- Вот перед сном расскажут ребята историю про труп неупокоенной девушки, блуждающей по лагерю. Потом ложишься уже спать на свою раскладушку, даже почти уснул, а тут пацаны под ухом с улицы включают на телефоне запись женского плача и Конев в белой простыне вылезает из-под края палатки рядом со словами: «Иди ко мне мой сладкий!». После такого разве не начнешь бояться?
- Ну согласись, вышло всё-таки смешно, - сквозь гогот ответил Леночка. - Даже пришлось дать конфет одной мелкой, чтобы та поплакала на диктофон! Ну что ты сердишься? Надо же было проучить этого хвастуна…
Тут сложно было с ним не согласиться. Этот новенький и правда успел всем порядком надоесть, но это уже сейчас было не так важно.
- А если бы он "кони двинул" вместе с Коневым? Ведь этот «бесстрашный» так начал вопить и швыряться вещами, что только чудом не попал в Юру кочергой… Кто вообще додумался оставить кочергу у этого идиота?!
- Да, Конев и оставил… Он же прошлой ночью буржуйку топил, вот и оставил ее у той койки, что ближе всего к печке была.
- Эх вы…
- А если серьёзно, почему темноты боишься?
- Это с детства пошло, уже не помню почему… Ну что пристал?
- Всё, всё, больше не буду, обещаю.
- Ладно, иди, скажи Маше, что я сейчас приду и помогу ей.
- Понял, капитан, - Ленченков послушно встал и всё также неуклюже пошел прочь по песку в сторону камбуза.
Возможно, я бы не стала его прогонять, если бы он не напомнил мне кое о чём.
- Ха… не помню… Я всё прекрасно помню, - обращалась я уже к своему первому собеседнику. Из правого глаза покатилась коварная слеза и, казалось, она стремилась попасть прямиком в море.
Я не врала, мне действительно не нравился мрак ночи, только мой страх немного заключался не в этом.
- Гошечка, как же тяжело никому не говорить о том, что меня так убивает изнутри… Как же тяжело скрывать этот ненормальный страх одиночества!
Настоящих друзей у меня никогда не было… Единственный человек, который заменял мне общение со сверстниками, был мой папа, но мои родители развелись, когда мне было пять. С тех пор ощущение собственной бесполезности, ненужности и, конечно, одиночества меня не покидало. Появлялись новые знакомые, мы даже могли общаться бесконечными переписками в ВК и, когда казалось, что вот он – друг, этот человек предательски уходил из моей жизни, как это сделал когда-то мой отец. Пожалуй, мой единственный детский страх – остаться совсем одной.
- Ты сам понимаешь, все эти обитатели лагеря не могут полноправно считаться моими друзьями. Я не чувствую, что нас связывает что-то особенное, вызванное выбросами окситоцина в кровь. Даже Леночка, даже Маша… Они просто хорошие знакомые. Только ты знаешь, как я мучаюсь здесь ночью. Густой мрак скрывает слёзы и поглощает всхлипы в своей бесконечности. Я боюсь ночи, потому что не хочу снова и снова переживать эту боль в груди, в районе, где должно находится моё разбитое сердце.
Это добило меня, больше сдерживаться сил не было. Я упала на горячий песок, подложив руки под голову и стала рыдать. Единственный, кто мог бы меня сейчас успокоить находился за десятки километров на другом берегу, в городе. Наверное, он работал сейчас в своей конторе или сидел на встрече с клиентом, в любом случае, не вспоминал обо мне. «Как же я соскучилась по тебе, папочка…».
Гоша и тут молчал. Наверное, тут было всё же важно не то, что он не говорит со мной, а то, что он хотя бы пытался меня выслушать. Похвально.
- Знаешь, Гош, что? Я только тебя буду любить. Ты не уйдёшь, не обидишь, не предашь. Ну их всех…, - я махнула рукой в сторону лагеря, что было очень кстати. Со стороны камбуза валил черный дым и пахло горелой кашей…
- Господи…. Маша! - с этими словами я рванула в сторону девчачьего визга и матерного ора вожатого, попутно протирая заплаканное лицо. Сейчас было не до жалости к себе, надо было спасать обед.
Гоша же от такого рывка упал на песок. Из его глянцевых пластмассовых глазок, казалось, вот-вот пойдут слёзы, которые он не сможет вытереть своими плюшевыми лапками. Мой бегемотик… Кто бы мог подумать, что в игрушке души больше, чем иногда в человеке.
- Слушай… Давай поговорим по душам… Ну, как человек с человеком, что ли?
Нас на берегу острова было двое, весь лагерь копошился где-то за спиной в предобеденной суете и ему, казалось, мы были совсем не интересны.
Юнги нашего патриотического клуба, подобно тараканам, сновали кто куда и выполняли каждый свою работу: мальчики перестраивали туалет, потому что при любом дуновении ветра тент отрывался от земли, оголяя то, что не следует оголять, девочки убирали в палатках и готовили что-то на камбузе. Преподаватели мирно курили за гаражом и изредка раздавали указания по готовке и забиванию гвоздей. Мы были вне зоны их видимости, ну или им не очень-то и хотелось нас замечать.
- Так, поговорим?
И тишина… Бесполезно было ждать от моего собеседника ответа. Он задумчиво покачивался от легкого бриза, который пригоняло на остров Рейнеке Японское море. За него ответили кроткие волны, одна за одной шуршащие о камешки и обломки ракушек: «Он тебя слушшшает.».
- Знаешь, Гош, хоть я и впервые здесь, на острове, мне вроде и всё нравится. Нет, правда! Ну и пусть электричество только с ветрогенератора и солнечной панели, и его на освещение столовой на время ужина не хватает, пусть воду нам возит этот мальчишка пятнадцатилетний на своём ржавом «Караване», так ласково называемом им «ласточкой», пусть даже этой воды не хватает на помыться по-божески… Это всё меркнет по сравнению с тем, какая здесь атмосфера и природа. Однако…
Однако я не успела договорить. Поле тихо начало гудеть и похрустывать от гуляющего там ветерка. Дурман травы донёсся и до нас, из-за чего с минуту я просто наслаждалась этим горьким запахом подсушенной травы, закрыв глаза. Но вместе с этим ветер принёс на пляж и ещё кого-то…
Неуклюжие шаги проваливающихся в песок по щиколотку ног торопливо приближались ко мне и моему товарищу. Уже тогда, не открывая глаз, я поняла кто это.
- Привет, Леночка…
Рядом со мной уселся высокий парень, который сразу заслонил собой часть солнца.
- Да как ты это делаешь??? Я же и так на цыпочках крался.
- Твои цыпочки как бомба, не услышать сложно. Чего хотел?
Тут уже мне пришлось сделать над собой усилие и поднять веки. Передо мной был никто иной как Гришка Ленченков, юнга с другого взвода. Мы с ним подружились ещё задолго до прибытия на лагерную смену. Чёрный пушок над губой, не менее тёмные волосы, которые кучерявились слегка, голубые доверчивые глаза, веснушки и даже по-детски пухлое лицо – всё в нем напоминало мне советского пионера (правда, картавого), особенно его любовь к галстукам.
- Да так…Ничего… А, вообще, тебя звала Маша на камбуз, сказала, что там без тебя лук горит.
- Ага, горит скорее не лук, а кое-какое другое у нее место. Нечего было спать на прошлой вахте, может тогда бы и пошла ей помогать. Роман Игнатьевич сказал, что я только слежу за процессом сегодня, а она готовит в наказание.
- Ой, ладно тебе…
После мы замолчали. Я не очень хотела сейчас болтать с ним, потому что предыдущий разговор так и не был мной закончен.
- Если не секрет, почему сидишь тут одна?
- Почему одна? С Гошей.
Гриша посмотрел на него и улыбнулся.
- Пойдёшь сегодня со мной и Шуриком в ночной караул? Уверен, будет весело.
- Чтобы вы надо мной как над новеньким подшучивали?! Фиг вам!
- Да ты же знаешь, я никогда бы не поступил так с…
Он неожиданно покраснел. Я давно предполагала, что нравлюсь ему, но это не мешало нам просто мило общаться каждый раз при редкой встрече. Он был робким, от того никогда не говорил со мной о чувствах, и я этому была рада. Не люблю неловких ситуаций…
- Знаю, знаю. Но всё равно не пойду.
- Почему?
- Я темноты боюсь… - тут уже пришлось покраснеть мне, ведь это была правда, - только никому не слова, усёк?
- Так точно… А что тебе так в этой темноте не нравится?
- Вот перед сном расскажут ребята историю про труп неупокоенной девушки, блуждающей по лагерю. Потом ложишься уже спать на свою раскладушку, даже почти уснул, а тут пацаны под ухом с улицы включают на телефоне запись женского плача и Конев в белой простыне вылезает из-под края палатки рядом со словами: «Иди ко мне мой сладкий!». После такого разве не начнешь бояться?
- Ну согласись, вышло всё-таки смешно, - сквозь гогот ответил Леночка. - Даже пришлось дать конфет одной мелкой, чтобы та поплакала на диктофон! Ну что ты сердишься? Надо же было проучить этого хвастуна…
Тут сложно было с ним не согласиться. Этот новенький и правда успел всем порядком надоесть, но это уже сейчас было не так важно.
- А если бы он "кони двинул" вместе с Коневым? Ведь этот «бесстрашный» так начал вопить и швыряться вещами, что только чудом не попал в Юру кочергой… Кто вообще додумался оставить кочергу у этого идиота?!
- Да, Конев и оставил… Он же прошлой ночью буржуйку топил, вот и оставил ее у той койки, что ближе всего к печке была.
- Эх вы…
- А если серьёзно, почему темноты боишься?
- Это с детства пошло, уже не помню почему… Ну что пристал?
- Всё, всё, больше не буду, обещаю.
- Ладно, иди, скажи Маше, что я сейчас приду и помогу ей.
- Понял, капитан, - Ленченков послушно встал и всё также неуклюже пошел прочь по песку в сторону камбуза.
Возможно, я бы не стала его прогонять, если бы он не напомнил мне кое о чём.
- Ха… не помню… Я всё прекрасно помню, - обращалась я уже к своему первому собеседнику. Из правого глаза покатилась коварная слеза и, казалось, она стремилась попасть прямиком в море.
Я не врала, мне действительно не нравился мрак ночи, только мой страх немного заключался не в этом.
- Гошечка, как же тяжело никому не говорить о том, что меня так убивает изнутри… Как же тяжело скрывать этот ненормальный страх одиночества!
Настоящих друзей у меня никогда не было… Единственный человек, который заменял мне общение со сверстниками, был мой папа, но мои родители развелись, когда мне было пять. С тех пор ощущение собственной бесполезности, ненужности и, конечно, одиночества меня не покидало. Появлялись новые знакомые, мы даже могли общаться бесконечными переписками в ВК и, когда казалось, что вот он – друг, этот человек предательски уходил из моей жизни, как это сделал когда-то мой отец. Пожалуй, мой единственный детский страх – остаться совсем одной.
- Ты сам понимаешь, все эти обитатели лагеря не могут полноправно считаться моими друзьями. Я не чувствую, что нас связывает что-то особенное, вызванное выбросами окситоцина в кровь. Даже Леночка, даже Маша… Они просто хорошие знакомые. Только ты знаешь, как я мучаюсь здесь ночью. Густой мрак скрывает слёзы и поглощает всхлипы в своей бесконечности. Я боюсь ночи, потому что не хочу снова и снова переживать эту боль в груди, в районе, где должно находится моё разбитое сердце.
Это добило меня, больше сдерживаться сил не было. Я упала на горячий песок, подложив руки под голову и стала рыдать. Единственный, кто мог бы меня сейчас успокоить находился за десятки километров на другом берегу, в городе. Наверное, он работал сейчас в своей конторе или сидел на встрече с клиентом, в любом случае, не вспоминал обо мне. «Как же я соскучилась по тебе, папочка…».
Гоша и тут молчал. Наверное, тут было всё же важно не то, что он не говорит со мной, а то, что он хотя бы пытался меня выслушать. Похвально.
- Знаешь, Гош, что? Я только тебя буду любить. Ты не уйдёшь, не обидишь, не предашь. Ну их всех…, - я махнула рукой в сторону лагеря, что было очень кстати. Со стороны камбуза валил черный дым и пахло горелой кашей…
- Господи…. Маша! - с этими словами я рванула в сторону девчачьего визга и матерного ора вожатого, попутно протирая заплаканное лицо. Сейчас было не до жалости к себе, надо было спасать обед.
Гоша же от такого рывка упал на песок. Из его глянцевых пластмассовых глазок, казалось, вот-вот пойдут слёзы, которые он не сможет вытереть своими плюшевыми лапками. Мой бегемотик… Кто бы мог подумать, что в игрушке души больше, чем иногда в человеке.
Останина Екатерина. Валя
В нашем глухом забытом городе часто холодно. И не потому, что температуры низкие. Людей мало, из города каждый год уезжают. О здешней местности слышат только на уроках географии, когда учитель просит показать на карте.
Была у меня как-то одногруппница - помню, учился я тогда уже в институте - Валентина Котова. Как только входила в аудиторию, её шаги и голос сразу были слышны. А всё потому, что кругом замолкали - уважали. Она никогда никого не обижала, всегда вела себя дружелюбно, на лице её расцветала улыбка, которой она освещала всех остальных учеников. А в особенности тех, кто случайно поймал грустинку. Одевалась Валя просто, но со вкусом. Старалась добавить в каждый образ свою деталь. На ней никогда не видели облегающих платьев:
— Не мой фасон. Мне бы что-то посвободнее. А то оно меня сковывает, как удав мышь. Я в нём похожа на огромную слоних, - смеялась и приподнимала уголки губ.
На учёбе её чаще можно было заметить в рубашках и кофтах, но одна вещь выделялась среди других - свитер. Не какой-нибудь из нынешней синтетики, как многие привыкли носить, а натуральный, шерстяной, колючий до того, что смотреть на него иногда было невозможно - хотелось чесаться. В нём она была похожа на бабушку. Вещь будто была найдена в самом дальнем углу чердака, но это ни в коем случае её не портило. Больше дополняло.
Свитер был яркого цвета, с белыми узорами-рисунками, свисающими будто сосульки. Он напоминал мне о зиме, когда можно было кататься на санках с высоченной горки, куда все боялись забираться, лепить снеговика, пытаясь найти в карманах припрятанную заранее морковку, которую ты схватил у мамы на кухне, и ожидать звонкого голоса, который оповестит тебя, что обед готов, и пора бы домой.
От свитера веяло теплом и заботой, а ещё пирожками и старыми книгами. В голове сразу вырисовывалась картинка, как ты приходишь к бабушке, садишься на коленки и наблюдаешь за тем, как она вяжет своим старым железным крючком какие-нибудь салфетки или куклу. Не проходило и десяти минут, как тебя можно было приподнять и уложить спать.
Он пах воспоминаниями. Теми самыми, что приходили под покровом ночи, и не давали уснуть.
Вот в чём Валя была чутка, так это в эмоциях. Имела отдельный нюх на это, чувствуя, что испытывает человек, и как ему помочь. Люди творческие - волшебники. Никогда лишнего не сболтнут. Ноги они часто скрещивают, болтают, притоптывают. Пальцами крутят, хрустят. Ладони потирают. А из-за спины у них вырастают крылья. Мы же в это время просто перья сбрасываем. Среди многоэтажек знаете ли не полетаешь. Вот и спустились на землю полностью, переставая отращивать крылья. Лишь одно напоминает о прошлых полётах - два обрезанных рубца.
Голова творцов по-другому устроена. Информацию они фильтруют, формулы выкидывают, иностранные слова запоминают только некоторые. Только те, кто хотят уехать. Но по Вале непонятно было, останется она здесь или нет. Перегрузка в голове могла выдать сбой, поэтому память постоянно подчищалась. Какие-то нужные даты или имена сохранялись в настройках как уже скаченные файлы. Но Валька была сама себе на уме… Помнила она только одну дорогу - до уже родного художественного класса. Ноги сами вели её, поднимая по крутой горке. Кругом зима: снег, лёд, щёки неприятно обдувает ветер, а озябшие руки покалывает. Поняв, что она уже промёрзла, решает ускорить шаг, чтобы как можно скорее достичь пункта назначения. Обгоняя других одноклассников, залетает в раздевалку. Как ни посмотришь, в тот момент в неё будто дьявол вселялся. Всегда я знал, что художники - люди такие, сумасшедшие. Как будто не от мира сего, они прилетели с другой планеты, чтобы менять нашу. Таким людям сложно ужиться в обществе, компании их часто отталкивают, сразу сканируя непохожее поведение. Но свои сразу видят друг друга без маски, им скрываться ни к чему. Вот они и сближаются, устраивая сборы и собрания, на которых обсуждают, кто станет следующей жертвой их творческого беспорядка.
Они не боятся хаоса и непогоды. Я как-то проснулся в общежитии и не одеваясь подошёл к окну, открывая его настежь. Кто-то кинул мне одеяло на голову и прокричал на ухо: "Заболеешь!".
Я стряхнул его и накинул на плечи. Дунул ветер, из-за которого мне пришлось пожалеть, что я в одной майке. Но обратив внимание на море, я заметил мою старую знакомую. Она шла иногда приседая и разглядывая ракушки, которые могло выкинуть прибоем. На ней были всего яркий свитер и джинсы, я поёжился. Захотелось снять с себя одеяло и кинуть ей. Но оно бы не долетело. Тогда я крикнул как можно громче. Она резко повернулась и заулыбалась мне, начиная махать руками и кричать в ответ. Спустя некоторое время в дверь постучали, и Валя ввалилась к нам разгорячённая, сразу начиная рассказывать что-то про Новый год, приближение весны, защиту диплома и начало новой жизни. Парни сразу спохватились и усадили её, наливая чай. Я, кажется, её уже не слушал. Лишь застывший смотрел на море. А потом, придя в себя, закрыл окно.
Выпускной мы провели тихо. Не было ни зажигательной вечеринки с напитками, ни поездок в загородный коттедж. Но был небольшой дружеский вечер, на который каждый что-то принёс. Я наготовил пиццы, кто-то принёс пирожки, девочки испекли кексы и один большой торт. Валя тоже пришла, в этот раз под свитером у неё оказалось платье в пол, которое было перешито из маминого. Тамада из неё получилась хорошая. Каждого подбадривала и просила не стесняться:
— Даже не думай стыдиться себя. Кому какая разница? Главное что ты настоящая для самой себя. А если кому-то не нравится, пусть выйдет из зала. Мы сюда не критиков приглашали.
Это немного воодушевляло остальных, и они начинали активнее участвовать.
Но все понимали, что скоро это кончится. Потому что его — время, не остановить.
Я отвлекаюсь, потому что меня зовут ближе к столу. Мне больше нравилось наблюдать и завидовать всеобщему веселью. Но отказываться сейчас не хочется, поэтому я позволяю утащить себя в гущу событий. В мой стакан наливают газировки, встают самые старшие, чтобы дать напутственные слова. Я подношу бокал к губам и выпиваю залпом. На языке моём остаётся химозная кислинка от чего-то ягодного, но я лишь прикрываю глаза и наслаждаюсь моментом.
В нашем глухом забытом городе часто холодно. И не потому, что температуры низкие. Людей мало, из города каждый год уезжают. О здешней местности слышат только на уроках географии, когда учитель просит показать на карте.
Была у меня как-то одногруппница - помню, учился я тогда уже в институте - Валентина Котова. Как только входила в аудиторию, её шаги и голос сразу были слышны. А всё потому, что кругом замолкали - уважали. Она никогда никого не обижала, всегда вела себя дружелюбно, на лице её расцветала улыбка, которой она освещала всех остальных учеников. А в особенности тех, кто случайно поймал грустинку. Одевалась Валя просто, но со вкусом. Старалась добавить в каждый образ свою деталь. На ней никогда не видели облегающих платьев:
— Не мой фасон. Мне бы что-то посвободнее. А то оно меня сковывает, как удав мышь. Я в нём похожа на огромную слоних, - смеялась и приподнимала уголки губ.
На учёбе её чаще можно было заметить в рубашках и кофтах, но одна вещь выделялась среди других - свитер. Не какой-нибудь из нынешней синтетики, как многие привыкли носить, а натуральный, шерстяной, колючий до того, что смотреть на него иногда было невозможно - хотелось чесаться. В нём она была похожа на бабушку. Вещь будто была найдена в самом дальнем углу чердака, но это ни в коем случае её не портило. Больше дополняло.
Свитер был яркого цвета, с белыми узорами-рисунками, свисающими будто сосульки. Он напоминал мне о зиме, когда можно было кататься на санках с высоченной горки, куда все боялись забираться, лепить снеговика, пытаясь найти в карманах припрятанную заранее морковку, которую ты схватил у мамы на кухне, и ожидать звонкого голоса, который оповестит тебя, что обед готов, и пора бы домой.
От свитера веяло теплом и заботой, а ещё пирожками и старыми книгами. В голове сразу вырисовывалась картинка, как ты приходишь к бабушке, садишься на коленки и наблюдаешь за тем, как она вяжет своим старым железным крючком какие-нибудь салфетки или куклу. Не проходило и десяти минут, как тебя можно было приподнять и уложить спать.
Он пах воспоминаниями. Теми самыми, что приходили под покровом ночи, и не давали уснуть.
Вот в чём Валя была чутка, так это в эмоциях. Имела отдельный нюх на это, чувствуя, что испытывает человек, и как ему помочь. Люди творческие - волшебники. Никогда лишнего не сболтнут. Ноги они часто скрещивают, болтают, притоптывают. Пальцами крутят, хрустят. Ладони потирают. А из-за спины у них вырастают крылья. Мы же в это время просто перья сбрасываем. Среди многоэтажек знаете ли не полетаешь. Вот и спустились на землю полностью, переставая отращивать крылья. Лишь одно напоминает о прошлых полётах - два обрезанных рубца.
Голова творцов по-другому устроена. Информацию они фильтруют, формулы выкидывают, иностранные слова запоминают только некоторые. Только те, кто хотят уехать. Но по Вале непонятно было, останется она здесь или нет. Перегрузка в голове могла выдать сбой, поэтому память постоянно подчищалась. Какие-то нужные даты или имена сохранялись в настройках как уже скаченные файлы. Но Валька была сама себе на уме… Помнила она только одну дорогу - до уже родного художественного класса. Ноги сами вели её, поднимая по крутой горке. Кругом зима: снег, лёд, щёки неприятно обдувает ветер, а озябшие руки покалывает. Поняв, что она уже промёрзла, решает ускорить шаг, чтобы как можно скорее достичь пункта назначения. Обгоняя других одноклассников, залетает в раздевалку. Как ни посмотришь, в тот момент в неё будто дьявол вселялся. Всегда я знал, что художники - люди такие, сумасшедшие. Как будто не от мира сего, они прилетели с другой планеты, чтобы менять нашу. Таким людям сложно ужиться в обществе, компании их часто отталкивают, сразу сканируя непохожее поведение. Но свои сразу видят друг друга без маски, им скрываться ни к чему. Вот они и сближаются, устраивая сборы и собрания, на которых обсуждают, кто станет следующей жертвой их творческого беспорядка.
Они не боятся хаоса и непогоды. Я как-то проснулся в общежитии и не одеваясь подошёл к окну, открывая его настежь. Кто-то кинул мне одеяло на голову и прокричал на ухо: "Заболеешь!".
Я стряхнул его и накинул на плечи. Дунул ветер, из-за которого мне пришлось пожалеть, что я в одной майке. Но обратив внимание на море, я заметил мою старую знакомую. Она шла иногда приседая и разглядывая ракушки, которые могло выкинуть прибоем. На ней были всего яркий свитер и джинсы, я поёжился. Захотелось снять с себя одеяло и кинуть ей. Но оно бы не долетело. Тогда я крикнул как можно громче. Она резко повернулась и заулыбалась мне, начиная махать руками и кричать в ответ. Спустя некоторое время в дверь постучали, и Валя ввалилась к нам разгорячённая, сразу начиная рассказывать что-то про Новый год, приближение весны, защиту диплома и начало новой жизни. Парни сразу спохватились и усадили её, наливая чай. Я, кажется, её уже не слушал. Лишь застывший смотрел на море. А потом, придя в себя, закрыл окно.
Выпускной мы провели тихо. Не было ни зажигательной вечеринки с напитками, ни поездок в загородный коттедж. Но был небольшой дружеский вечер, на который каждый что-то принёс. Я наготовил пиццы, кто-то принёс пирожки, девочки испекли кексы и один большой торт. Валя тоже пришла, в этот раз под свитером у неё оказалось платье в пол, которое было перешито из маминого. Тамада из неё получилась хорошая. Каждого подбадривала и просила не стесняться:
— Даже не думай стыдиться себя. Кому какая разница? Главное что ты настоящая для самой себя. А если кому-то не нравится, пусть выйдет из зала. Мы сюда не критиков приглашали.
Это немного воодушевляло остальных, и они начинали активнее участвовать.
Но все понимали, что скоро это кончится. Потому что его — время, не остановить.
Я отвлекаюсь, потому что меня зовут ближе к столу. Мне больше нравилось наблюдать и завидовать всеобщему веселью. Но отказываться сейчас не хочется, поэтому я позволяю утащить себя в гущу событий. В мой стакан наливают газировки, встают самые старшие, чтобы дать напутственные слова. Я подношу бокал к губам и выпиваю залпом. На языке моём остаётся химозная кислинка от чего-то ягодного, но я лишь прикрываю глаза и наслаждаюсь моментом.
Васильева Анна. На том же месте через десять лет
-Слушай, -начинает мальчик, вытирая лицо грязными от земли руками. -а давай встретимся тут же, когда будем уже взрослыми? -он лучезарно улыбается подруге, которая вот-вот уедет в другой город. -Выкопаем нашу коробку с воспоминаниями, посмотрим на наши игрушки и фотографии и посмеёмся от души!
-Конечно... -тихо отвечает девочка со слезами на глазах. Она знала все с самого начала.
***
Девочка уехала, прошли годы. И обещание забылось. Унеслось вместе с тем летним ветром куда-то в тёплые края, куда уехала и сама девочка. Незаметно пролетели дни, полные учёбой, новыми знакомыми и друзьями. Мальчик уже закончил школу, учится в хорошем университете. Он счастлив и пережитки прошлого его совсем не волнуют. Он живёт в совершенно другом городе, лишь изредка заезжая в родные края, чтобы повидаться с родителями и другими родственниками. По вечерам парень подрабатывает в кофейне, разбавляя рутину разговорами с совершенно незнакомыми людьми, зарабатывая на свои "хотелки". Дни летели незаметно, начинаясь и заканчиваясь одинаково.
-Добрый день! Вы готовы сделать заказ? -он улыбается новому посетителю, поднимая глаза от своих рук, испачканных в заварном креме. В ответ ему искренне улыбается зеленоглазая девушка примерно его возраста.
-Капучино, пожалуйста. -её вид будоражит в парне старые и, казалось бы, забытые воспоминания. Картинка за картинкой перед глазами мелькают кадры из уже далекого прошлого. Он не замечает, что все ещё прожигает девушку взглядом. -Простите, с Вами все хорошо? -она выглядит слегка смущенной и взволнованной, и парень тоже заливается краской.
-Ах, да, извините... Капучино, верно?
Он отходит к кофе-машине, пряча глаза от покупателей. Его мысли наполнены знакомыми образами из детства, так ярко отражающиеся в покупательнице. Те самые большие зелёные глаза, наполненные счастьем, детский радостный смех, последние объятия перед её отъездом. Это было так давно.
Парень не то, чтобы очень чувствительный, но вернуться обратно с кофе в руках почему-то кажется невыполнимой задачей. Он бы хотел узнать имя девушки, но язык не поворачивается даже для того, чтобы сказать «Ваш кофе готов!». Но эй, почему бы не воспользоваться небольшой хитростью?
-Ваш стаканчик подписать? -он никогда этого не делал. И его почерк оставляет желать лучшего. Но чёрный маркер уже в дрожащих руках, а большие зелёные глаза удивленно заглядывают в душу.
-Почему нет? -улыбается она. -Напишите «Алиса», пожалуйста. -отлично, что дальше? Сердце бешено бьется в груди. Даже если это не его подруга из детства, но эта девушка уже кажется ему совершенно чудесной. Чего стоит одна ее улыбка.
-Так, Вас зовут Алиса? -спрашивает парень, вырисовывая на стаканчике красивую букву «А» с изящной завитушкой.
-Да, а вы... Мирослав. Приятной познакомиться. -на секунду он теряет дар речи. Пока не замечает, как новоиспеченная знакомая указывает на бейджик на его груди, тихо посмеиваясь в кулак.
-Точно! -эта небольшая встреча доставила ему уйму восхитительных эмоций.
Было принято решение съездить домой. Кажется, прошло уже около десяти лет с того дня, когда он в последний раз слышал что-то о старой знакомой и ее семье. Первое время после переезда их семьи разговаривали по телефону, рассказывая друг другу последние новости буквально часами напролёт, но вскоре общение сошло на «нет». Он был слишком маленьким для того, чтобы заметить это и задаться вопросом.
Дорога домой заняла всего пару часов. Так же, как всегда. Парень приезжает домой каждые пару недель, чтобы повидаться с родными. Почему раньше он не вспоминал свою старую подругу, проходя знакомые места, где провёл всё детство? Дом встретил теплом и запахом вкусной маминой еды. Мирослав вдыхает полные лёгкие, наслаждаясь этим ароматом. Он скучал. Как же хорошо возвращаться домой. Родители радуются, ругаются, что приехал без предупреждения. Конечно, мама бы снова наготовила целый стол для любимого сына. Стоит ли говорить о том счастье, что он испытывает, чувствуя такую любовь?
-Я хотел спросить, вы помните девочку, с которой я дружил в детстве? Она уехала куда-то, когда мы были ещё совсем маленькими.
-Разговоры потом! Сначала за стол. –мама складывает руки на груди, не собираясь отступать. –Уже давно пора обедать!
Родители рассказывают всё, что только приходит в голову, соскучившись по уже совсем взрослому сыну. Недавно его одноклассница вышла замуж, папин друг получил повышение на работе, а соседка недавно завела собаку, которая пробралась в огород и потопталась по всем грядкам. Мирослав с улыбкой слушает родителей. Ему совсем не скучно, даже наоборот. Когда-то это место было его жизнью. Да и сейчас мало, что изменилось. Этот небольшой домик, наполненный воспоминаниями, всегда будет жить внутри него. Еда, приготовленная с жаркой родительской любовью, вызывает внутри тепло. Раньше он не ценил это так сильно, как теперь.
-Ну так, вы знаете, где та девочка сейчас? –родители подозрительно грустно переглядываются между собой в ответ. –Что такое? –он и сам почему-то сразу расстраивается, чувствуя, как в горле встаёт ком. Его сразу пробивает холодом и голос начинает дрожать.
-Милый, -начинает мама. –ты был совсем маленьким, мы не хотели тебе рассказывать…
-Беда случилась с ней, Мирка, заболела она тяжело в тот год. –дальше слушать не хотелось. По глазам он видел, что произошло дальше.
-Так они поэтому уехали? –невидящими глазами он уставился в белую скатерть на столе.
Не дожидаясь ответа, парень поднимается из-за стола. Самое время откопать коробку, верно?
Небо медленно затягивалось серыми тучами. Мягкая земля легко поддавалась, через пару минут коробка уже была в руках Мирослава. Яркая когда-то обёртка поблекла, картон местами размок. Он медленно открывает крышку, перед глазами тут же мелькают картинки воспоминаний. Каждая фотография вызывает слёзы. Тут она, совсем маленькая девочка, стоит рядом с ним, держа в руках букет белых ромашек. Они нарвали их в саду, разорив всю клумбу. Мама ругалась и смеялась одновременно, смотря на божьих коровок в волосах довчонки. А тут они учатся кататься на велосипеде. Колени разбиты в кровь, хочется плакать, а они смеются, придерживая друг друга за плечи. Красный двухколёсный велосипед и сейчас стоит во дворе. Ржавый и поросший травой, но всё равно удивительно нужный. Тут же лежит её открытка, нарисованная с помощью мамы на его день рождения. Маленькая гоночная машинка из новогоднего подарка и подвеска из бисера с розовым сердечком. По щекам катятся слёзы и по рукам словно бьёт электрический ток. В ушах звучит звонкий детский смех, а перед глазами сплошной зелёный лес. В цвет её глаз.
Он больше не позволит себе забыть её.
***
-Какое имя вы дадите ребёнку? –рядом с кушеткой стоит женщина. В её руках блокнот с документами.
-Вика. –мужчина со слезами на глазах смотрит на свою дочь. Ему страшно даже просто держать её на руках, такую маленькую и хрупкую. Просто великолепную. –Виктория.
Его жена с грустной улыбкой смотрит на отца своего ребёнка. Она прекрасно знает историю, связанную с этим именем. Они обсуждали это много раз и она согласилась с таким решением.
-Да. Вика. –полушёпотом повторяет она, улыбаясь мужу. –Чудесное имя.
***
-Вика! Мы едем к бабушке и дедушке! –Алиса заглядывает в комнату дочери.
-Да, мамуль! –большие зелёные глаза смотрят прямо в душу.
-Слушай, -начинает мальчик, вытирая лицо грязными от земли руками. -а давай встретимся тут же, когда будем уже взрослыми? -он лучезарно улыбается подруге, которая вот-вот уедет в другой город. -Выкопаем нашу коробку с воспоминаниями, посмотрим на наши игрушки и фотографии и посмеёмся от души!
-Конечно... -тихо отвечает девочка со слезами на глазах. Она знала все с самого начала.
***
Девочка уехала, прошли годы. И обещание забылось. Унеслось вместе с тем летним ветром куда-то в тёплые края, куда уехала и сама девочка. Незаметно пролетели дни, полные учёбой, новыми знакомыми и друзьями. Мальчик уже закончил школу, учится в хорошем университете. Он счастлив и пережитки прошлого его совсем не волнуют. Он живёт в совершенно другом городе, лишь изредка заезжая в родные края, чтобы повидаться с родителями и другими родственниками. По вечерам парень подрабатывает в кофейне, разбавляя рутину разговорами с совершенно незнакомыми людьми, зарабатывая на свои "хотелки". Дни летели незаметно, начинаясь и заканчиваясь одинаково.
-Добрый день! Вы готовы сделать заказ? -он улыбается новому посетителю, поднимая глаза от своих рук, испачканных в заварном креме. В ответ ему искренне улыбается зеленоглазая девушка примерно его возраста.
-Капучино, пожалуйста. -её вид будоражит в парне старые и, казалось бы, забытые воспоминания. Картинка за картинкой перед глазами мелькают кадры из уже далекого прошлого. Он не замечает, что все ещё прожигает девушку взглядом. -Простите, с Вами все хорошо? -она выглядит слегка смущенной и взволнованной, и парень тоже заливается краской.
-Ах, да, извините... Капучино, верно?
Он отходит к кофе-машине, пряча глаза от покупателей. Его мысли наполнены знакомыми образами из детства, так ярко отражающиеся в покупательнице. Те самые большие зелёные глаза, наполненные счастьем, детский радостный смех, последние объятия перед её отъездом. Это было так давно.
Парень не то, чтобы очень чувствительный, но вернуться обратно с кофе в руках почему-то кажется невыполнимой задачей. Он бы хотел узнать имя девушки, но язык не поворачивается даже для того, чтобы сказать «Ваш кофе готов!». Но эй, почему бы не воспользоваться небольшой хитростью?
-Ваш стаканчик подписать? -он никогда этого не делал. И его почерк оставляет желать лучшего. Но чёрный маркер уже в дрожащих руках, а большие зелёные глаза удивленно заглядывают в душу.
-Почему нет? -улыбается она. -Напишите «Алиса», пожалуйста. -отлично, что дальше? Сердце бешено бьется в груди. Даже если это не его подруга из детства, но эта девушка уже кажется ему совершенно чудесной. Чего стоит одна ее улыбка.
-Так, Вас зовут Алиса? -спрашивает парень, вырисовывая на стаканчике красивую букву «А» с изящной завитушкой.
-Да, а вы... Мирослав. Приятной познакомиться. -на секунду он теряет дар речи. Пока не замечает, как новоиспеченная знакомая указывает на бейджик на его груди, тихо посмеиваясь в кулак.
-Точно! -эта небольшая встреча доставила ему уйму восхитительных эмоций.
Было принято решение съездить домой. Кажется, прошло уже около десяти лет с того дня, когда он в последний раз слышал что-то о старой знакомой и ее семье. Первое время после переезда их семьи разговаривали по телефону, рассказывая друг другу последние новости буквально часами напролёт, но вскоре общение сошло на «нет». Он был слишком маленьким для того, чтобы заметить это и задаться вопросом.
Дорога домой заняла всего пару часов. Так же, как всегда. Парень приезжает домой каждые пару недель, чтобы повидаться с родными. Почему раньше он не вспоминал свою старую подругу, проходя знакомые места, где провёл всё детство? Дом встретил теплом и запахом вкусной маминой еды. Мирослав вдыхает полные лёгкие, наслаждаясь этим ароматом. Он скучал. Как же хорошо возвращаться домой. Родители радуются, ругаются, что приехал без предупреждения. Конечно, мама бы снова наготовила целый стол для любимого сына. Стоит ли говорить о том счастье, что он испытывает, чувствуя такую любовь?
-Я хотел спросить, вы помните девочку, с которой я дружил в детстве? Она уехала куда-то, когда мы были ещё совсем маленькими.
-Разговоры потом! Сначала за стол. –мама складывает руки на груди, не собираясь отступать. –Уже давно пора обедать!
Родители рассказывают всё, что только приходит в голову, соскучившись по уже совсем взрослому сыну. Недавно его одноклассница вышла замуж, папин друг получил повышение на работе, а соседка недавно завела собаку, которая пробралась в огород и потопталась по всем грядкам. Мирослав с улыбкой слушает родителей. Ему совсем не скучно, даже наоборот. Когда-то это место было его жизнью. Да и сейчас мало, что изменилось. Этот небольшой домик, наполненный воспоминаниями, всегда будет жить внутри него. Еда, приготовленная с жаркой родительской любовью, вызывает внутри тепло. Раньше он не ценил это так сильно, как теперь.
-Ну так, вы знаете, где та девочка сейчас? –родители подозрительно грустно переглядываются между собой в ответ. –Что такое? –он и сам почему-то сразу расстраивается, чувствуя, как в горле встаёт ком. Его сразу пробивает холодом и голос начинает дрожать.
-Милый, -начинает мама. –ты был совсем маленьким, мы не хотели тебе рассказывать…
-Беда случилась с ней, Мирка, заболела она тяжело в тот год. –дальше слушать не хотелось. По глазам он видел, что произошло дальше.
-Так они поэтому уехали? –невидящими глазами он уставился в белую скатерть на столе.
Не дожидаясь ответа, парень поднимается из-за стола. Самое время откопать коробку, верно?
Небо медленно затягивалось серыми тучами. Мягкая земля легко поддавалась, через пару минут коробка уже была в руках Мирослава. Яркая когда-то обёртка поблекла, картон местами размок. Он медленно открывает крышку, перед глазами тут же мелькают картинки воспоминаний. Каждая фотография вызывает слёзы. Тут она, совсем маленькая девочка, стоит рядом с ним, держа в руках букет белых ромашек. Они нарвали их в саду, разорив всю клумбу. Мама ругалась и смеялась одновременно, смотря на божьих коровок в волосах довчонки. А тут они учатся кататься на велосипеде. Колени разбиты в кровь, хочется плакать, а они смеются, придерживая друг друга за плечи. Красный двухколёсный велосипед и сейчас стоит во дворе. Ржавый и поросший травой, но всё равно удивительно нужный. Тут же лежит её открытка, нарисованная с помощью мамы на его день рождения. Маленькая гоночная машинка из новогоднего подарка и подвеска из бисера с розовым сердечком. По щекам катятся слёзы и по рукам словно бьёт электрический ток. В ушах звучит звонкий детский смех, а перед глазами сплошной зелёный лес. В цвет её глаз.
Он больше не позволит себе забыть её.
***
-Какое имя вы дадите ребёнку? –рядом с кушеткой стоит женщина. В её руках блокнот с документами.
-Вика. –мужчина со слезами на глазах смотрит на свою дочь. Ему страшно даже просто держать её на руках, такую маленькую и хрупкую. Просто великолепную. –Виктория.
Его жена с грустной улыбкой смотрит на отца своего ребёнка. Она прекрасно знает историю, связанную с этим именем. Они обсуждали это много раз и она согласилась с таким решением.
-Да. Вика. –полушёпотом повторяет она, улыбаясь мужу. –Чудесное имя.
***
-Вика! Мы едем к бабушке и дедушке! –Алиса заглядывает в комнату дочери.
-Да, мамуль! –большие зелёные глаза смотрят прямо в душу.
Гущин Данила. Красные ботинки
Декабрь 1942 года. Первый урок у нас сегодня – русский язык.
Учительница Анна Васильевна Войцеховская стоит у окна и говорит:
- Вы только посмотрите на эту красоту! Все деревья в белоснежных уборах, причудливые узоры на окнах. Солнечный луч пробивается сквозь холодное небо. Толстые яркие снегири на ветках белоствольных берез. Красота! Сказка! Будто и нет войны. Будто по улицам нашего Невеля не снуют туда-сюда немецкие мотоциклисты. Не глядят пустыми глазницами окон еврейские дома. Не голосят каждый день женщины, получая похоронки…
У нашей любимой Анны Васильевны красивый грудной голос. Длинные черные волосы собраны в пучок. Пуховый платок на плечах не скрывает ее стройную фигуру. Все мальчишки – старшеклассники влюблены в эту замечательную учительницу. У Анны Васильевны - сынок Васенька, трех лет. Он всегда присутствовал на ее уроках, так как родных у учительницы не было. Говорили, что муж у нее то ли цыган, то ли поляк…Убили его 6 сентября 1941 года вместе с евреями Невеля. Расстреляли на Голубой даче. Почему - то не тронули жену и сына. Хотя перед войной Анна и Людвиг Войцеховские почему – то оформили развод, и Анна снова стала Васильевой.
Так вот, сегодня Василий Войцеховский пришел в школу с красными не только от мороза, но и от какого-то радостного возбуждения, щеками.
- Смотрите, что у меня! – и радостно сбросил с ног валенки.
Мы все столпились вокруг него и замолчали от восхищения и зависти: на ногах Васеньки красовались ярко – красные ботиночки. Они были такими яркими среди серых страшных дней, как сегодняшние снегири на ветках берез.
- Это мне папа прислал.
-Врешь, нет у тебя папы, - с отчаянной злостью выкрикнул Петька Анищенко. На его отца вчера пришла похоронка.
- Нет, есть! Он с немцами воюет. – Слезы градом катились по Васенькиным щекам.
-Конечно, есть. Он просто сейчас далеко, - Анна Васильевна подхватила Васю на руки и стала быстро покрывать его лицо поцелуями. Урок прошел в напряженном молчании. Кто-то думал об отцах и дедах, воюющих на фронте. Кто-то вспоминал еврейских мальчишек и девчонок, расстрелянных на Голубой даче.
Январь 1943 года. Мы с ребятами идем мимо нашей Гагринской школы кататься на лыжах. Наши матери шли в город на железнодорожный вокзал, там стоял наш, советский, состав с продуктами. Немцы раздавали их населению, боялись, что отравленные. Когда мы поравнялись со школой детского дома, то из города ехала машина, полностью набитая людьми и оттуда, что есть сил, кричала женщина: «Я Анна Васильевна. Люди добрые, спасите моего сыночка, нас везут в Борки на расстрел». Машина ехала тихо…мы хорошо видели лицо и узнали голос учительницы. Наши матери не пошли дольше, а плача повернули назад.
Август 2021 года. Деревня Борки. Песчаный карьер. Поисковый отряд «Патриот 60» и «Поисковый батальон 90» работают в рамках проекта «Без срока давности». По имеющимся у них на руках документах здесь проходили расстрелы мирных жителей с 1941 по 1943 год. Расстрельный ров растянулся на несколько километров. Детские, женские останки с характерными отверстиями в черепе. Женский гребешок. Флакон от духов. Галоша.
И детский, некогда красный, ботиночек…
Декабрь 1942 года. Первый урок у нас сегодня – русский язык.
Учительница Анна Васильевна Войцеховская стоит у окна и говорит:
- Вы только посмотрите на эту красоту! Все деревья в белоснежных уборах, причудливые узоры на окнах. Солнечный луч пробивается сквозь холодное небо. Толстые яркие снегири на ветках белоствольных берез. Красота! Сказка! Будто и нет войны. Будто по улицам нашего Невеля не снуют туда-сюда немецкие мотоциклисты. Не глядят пустыми глазницами окон еврейские дома. Не голосят каждый день женщины, получая похоронки…
У нашей любимой Анны Васильевны красивый грудной голос. Длинные черные волосы собраны в пучок. Пуховый платок на плечах не скрывает ее стройную фигуру. Все мальчишки – старшеклассники влюблены в эту замечательную учительницу. У Анны Васильевны - сынок Васенька, трех лет. Он всегда присутствовал на ее уроках, так как родных у учительницы не было. Говорили, что муж у нее то ли цыган, то ли поляк…Убили его 6 сентября 1941 года вместе с евреями Невеля. Расстреляли на Голубой даче. Почему - то не тронули жену и сына. Хотя перед войной Анна и Людвиг Войцеховские почему – то оформили развод, и Анна снова стала Васильевой.
Так вот, сегодня Василий Войцеховский пришел в школу с красными не только от мороза, но и от какого-то радостного возбуждения, щеками.
- Смотрите, что у меня! – и радостно сбросил с ног валенки.
Мы все столпились вокруг него и замолчали от восхищения и зависти: на ногах Васеньки красовались ярко – красные ботиночки. Они были такими яркими среди серых страшных дней, как сегодняшние снегири на ветках берез.
- Это мне папа прислал.
-Врешь, нет у тебя папы, - с отчаянной злостью выкрикнул Петька Анищенко. На его отца вчера пришла похоронка.
- Нет, есть! Он с немцами воюет. – Слезы градом катились по Васенькиным щекам.
-Конечно, есть. Он просто сейчас далеко, - Анна Васильевна подхватила Васю на руки и стала быстро покрывать его лицо поцелуями. Урок прошел в напряженном молчании. Кто-то думал об отцах и дедах, воюющих на фронте. Кто-то вспоминал еврейских мальчишек и девчонок, расстрелянных на Голубой даче.
Январь 1943 года. Мы с ребятами идем мимо нашей Гагринской школы кататься на лыжах. Наши матери шли в город на железнодорожный вокзал, там стоял наш, советский, состав с продуктами. Немцы раздавали их населению, боялись, что отравленные. Когда мы поравнялись со школой детского дома, то из города ехала машина, полностью набитая людьми и оттуда, что есть сил, кричала женщина: «Я Анна Васильевна. Люди добрые, спасите моего сыночка, нас везут в Борки на расстрел». Машина ехала тихо…мы хорошо видели лицо и узнали голос учительницы. Наши матери не пошли дольше, а плача повернули назад.
Август 2021 года. Деревня Борки. Песчаный карьер. Поисковый отряд «Патриот 60» и «Поисковый батальон 90» работают в рамках проекта «Без срока давности». По имеющимся у них на руках документах здесь проходили расстрелы мирных жителей с 1941 по 1943 год. Расстрельный ров растянулся на несколько километров. Детские, женские останки с характерными отверстиями в черепе. Женский гребешок. Флакон от духов. Галоша.
И детский, некогда красный, ботиночек…
Кузник Анастасия. Круговорот судьбы
Глава 1
Неожиданно вспыхнувшие чувства
Когда начинает цвести сирень, когда природа окончательно просыпается после долгого сна, когда звенят ручьи, когда апрельское солнце приятно согревает тело и душу, зарождается какое-то особенное чувство. Чувству этому, кажется, свойственно появляться только весной. Так что же оно из себя представляет? Почему именно сейчас, после стольких лет жизни, я впервые начал испытывать что-то незнакомое мне до сих пор?…
Александр закончил запись в своем ежедневнике. Ещё с прошлой недели его состояние стало изменяться (в лучшую ли, в худшую ли сторону?). Причиной этому стал один случай, никак не выходивший из его головы.
Глава 2
Первая встреча
Мария
Это произошло ранним утром 17 апреля. В метро было много людей, что не свойственно воскресенью. Я спешила на подработку. Вообще, я невезучий человек, так уж было заведено. Именно в тот момент, когда всё могло бы пойти не по плану, так и происходило.
До дверей состава оставалось меньше 5 метров. «Успеваю»,- подумала я. Но как же я ошиблась! Сразу после моих мыслей его двери закрылись и он ушёл, а я так и осталась стоять, представляя, как меня увольняют.
Но моё видение было прервано каким-то незнакомцем, задевшим меня своим зонтом (не понимаю, для чего ему зонт в такую хорошую погоду). После продолжительных извинений он спросил меня о времени прибытия того самого состава, который я упустила. Услышав, что уже поздно и он ушёл, молодой человек вдруг засмеялся.
«Он не в порядке!»- подумала я, однако моя догадка была неверна. Он объяснил, что сегодня его первый день в новой компании и он опаздывал, а теперь и вовсе не явится туда. Тогда уже и мне стало смешно от этой ситуации: не мне же одной быть такой невезучей!
Глава 3
Первая встреча
Александр
Меня сразу привлекла эта девушка. У неё были такие кудрявые волосы и такие живые глаза. О, эти глаза! Я прежде не видел таких да и не увижу больше…
Дело в том, что после того случая мы стали друзьями. Я был счастлив рядом с ней. Так прошел год. Я уже и забыл день, когда мы столкнулись в метро, но она всё помнила. В пять утра меня разбудил её звонок в дверь. Я испугался: «Что-то произошло? Всё в порядке? Что ты делаешь здесь в такое время?»
Эта девчонка всего-то хотела поздравить меня с годовщиной нашей дружбы.
И тогда моё сердце стало биться в бешеном, непривычном ритме. Это было 17 апреля…
Глава 4
Что же это за чувство?
Запись из дневника Александра
25 апреля, четверг
Я не понимаю, почему мои мысли только о ней? Почему никто другой не может так запасть в душу... А может, даже в сердце? Я очень долго думал над этим и понял, что она мне не друг, нет. Она нравится мне!
Я пытался скрыться от этих чувств, не хотел потерять друга…
Глава 5
Непростое решение
Запись из дневника Александра
26 апреля
Я решил признаться ей. Да, это сложное решение, я всё ещё сомневаюсь. Страх переполняет меня. Ну, всё, пора идти на встречу с ней!
26 апреля, вечер
Моему счастью нет предела! Она тоже испытывает чувства ко мне!
…Прошел год, за ним ещё. И вот мы вместе уже 5 лет.
Мне пришло сообщение от моей девушки. Она хотела встретиться.
Глава 6
Расставание
Мария
Я не знала, как сказать Саше о том, что я вынуждена переехать за границу. У моей семьи проблемы, и меня отправляют к бабушке.
Александр
Она села напротив меня, как обычно, но её настроение не предвещало ничего хорошего. После долгого молчания она только сухо сказала: «Я уезжаю». Я видел, как её глаза наполнились слезами, но не успел ничего сказать, как она ушла. Ушла из кафе и из моей жизни.
Глава 7
История повторяется
Запись из дневника Александра
17 апреля
Прошло уже десять лет после нашего расставания. Я долго вспоминал о ней. Сегодня рано утром меня опять вызвали на работу. И опять я опаздываю из-за соседей с их вечным ремонтом. Вот я влетаю в метро и сбиваю девушку лет тридцати пяти. В моей памяти всплывают те дни, когда мы с Машей были вместе. Даже на секунду я подумал, что это она, но та девушка выглядела совершенно по-другому. Может быть, мы ещё встретимся…
Мария
Я вспомнила встречу с Александром, когда десять лет спустя на том же месте я столкнулась с мужчиной. До самой последней секунды я надеялась увидеть его, ведь у незнакомца был голос Саши! Но, увы… Передо мной стоял совершенно незнакомый человек.
Глава 8
Не все истории имеют счастливый конец
И вот, такие близкие, но такие далёкие, они не узнали друг друга. Даже случайная встреча на том же самом месте спустя десять лет не смогла воссоединить их. Они разошлись, так и не узнав друг друга, а ведь всё могло бы сложиться иначе.
Глава 1
Неожиданно вспыхнувшие чувства
Когда начинает цвести сирень, когда природа окончательно просыпается после долгого сна, когда звенят ручьи, когда апрельское солнце приятно согревает тело и душу, зарождается какое-то особенное чувство. Чувству этому, кажется, свойственно появляться только весной. Так что же оно из себя представляет? Почему именно сейчас, после стольких лет жизни, я впервые начал испытывать что-то незнакомое мне до сих пор?…
Александр закончил запись в своем ежедневнике. Ещё с прошлой недели его состояние стало изменяться (в лучшую ли, в худшую ли сторону?). Причиной этому стал один случай, никак не выходивший из его головы.
Глава 2
Первая встреча
Мария
Это произошло ранним утром 17 апреля. В метро было много людей, что не свойственно воскресенью. Я спешила на подработку. Вообще, я невезучий человек, так уж было заведено. Именно в тот момент, когда всё могло бы пойти не по плану, так и происходило.
До дверей состава оставалось меньше 5 метров. «Успеваю»,- подумала я. Но как же я ошиблась! Сразу после моих мыслей его двери закрылись и он ушёл, а я так и осталась стоять, представляя, как меня увольняют.
Но моё видение было прервано каким-то незнакомцем, задевшим меня своим зонтом (не понимаю, для чего ему зонт в такую хорошую погоду). После продолжительных извинений он спросил меня о времени прибытия того самого состава, который я упустила. Услышав, что уже поздно и он ушёл, молодой человек вдруг засмеялся.
«Он не в порядке!»- подумала я, однако моя догадка была неверна. Он объяснил, что сегодня его первый день в новой компании и он опаздывал, а теперь и вовсе не явится туда. Тогда уже и мне стало смешно от этой ситуации: не мне же одной быть такой невезучей!
Глава 3
Первая встреча
Александр
Меня сразу привлекла эта девушка. У неё были такие кудрявые волосы и такие живые глаза. О, эти глаза! Я прежде не видел таких да и не увижу больше…
Дело в том, что после того случая мы стали друзьями. Я был счастлив рядом с ней. Так прошел год. Я уже и забыл день, когда мы столкнулись в метро, но она всё помнила. В пять утра меня разбудил её звонок в дверь. Я испугался: «Что-то произошло? Всё в порядке? Что ты делаешь здесь в такое время?»
Эта девчонка всего-то хотела поздравить меня с годовщиной нашей дружбы.
И тогда моё сердце стало биться в бешеном, непривычном ритме. Это было 17 апреля…
Глава 4
Что же это за чувство?
Запись из дневника Александра
25 апреля, четверг
Я не понимаю, почему мои мысли только о ней? Почему никто другой не может так запасть в душу... А может, даже в сердце? Я очень долго думал над этим и понял, что она мне не друг, нет. Она нравится мне!
Я пытался скрыться от этих чувств, не хотел потерять друга…
Глава 5
Непростое решение
Запись из дневника Александра
26 апреля
Я решил признаться ей. Да, это сложное решение, я всё ещё сомневаюсь. Страх переполняет меня. Ну, всё, пора идти на встречу с ней!
26 апреля, вечер
Моему счастью нет предела! Она тоже испытывает чувства ко мне!
…Прошел год, за ним ещё. И вот мы вместе уже 5 лет.
Мне пришло сообщение от моей девушки. Она хотела встретиться.
Глава 6
Расставание
Мария
Я не знала, как сказать Саше о том, что я вынуждена переехать за границу. У моей семьи проблемы, и меня отправляют к бабушке.
Александр
Она села напротив меня, как обычно, но её настроение не предвещало ничего хорошего. После долгого молчания она только сухо сказала: «Я уезжаю». Я видел, как её глаза наполнились слезами, но не успел ничего сказать, как она ушла. Ушла из кафе и из моей жизни.
Глава 7
История повторяется
Запись из дневника Александра
17 апреля
Прошло уже десять лет после нашего расставания. Я долго вспоминал о ней. Сегодня рано утром меня опять вызвали на работу. И опять я опаздываю из-за соседей с их вечным ремонтом. Вот я влетаю в метро и сбиваю девушку лет тридцати пяти. В моей памяти всплывают те дни, когда мы с Машей были вместе. Даже на секунду я подумал, что это она, но та девушка выглядела совершенно по-другому. Может быть, мы ещё встретимся…
Мария
Я вспомнила встречу с Александром, когда десять лет спустя на том же месте я столкнулась с мужчиной. До самой последней секунды я надеялась увидеть его, ведь у незнакомца был голос Саши! Но, увы… Передо мной стоял совершенно незнакомый человек.
Глава 8
Не все истории имеют счастливый конец
И вот, такие близкие, но такие далёкие, они не узнали друг друга. Даже случайная встреча на том же самом месте спустя десять лет не смогла воссоединить их. Они разошлись, так и не узнав друг друга, а ведь всё могло бы сложиться иначе.
Бракий Дана. Жизнь не любит насмешек
Та же деревня, та же полянка, тот же сундук. Держа в руках ключи, стоят плачущие женщины.
10 лет назад.
Проснувшись рано утром от ослепляющих лучей летнего солнца, пробивающихся сквозь щель занавесок, пятнадцатилетний Петя, вскочив с кровати, стал спешно собираться, подготавливая все необходимое для сегодняшнего похода. Ведь они с ребятами так давно спланировали это путешествие: заранее проложили маршрут на карте, взяли нужные им инструменты, приготовили еду, запаслись водой и всем, что может понадобиться в походе. Петя, будучи самым старшим из тройки мальчишек, отличался особой ответственностью, именно поэтому уже спустя тридцать минут сборов был полностью готов к выходу, чего нельзя сказать о его младших товарищах.
В это же время в соседнем доме только-только открывал глаза четырнадцатилетний Федя. Что-то недовольно бурча себе под нос, мальчик застелил постель и отправился умываться. Многие считали его ленивым, но друзья всегда говорили, что он многого добьется, ведь знали его истинные способности. Федя собрался не менее быстро, хоть и встал куда позже Пети, и уже через десять минут вышел из дома.
Ну и последним встал тринадцатилетний Саша. Веселый мальчишка, радующий всех вокруг. В деревне многие называли его лучиком за жизнерадостность и способность поднять настроение абсолютно любому. Носясь по дому, словно вихрь, он собрал все необходимое, и, спотыкаясь, выскочил из дома.
Палящее летнее солнце обжигало лица ребят, проходящих по тропинке. Тихо журчащий ручеек манил детей, призывая напиться, освежиться в такую жару. Мальчики остановились на одной из полянок небольшого леса, решив немного отдохнуть. Петя в очередной раз сверился с маршрутом, а Федя с Сашей достали бутерброды, приготовленные мамами ребят.
- Куда мы идем?- спросил Саша.
-Эх, Сашка, Сашка, сколько раз тебе повторять, что, дойдя до реки, мы свернем на опушку леса и разобьем там свой лагерь, сделав это место нашей личной базой, на которой мы будем собираться втайне от всех.
- Кстати, бумагу и ручки взял, Федя?
- Конечно, взял, - сказал мальчик и полез в свой рюкзак.
- А ты, Петя, сделал сундук и замки к нему?
- Обижаете, еще вчера вечером закончил. Держите свои ключи, каждый из них я повесил на веревочку, чтобы удобней было носить. Всегда держите их при себе и не смейте терять. Помните, в этом сундуке будет письмо нам в будущее. Интересно, какими мы будем через 10 лет, - задумчиво проговорил Петя и мечтательно взглянул на небо.
Мальчики закончили свой привал, собрали вещи, прибрали мусор, оставленный ими в процессе отдыха, и отправились дальше. Солнце нещадно палило. Близился полдень, мальчишки как раз дошли до реки. Остановившись, они не сумели пройти мимо, решив искупаться. Переждав солнцепек под огромным дубом, ребята, наконец, дошли до своей цели: перед ними открылась небольшая полянка, окруженная со всех сторон редким леском, отбрасывающим на нее тень, которая защищала от летнего солнца.
Первым делом они принялись копать яму, в которую собирались поместить сундук с письмами. Достигнув необходимой глубины, мальчики принялись писать послания самим себе в будущее. Каждый сел отдельно друг от друга, прикрывая рукой содержимое. Ребята хитро переглядывались, периодически посмеиваясь над своими мыслями. Казалось, они не очень серьезно относились к тому, о чем писали. Улыбнувшись друг другу, ребята запечатали свои письма, взяли ключи и одновременно провернули их в трех замках. Поместив сундук в яму, они щедро присыпали ее землей.
- Как пометить это место, чтобы не забыть, где именно расположена яма? - поинтересовался Саша.
-Предлагаю разместить прямо над ней костер, так мы всегда будем помнить о ее местоположении.
Приняв такое решение, мальчики, счастливые, сели у разгорающегося костра и провели незабываемый вечер, который они запомнили на всю оставшуюся жизнь. К большому сожалению, это был их прощальный вечер: волею судьбы они вынуждены были расстаться на несколько лет. Понимая это, ребята договорились о встрече десять лет спустя на этом же самом месте, в ходе которой они и откопают свой сундук. Они разошлись лишь глубокой ночью, а утром разъехались, обещая увидеться как можно скорее, но удалось им это чуть меньше, чем через десять лет.
9,5 лет спустя.
Пете скоро исполнится двадцать пять лет. Он молодой и перспективный учитель географии в одной из лучших школ страны. Не забывая о детском увлечении, он также является руководителем туристического кружка. К большому сожалению, в этой идеальной картине есть один огромный изъян: Петя болен. Врачи не дают точных прогнозов, боясь испугать молодого человека, но он и сам давно все понял: он доживает последние месяцы своей жизни. Не рассказывая никому о своем недуге, он сохраняет позитив, наслаждаясь в полной мере последними моментами.
В один из дней Петя решил разобрать гардеробную. Уже заканчивая, он наткнулся на коробку, в которой хранились все важные вещи, связанные с его детством. Открыв ее, первое, что он увидел, - ключ-цепочка, тот самый ключ-цепочка, отпирающий сундук, закопанный на полянке в деревне. И тогда Петя понял, что в список дел, которые нужно обязательно успеть сделать, нужно включить встречу с ребятами. И он незамедлительно начал собираться в путь.
В одном из ресторанов собралась компания из шести человек: три молодых парня и три прекрасно выглядящие для своего возраста женщины. Петя, Федя и Саша привели с собой своих матерей. Все были крайне рады друг друга видеть, в особенности Петя, ведь он научился ценить каждую секунду своей жизни, наслаждаясь ею, будто в последний раз.
-Как же я рад вас видеть! - радостно повторял он, похлопывая друзей по спине.
- Полностью поддерживаю! - басил Федя.
- Не могу не согласиться с вами, мои дорогие друзья! - с улыбкой говорил Саша.
Они пустились в долгие разговоры о жизни, о прошедших годах, о детстве, о карьере и семье. Как оказалось, все они успели жениться, но детей еще ни у кого не было. Сашка, ставший профессиональным гонщиком, заявил, что все еще хранит ключ от сундука и что срок близится, осталось совсем немного. Федя, оправдав надежды друзей и став успешным бизнесменом, заявил, что с огромным удовольствием отправился бы в тур по местам своего детства, как только вернется из запланированной во Францию командировки.
Рассказав своим матерям о планах, о местоположении их базы и самого сундука, они приняли решение встретиться в деревне через три месяца, а дальше отправиться в поход, как десять лет назад, дойдя до базы и прочитав зарытые письма в будущее.
Их светлые планы были нарушены ужасным известием. Петя просто не проснулся утром: заснул, но не проснулся. Он умер. Умер за два дня до своего дня рождения, куда так хотел успеть Федя, который должен был вот-вот вернуться из Франции. Узнав об этом страшном событии, друзья были ужасно подавлены: одна частичка их души навсегда угасла. Это не значит, что теперь они поровну делят место в сердце друг друга, нет, это значит, что смерть Пети оставила в их душе невосполнимую нишу, пустоту, которую невозможно чем-то занять.
Федя сумел вылететь из Франции только спустя две недели из-за проблем, возникших на границе, но так и не долетел до дома. Стараясь найти самый быстрый способ возвращения домой, он предлагал любые деньги фирмам, занимающимся частными перевозками. Спустя неделю поиска он наконец нашел ту, что без проблем довезет его до дома, но произошло страшное: оба двигателя самолета отказали, а за штурвалом сидели стажеры, понятия не имеющие, как действовать в столь экстренных ситуациях. Федя разбился, не долетев до дома.
Боль матерей не передать словами, они держались лишь благодаря поддержке друг друга. Саша, потухший на глазах, лишившийся самого дорогого, по-настоящему повзрослевший в один миг, стал для них единственным сыном, сыном трех матерей.
Однажды, за неделю до той самой назначенной встречи, Саша сел в один из своих спорткаров, взяв с собой все три ключа, которые он носил на шее с момента гибели друзей, и на бешеной скорости помчался в ту самую деревню, желая наконец откопать тот сундук, прочитать, что он написал в том письме, ведь он знал, что там что-то важное, но никак не мог вспомнить, что именно.
Попав под сильный ливень, Саша не пожелал сбавить скорость. Слезы градом лились из его глаз, делая видимость еще хуже. В момент, когда Саша на бешеной скорости выехал на полосу встречного движения, он вспомнил, что было написано в том письме, но было уже слишком поздно…
10 лет спустя.
Прошло два месяца с момента смерти последнего из друзей. Трое молодых парней один за одним ушли из жизни, а ведь у них все еще было впереди. Никто из них не увидел рождения своих детей. И никогда уже не увидит...
Обезумевшие от горя матери ребят и их вдовы решили поехать в деревню и откопать сундук с письмами, о котором там много говорили ребята в последнюю свою встречу. Они хотели получить хоть какую-то весточку от самых дорогих людей.
И вот, наконец, женщины на месте. Отрыв сундук, они одновременно повернули три ключа. Внутри не было ничего, кроме трех клочков бумаги, что даже письмом назвать сложно. Ребята договаривались написать целые послания, в которых расскажут о своих целях и планах. Однако в руках женщин оказались лишь небольшие записки. Письмо Саши содержало всего три слова: «Машина, скорость, авария». Не более содержательным оказалось и послание Феди: «Деньги, самолет, взрыв». А письмо Пети состояло и вовсе из двух слов: «Смертельная болезнь». Женщины недоуменно переглядывались между собой, не понимая, как их сыновья, будучи довольно ответственными и серьезными ребятами, могли такое написать. Но факт оставался фактом: мальчишки, будто бравируя друг перед другом, даже не подозревая об этом, решили испытать судьбу. Они думали, что предсказания — это бред, абсурд, в который невозможно поверить. А значит через десять лет, выкопав сундук и прочитав письма, они просто посмеются над своей шуткой. Но жизнь не любит насмешек!!!
Та же деревня, та же полянка, тот же сундук. Держа в руках ключи, стоят плачущие женщины.
Та же деревня, та же полянка, тот же сундук. Держа в руках ключи, стоят плачущие женщины.
10 лет назад.
Проснувшись рано утром от ослепляющих лучей летнего солнца, пробивающихся сквозь щель занавесок, пятнадцатилетний Петя, вскочив с кровати, стал спешно собираться, подготавливая все необходимое для сегодняшнего похода. Ведь они с ребятами так давно спланировали это путешествие: заранее проложили маршрут на карте, взяли нужные им инструменты, приготовили еду, запаслись водой и всем, что может понадобиться в походе. Петя, будучи самым старшим из тройки мальчишек, отличался особой ответственностью, именно поэтому уже спустя тридцать минут сборов был полностью готов к выходу, чего нельзя сказать о его младших товарищах.
В это же время в соседнем доме только-только открывал глаза четырнадцатилетний Федя. Что-то недовольно бурча себе под нос, мальчик застелил постель и отправился умываться. Многие считали его ленивым, но друзья всегда говорили, что он многого добьется, ведь знали его истинные способности. Федя собрался не менее быстро, хоть и встал куда позже Пети, и уже через десять минут вышел из дома.
Ну и последним встал тринадцатилетний Саша. Веселый мальчишка, радующий всех вокруг. В деревне многие называли его лучиком за жизнерадостность и способность поднять настроение абсолютно любому. Носясь по дому, словно вихрь, он собрал все необходимое, и, спотыкаясь, выскочил из дома.
Палящее летнее солнце обжигало лица ребят, проходящих по тропинке. Тихо журчащий ручеек манил детей, призывая напиться, освежиться в такую жару. Мальчики остановились на одной из полянок небольшого леса, решив немного отдохнуть. Петя в очередной раз сверился с маршрутом, а Федя с Сашей достали бутерброды, приготовленные мамами ребят.
- Куда мы идем?- спросил Саша.
-Эх, Сашка, Сашка, сколько раз тебе повторять, что, дойдя до реки, мы свернем на опушку леса и разобьем там свой лагерь, сделав это место нашей личной базой, на которой мы будем собираться втайне от всех.
- Кстати, бумагу и ручки взял, Федя?
- Конечно, взял, - сказал мальчик и полез в свой рюкзак.
- А ты, Петя, сделал сундук и замки к нему?
- Обижаете, еще вчера вечером закончил. Держите свои ключи, каждый из них я повесил на веревочку, чтобы удобней было носить. Всегда держите их при себе и не смейте терять. Помните, в этом сундуке будет письмо нам в будущее. Интересно, какими мы будем через 10 лет, - задумчиво проговорил Петя и мечтательно взглянул на небо.
Мальчики закончили свой привал, собрали вещи, прибрали мусор, оставленный ими в процессе отдыха, и отправились дальше. Солнце нещадно палило. Близился полдень, мальчишки как раз дошли до реки. Остановившись, они не сумели пройти мимо, решив искупаться. Переждав солнцепек под огромным дубом, ребята, наконец, дошли до своей цели: перед ними открылась небольшая полянка, окруженная со всех сторон редким леском, отбрасывающим на нее тень, которая защищала от летнего солнца.
Первым делом они принялись копать яму, в которую собирались поместить сундук с письмами. Достигнув необходимой глубины, мальчики принялись писать послания самим себе в будущее. Каждый сел отдельно друг от друга, прикрывая рукой содержимое. Ребята хитро переглядывались, периодически посмеиваясь над своими мыслями. Казалось, они не очень серьезно относились к тому, о чем писали. Улыбнувшись друг другу, ребята запечатали свои письма, взяли ключи и одновременно провернули их в трех замках. Поместив сундук в яму, они щедро присыпали ее землей.
- Как пометить это место, чтобы не забыть, где именно расположена яма? - поинтересовался Саша.
-Предлагаю разместить прямо над ней костер, так мы всегда будем помнить о ее местоположении.
Приняв такое решение, мальчики, счастливые, сели у разгорающегося костра и провели незабываемый вечер, который они запомнили на всю оставшуюся жизнь. К большому сожалению, это был их прощальный вечер: волею судьбы они вынуждены были расстаться на несколько лет. Понимая это, ребята договорились о встрече десять лет спустя на этом же самом месте, в ходе которой они и откопают свой сундук. Они разошлись лишь глубокой ночью, а утром разъехались, обещая увидеться как можно скорее, но удалось им это чуть меньше, чем через десять лет.
9,5 лет спустя.
Пете скоро исполнится двадцать пять лет. Он молодой и перспективный учитель географии в одной из лучших школ страны. Не забывая о детском увлечении, он также является руководителем туристического кружка. К большому сожалению, в этой идеальной картине есть один огромный изъян: Петя болен. Врачи не дают точных прогнозов, боясь испугать молодого человека, но он и сам давно все понял: он доживает последние месяцы своей жизни. Не рассказывая никому о своем недуге, он сохраняет позитив, наслаждаясь в полной мере последними моментами.
В один из дней Петя решил разобрать гардеробную. Уже заканчивая, он наткнулся на коробку, в которой хранились все важные вещи, связанные с его детством. Открыв ее, первое, что он увидел, - ключ-цепочка, тот самый ключ-цепочка, отпирающий сундук, закопанный на полянке в деревне. И тогда Петя понял, что в список дел, которые нужно обязательно успеть сделать, нужно включить встречу с ребятами. И он незамедлительно начал собираться в путь.
В одном из ресторанов собралась компания из шести человек: три молодых парня и три прекрасно выглядящие для своего возраста женщины. Петя, Федя и Саша привели с собой своих матерей. Все были крайне рады друг друга видеть, в особенности Петя, ведь он научился ценить каждую секунду своей жизни, наслаждаясь ею, будто в последний раз.
-Как же я рад вас видеть! - радостно повторял он, похлопывая друзей по спине.
- Полностью поддерживаю! - басил Федя.
- Не могу не согласиться с вами, мои дорогие друзья! - с улыбкой говорил Саша.
Они пустились в долгие разговоры о жизни, о прошедших годах, о детстве, о карьере и семье. Как оказалось, все они успели жениться, но детей еще ни у кого не было. Сашка, ставший профессиональным гонщиком, заявил, что все еще хранит ключ от сундука и что срок близится, осталось совсем немного. Федя, оправдав надежды друзей и став успешным бизнесменом, заявил, что с огромным удовольствием отправился бы в тур по местам своего детства, как только вернется из запланированной во Францию командировки.
Рассказав своим матерям о планах, о местоположении их базы и самого сундука, они приняли решение встретиться в деревне через три месяца, а дальше отправиться в поход, как десять лет назад, дойдя до базы и прочитав зарытые письма в будущее.
Их светлые планы были нарушены ужасным известием. Петя просто не проснулся утром: заснул, но не проснулся. Он умер. Умер за два дня до своего дня рождения, куда так хотел успеть Федя, который должен был вот-вот вернуться из Франции. Узнав об этом страшном событии, друзья были ужасно подавлены: одна частичка их души навсегда угасла. Это не значит, что теперь они поровну делят место в сердце друг друга, нет, это значит, что смерть Пети оставила в их душе невосполнимую нишу, пустоту, которую невозможно чем-то занять.
Федя сумел вылететь из Франции только спустя две недели из-за проблем, возникших на границе, но так и не долетел до дома. Стараясь найти самый быстрый способ возвращения домой, он предлагал любые деньги фирмам, занимающимся частными перевозками. Спустя неделю поиска он наконец нашел ту, что без проблем довезет его до дома, но произошло страшное: оба двигателя самолета отказали, а за штурвалом сидели стажеры, понятия не имеющие, как действовать в столь экстренных ситуациях. Федя разбился, не долетев до дома.
Боль матерей не передать словами, они держались лишь благодаря поддержке друг друга. Саша, потухший на глазах, лишившийся самого дорогого, по-настоящему повзрослевший в один миг, стал для них единственным сыном, сыном трех матерей.
Однажды, за неделю до той самой назначенной встречи, Саша сел в один из своих спорткаров, взяв с собой все три ключа, которые он носил на шее с момента гибели друзей, и на бешеной скорости помчался в ту самую деревню, желая наконец откопать тот сундук, прочитать, что он написал в том письме, ведь он знал, что там что-то важное, но никак не мог вспомнить, что именно.
Попав под сильный ливень, Саша не пожелал сбавить скорость. Слезы градом лились из его глаз, делая видимость еще хуже. В момент, когда Саша на бешеной скорости выехал на полосу встречного движения, он вспомнил, что было написано в том письме, но было уже слишком поздно…
10 лет спустя.
Прошло два месяца с момента смерти последнего из друзей. Трое молодых парней один за одним ушли из жизни, а ведь у них все еще было впереди. Никто из них не увидел рождения своих детей. И никогда уже не увидит...
Обезумевшие от горя матери ребят и их вдовы решили поехать в деревню и откопать сундук с письмами, о котором там много говорили ребята в последнюю свою встречу. Они хотели получить хоть какую-то весточку от самых дорогих людей.
И вот, наконец, женщины на месте. Отрыв сундук, они одновременно повернули три ключа. Внутри не было ничего, кроме трех клочков бумаги, что даже письмом назвать сложно. Ребята договаривались написать целые послания, в которых расскажут о своих целях и планах. Однако в руках женщин оказались лишь небольшие записки. Письмо Саши содержало всего три слова: «Машина, скорость, авария». Не более содержательным оказалось и послание Феди: «Деньги, самолет, взрыв». А письмо Пети состояло и вовсе из двух слов: «Смертельная болезнь». Женщины недоуменно переглядывались между собой, не понимая, как их сыновья, будучи довольно ответственными и серьезными ребятами, могли такое написать. Но факт оставался фактом: мальчишки, будто бравируя друг перед другом, даже не подозревая об этом, решили испытать судьбу. Они думали, что предсказания — это бред, абсурд, в который невозможно поверить. А значит через десять лет, выкопав сундук и прочитав письма, они просто посмеются над своей шуткой. Но жизнь не любит насмешек!!!
Та же деревня, та же полянка, тот же сундук. Держа в руках ключи, стоят плачущие женщины.
Дебердеева Виктория. На том же месте через десять лет
Шквалистый ледяной ветер, пытавшийся сорвать шапку, пробирал до самых костей и не давал разомкнуть глаза. Холод сковывал каждое движение. Тяжело было переставлять ноги по обледеневшей набережной по пути на работу. Роман поёжился и натянул шарф как можно выше, на свой красный от холода нос.
Одним словом, стихия бушевала. Внезапно среди всей этой суматохи очередной порыв ветра донёс до Романа непонятный звук, настороживший его.
В черной пучине одна за другой вздымались индиговые волны, нахлестываясь друг на друга. С каждой минутой они разбивались о скалы всё с большей и большей силой. Казалось, если бы даже какому-нибудь многотонному сухогрузу не повезло оказаться там в эту минуту, то пучина переломила, скомкала и поглотила бы его, даже не заметив. А ведь десять лет назад море было совершенно другим...
Еще ребенком Егор, живший на побережье, любил теплыми летними деньками прогуливаться вдоль моря по раскалённой на солнце гальке со своим другом Ромой. Ребята, вооружившись ржавыми лопатками, шли в местную рощицу и принимались откапывать червяков прямиком из-под земли, которая с трудом, но поддавалась их инструментам. Затем мальчишки складывали бедолаг в банку из-под консервов, брали удочки из старого обветшалого сарая, принадлежавшего Ромкиному дедушке, и направлялись к морскому берегу.
–Егор, слушай, Егор, а сейчас клюёт?
–Нет еще, ну что ж ты нетерпеливый такой, только пришли ведь.
–А когда клюёт?
–Когда время настанет, тогда и клюет. Сиди тихо, а то всю рыбу распугаешь!
Слегка насупившись и сложив руки на груди, недовольный Ромка отвернулся от своего друга и устремил взгляд на водную гладь. Каждое облачко, словно в зеркале, отражалось от искрящегося сине-голубого полотна. Порой казалось, что небо и море где-то далеко, у самого горизонта сливаются в единое целое, и ты уже не видишь различий между атласно-изумрудными, еле волнуемыми теплым ветром волнами, от лазурной бирюзы небосвода.
Друзья постоянно проводили время вместе на летних каникулах, ведь именно в эту беззаботную пору Рома приезжал к дедушке на целых три месяца. Одиннадцатилетний мальчик жил по соседству с Егором, который был старше на три года, но несмотря на это они отлично ладили и всегда находили общий язык. Как младший брат, Ромка постоянно докучал своему взрослому товарищу вопросами: "А как это?", "А это почему?". Казалось, что не было ни одной темы, которая не интересовала бы любознательного мальца. А Егор, в свою очередь, на все эти допросы реагировал спокойно, всегда приглядывал за Ромкой, как старший заботливый брат.
В их небольшом приморском городке все друг друга знали. Прогуливаясь по узким улочкам, то и дело встречаешь знакомые лица. Домики были маленькие, разноцветные, словно мозаика. Город жил за счет вылова рыбы и изготовления, обслуживания судов. Одна половина жителей подавалась в местную рыболовецкую артель, а другая шла работать на верфь. Летом погода радовала солнцем и тёплым, но освежающим ветерком, ласкающим зеленые листья фруктовых деревьев, с которых ребятня то и дело срывала что-нибудь съестное. Но зимой всё было иначе. Порт закрывали из-за частных штормов, и корабли подолгу не могли выходить в море.
Свесив ноги с высокой деревянной пристани, Ромка старательно пытался хотя бы один пальчик правой ноги окунуть в прохладную морскую воду, но ощущал он на своей коже лишь солёные брызги. Егор же, в свою очередь, внимательно наблюдал за поплавком, покачивавшимся на бесконечных волнах. Всю их идиллию нарушали лишь крики ширококрылых, белоснежных чаек, парящих над бескрайним голубым пластом, и гам многочисленных туристов, наслаждающихся заслуженным отдыхом на пляже, расположенном в нескольких десятках метров от пристани. Егор не только внимательно всматривался в глубокую синеву, но и прислушивался к каждому шороху, мальчик был очень наблюдателен, что и помогло ему услышать среди всей пляжной суматохи кое-что важное. Радостная девочка, желая повеселиться со своим маленьким другом, длинной таксой с лоснящейся гладкой шерстью шоколадного цвета, переливающейся на солнце, виляющей своим коротким хвостиком и огромными, добрыми глазами, взяла большой надувной матрас и спустила его на воду. Словно два отважных мореплавателя, собака со своей хозяйкой качались на волнах, которые прибивали их судно к берегу. Спустя несколько минут девочке пришлось не на долго "сойти с борта", так как ее позвали родители. Такса по кличке Тузя сначала было хотела пуститься вслед за хозяйкой, но понимала, что плыть, в случае чего, она не сможет, из-за своих коротких лапок, а море казалось ей совсем чужим, неизвестным и бездонным.
Время шло, а матрас отплывал от берега всё дальше. Когда хозяйка спохватилась, уже было поздно, ее "судно" уплыло за буйки, а единственный член экипажа с тоской и надеждой смотрел в сторону берега. Девочка заплакала навзрыд, да так, что внимание всего пляжа было устремлено именно на нее. Тут Егор и заподозрил что-то неладное. Оба мальчика оставили свои удочки на пристани и побежали в сторону расстроенной девочки.
–Собака-а, моя Тузя-а! – раздавалось с каждым шагом в ее сторону всё громче и громче.
Друзья сразу поняли в чем дело. Егор хотел вопросительно посмотреть на Ромку, но, когда обернулся в его сторону, мальчик уже стремительно плыл в сторону матраса.
Времени прошло уже немало, поэтому собака, теряя надежду, сложила лапки и грелась на солнце, но услышав всплески воды где-то неподалеку, мигом навострила ушли и завиляла хвостом. Сильный и крепкий Егор подплыл к матрасу сзади, толкая его в сторону пляжа, а Ромка расположился сбоку и указывал другу путь к берегу.
В течение нескольких минут мальчишки уже "пришвартовали судно" к берегу, а его маленькая капитанша, расплываясь в улыбке до ушей, вытирала слезы со своих красных, обгоревших под палящим солнцем щечек.
Всё бы ничего, но это лето стало последним летом, которые ребята провели вместе. Дедушка Ромки умер, дом продали, приезжать больше было некуда.
Жизнь распорядилась так, что у каждого из мальчиков теперь была своя дорога. Егор остался жить в родном городке, работая смотрителем маяка, а Рома получил образование и стал инженером кораблестроения.
Сидя долгими вечерами в своей комнатушке в маяке, Егора часто трогали тёплые воспоминания из детства, воскресающие в его памяти при взгляде на старенькую пристань из ветхих, поросших водорослями дощечек, на лазурную воду, так и манящую к себе, на длинную полосу берега, стремящуюся далеко-далеко, и скрывающуюся за очередным мысом. С такой высоты весь город был перед ним, как на ладони, а в этом городе каждое место имело для него своё особое значение.
Любознательный Ромка же, несмотря на свой юный возраст, уже много чего знал и умел, старался над каждым своим чертежом, с ответственностью подходил к устранению любой проблемы и решению каждой задачи. Его мечтой всегда было связать свою жизнь с чем-то близким к морю. Рассматривая статичные изображения судов на страницах учебников, его воображение само рисовало картинки из детских воспоминаний, где они с Егором вечерами разглядывали корабли.
Во время обучения юношу отправили на практику на ту самую верфь, которая располагалась в родном городе его дедушки. Хоть он и провел там свое детство, но ни разу еще ему не доводилось видеть, какой суровой может быть зима в тех краях. Выйдя на работу в первый день, он оделся потеплее и пошел вдоль по набережной, где до него и донесся тот самый звук. Пытаясь разобрать в нем хоть что-то среди всего того хаоса, создаваемого погодой, Рома принял однозначное решение – направиться туда самому и всё разузнать. Ему пришлось пойти против ветра, в сторону бушующего моря, которое явно не было бы радо гостям в ту пору. После того, как юноша подходит уже к самому берегу, в этом звуке он начинает различать еле внятную человеческую речь, перебиваемую резкими ударами громадных волн о камни. Пока Рома вглядывался в происходящее вокруг, с трудом открывая глаза из-за шквалистого ветра, жгучего холода и многочисленных мелких брызг, вонзающихся в него, словно маленькие иголочки, он замечает высокого молодого человека крепкого телосложения, бегущего от маяка к небольшой деревянной лодке с вёслами. Он закинул в нее спасательный круг с длинной, привязанной к нему веревкой, который нес от самого маяка, и начал с трудом и спешкой тащить эту посудину к ледяной воде. Рома, не теряя ни минуты, принялся помогать незнакомцу, по пути узнав, что сейчас где-то в этой темной пучине перевернулась лодка рыбака, вышедшего в море несмотря на запрет. Сейчас точно можно сказать, что не человек властен над стихией, а стихия над человеком, в такие минуты требуется исключительная решимость и отвага.
Мужчины по пояс искупались в море, пока спускали лодку на воду, теперь ветер казался им еще холоднее и ужаснее, словно пронзал их насквозь, но оба они стремились к своей цели, ели удерживаясь на плаву. Кажется, что уже прогнувшиеся после сопротивлений с волнами упругие весла вот-вот сломаются, сломаются со звонким треском, ведь держатся уже из последних сил, как туго натянутая гитарная струна. Еле сохраняет равновесие и лодка. Море накреняет ее в разные стороны, но лишь под руководством таких умелых рулевых она остается на плаву.
Подобравшись к цели своего плавания, молодые люди видят человека, который превозмогая себя пытается забраться на перевернутую лодку. Весь обмерзший, теряя сознание, он вцепился в нее окоченевшими руками, но, когда увидел своих спасителей, в нем открылось второе дыхание. Двое мужчин сначала кинули ему спасательный круг, затем вместе принялись тянуть канат, за который тяжело было ухватиться красными, опухшими от мороза и ветра руками. После того, как они погрузили рыбака в свою лодку, дело было уже за малым, оставалось без происшествий доплыть до берега. Хоть обратная дорога и была ничуть не легче, но их сердца разжигало то, что они смогли.
Немного отдышавшись после тяжелого плавания, Рома посмотрел на юношу, пришедшего от маяка, и улыбнулся. Их глаза встретились, и сразу обоим всё стало понятно. С их последней встречи на том же месте прошло 10 лет.
Шквалистый ледяной ветер, пытавшийся сорвать шапку, пробирал до самых костей и не давал разомкнуть глаза. Холод сковывал каждое движение. Тяжело было переставлять ноги по обледеневшей набережной по пути на работу. Роман поёжился и натянул шарф как можно выше, на свой красный от холода нос.
Одним словом, стихия бушевала. Внезапно среди всей этой суматохи очередной порыв ветра донёс до Романа непонятный звук, настороживший его.
В черной пучине одна за другой вздымались индиговые волны, нахлестываясь друг на друга. С каждой минутой они разбивались о скалы всё с большей и большей силой. Казалось, если бы даже какому-нибудь многотонному сухогрузу не повезло оказаться там в эту минуту, то пучина переломила, скомкала и поглотила бы его, даже не заметив. А ведь десять лет назад море было совершенно другим...
Еще ребенком Егор, живший на побережье, любил теплыми летними деньками прогуливаться вдоль моря по раскалённой на солнце гальке со своим другом Ромой. Ребята, вооружившись ржавыми лопатками, шли в местную рощицу и принимались откапывать червяков прямиком из-под земли, которая с трудом, но поддавалась их инструментам. Затем мальчишки складывали бедолаг в банку из-под консервов, брали удочки из старого обветшалого сарая, принадлежавшего Ромкиному дедушке, и направлялись к морскому берегу.
–Егор, слушай, Егор, а сейчас клюёт?
–Нет еще, ну что ж ты нетерпеливый такой, только пришли ведь.
–А когда клюёт?
–Когда время настанет, тогда и клюет. Сиди тихо, а то всю рыбу распугаешь!
Слегка насупившись и сложив руки на груди, недовольный Ромка отвернулся от своего друга и устремил взгляд на водную гладь. Каждое облачко, словно в зеркале, отражалось от искрящегося сине-голубого полотна. Порой казалось, что небо и море где-то далеко, у самого горизонта сливаются в единое целое, и ты уже не видишь различий между атласно-изумрудными, еле волнуемыми теплым ветром волнами, от лазурной бирюзы небосвода.
Друзья постоянно проводили время вместе на летних каникулах, ведь именно в эту беззаботную пору Рома приезжал к дедушке на целых три месяца. Одиннадцатилетний мальчик жил по соседству с Егором, который был старше на три года, но несмотря на это они отлично ладили и всегда находили общий язык. Как младший брат, Ромка постоянно докучал своему взрослому товарищу вопросами: "А как это?", "А это почему?". Казалось, что не было ни одной темы, которая не интересовала бы любознательного мальца. А Егор, в свою очередь, на все эти допросы реагировал спокойно, всегда приглядывал за Ромкой, как старший заботливый брат.
В их небольшом приморском городке все друг друга знали. Прогуливаясь по узким улочкам, то и дело встречаешь знакомые лица. Домики были маленькие, разноцветные, словно мозаика. Город жил за счет вылова рыбы и изготовления, обслуживания судов. Одна половина жителей подавалась в местную рыболовецкую артель, а другая шла работать на верфь. Летом погода радовала солнцем и тёплым, но освежающим ветерком, ласкающим зеленые листья фруктовых деревьев, с которых ребятня то и дело срывала что-нибудь съестное. Но зимой всё было иначе. Порт закрывали из-за частных штормов, и корабли подолгу не могли выходить в море.
Свесив ноги с высокой деревянной пристани, Ромка старательно пытался хотя бы один пальчик правой ноги окунуть в прохладную морскую воду, но ощущал он на своей коже лишь солёные брызги. Егор же, в свою очередь, внимательно наблюдал за поплавком, покачивавшимся на бесконечных волнах. Всю их идиллию нарушали лишь крики ширококрылых, белоснежных чаек, парящих над бескрайним голубым пластом, и гам многочисленных туристов, наслаждающихся заслуженным отдыхом на пляже, расположенном в нескольких десятках метров от пристани. Егор не только внимательно всматривался в глубокую синеву, но и прислушивался к каждому шороху, мальчик был очень наблюдателен, что и помогло ему услышать среди всей пляжной суматохи кое-что важное. Радостная девочка, желая повеселиться со своим маленьким другом, длинной таксой с лоснящейся гладкой шерстью шоколадного цвета, переливающейся на солнце, виляющей своим коротким хвостиком и огромными, добрыми глазами, взяла большой надувной матрас и спустила его на воду. Словно два отважных мореплавателя, собака со своей хозяйкой качались на волнах, которые прибивали их судно к берегу. Спустя несколько минут девочке пришлось не на долго "сойти с борта", так как ее позвали родители. Такса по кличке Тузя сначала было хотела пуститься вслед за хозяйкой, но понимала, что плыть, в случае чего, она не сможет, из-за своих коротких лапок, а море казалось ей совсем чужим, неизвестным и бездонным.
Время шло, а матрас отплывал от берега всё дальше. Когда хозяйка спохватилась, уже было поздно, ее "судно" уплыло за буйки, а единственный член экипажа с тоской и надеждой смотрел в сторону берега. Девочка заплакала навзрыд, да так, что внимание всего пляжа было устремлено именно на нее. Тут Егор и заподозрил что-то неладное. Оба мальчика оставили свои удочки на пристани и побежали в сторону расстроенной девочки.
–Собака-а, моя Тузя-а! – раздавалось с каждым шагом в ее сторону всё громче и громче.
Друзья сразу поняли в чем дело. Егор хотел вопросительно посмотреть на Ромку, но, когда обернулся в его сторону, мальчик уже стремительно плыл в сторону матраса.
Времени прошло уже немало, поэтому собака, теряя надежду, сложила лапки и грелась на солнце, но услышав всплески воды где-то неподалеку, мигом навострила ушли и завиляла хвостом. Сильный и крепкий Егор подплыл к матрасу сзади, толкая его в сторону пляжа, а Ромка расположился сбоку и указывал другу путь к берегу.
В течение нескольких минут мальчишки уже "пришвартовали судно" к берегу, а его маленькая капитанша, расплываясь в улыбке до ушей, вытирала слезы со своих красных, обгоревших под палящим солнцем щечек.
Всё бы ничего, но это лето стало последним летом, которые ребята провели вместе. Дедушка Ромки умер, дом продали, приезжать больше было некуда.
Жизнь распорядилась так, что у каждого из мальчиков теперь была своя дорога. Егор остался жить в родном городке, работая смотрителем маяка, а Рома получил образование и стал инженером кораблестроения.
Сидя долгими вечерами в своей комнатушке в маяке, Егора часто трогали тёплые воспоминания из детства, воскресающие в его памяти при взгляде на старенькую пристань из ветхих, поросших водорослями дощечек, на лазурную воду, так и манящую к себе, на длинную полосу берега, стремящуюся далеко-далеко, и скрывающуюся за очередным мысом. С такой высоты весь город был перед ним, как на ладони, а в этом городе каждое место имело для него своё особое значение.
Любознательный Ромка же, несмотря на свой юный возраст, уже много чего знал и умел, старался над каждым своим чертежом, с ответственностью подходил к устранению любой проблемы и решению каждой задачи. Его мечтой всегда было связать свою жизнь с чем-то близким к морю. Рассматривая статичные изображения судов на страницах учебников, его воображение само рисовало картинки из детских воспоминаний, где они с Егором вечерами разглядывали корабли.
Во время обучения юношу отправили на практику на ту самую верфь, которая располагалась в родном городе его дедушки. Хоть он и провел там свое детство, но ни разу еще ему не доводилось видеть, какой суровой может быть зима в тех краях. Выйдя на работу в первый день, он оделся потеплее и пошел вдоль по набережной, где до него и донесся тот самый звук. Пытаясь разобрать в нем хоть что-то среди всего того хаоса, создаваемого погодой, Рома принял однозначное решение – направиться туда самому и всё разузнать. Ему пришлось пойти против ветра, в сторону бушующего моря, которое явно не было бы радо гостям в ту пору. После того, как юноша подходит уже к самому берегу, в этом звуке он начинает различать еле внятную человеческую речь, перебиваемую резкими ударами громадных волн о камни. Пока Рома вглядывался в происходящее вокруг, с трудом открывая глаза из-за шквалистого ветра, жгучего холода и многочисленных мелких брызг, вонзающихся в него, словно маленькие иголочки, он замечает высокого молодого человека крепкого телосложения, бегущего от маяка к небольшой деревянной лодке с вёслами. Он закинул в нее спасательный круг с длинной, привязанной к нему веревкой, который нес от самого маяка, и начал с трудом и спешкой тащить эту посудину к ледяной воде. Рома, не теряя ни минуты, принялся помогать незнакомцу, по пути узнав, что сейчас где-то в этой темной пучине перевернулась лодка рыбака, вышедшего в море несмотря на запрет. Сейчас точно можно сказать, что не человек властен над стихией, а стихия над человеком, в такие минуты требуется исключительная решимость и отвага.
Мужчины по пояс искупались в море, пока спускали лодку на воду, теперь ветер казался им еще холоднее и ужаснее, словно пронзал их насквозь, но оба они стремились к своей цели, ели удерживаясь на плаву. Кажется, что уже прогнувшиеся после сопротивлений с волнами упругие весла вот-вот сломаются, сломаются со звонким треском, ведь держатся уже из последних сил, как туго натянутая гитарная струна. Еле сохраняет равновесие и лодка. Море накреняет ее в разные стороны, но лишь под руководством таких умелых рулевых она остается на плаву.
Подобравшись к цели своего плавания, молодые люди видят человека, который превозмогая себя пытается забраться на перевернутую лодку. Весь обмерзший, теряя сознание, он вцепился в нее окоченевшими руками, но, когда увидел своих спасителей, в нем открылось второе дыхание. Двое мужчин сначала кинули ему спасательный круг, затем вместе принялись тянуть канат, за который тяжело было ухватиться красными, опухшими от мороза и ветра руками. После того, как они погрузили рыбака в свою лодку, дело было уже за малым, оставалось без происшествий доплыть до берега. Хоть обратная дорога и была ничуть не легче, но их сердца разжигало то, что они смогли.
Немного отдышавшись после тяжелого плавания, Рома посмотрел на юношу, пришедшего от маяка, и улыбнулся. Их глаза встретились, и сразу обоим всё стало понятно. С их последней встречи на том же месте прошло 10 лет.
Дубровина Богдана. Сын
Деревянные стены церкви озаряло солнце. Золотой купол мерцал в лучах осени, отражая небо и летящую в нем стаю диких гусей. Служба уже подошла к концу, и из старых дверей один за другим выходили люди. Они еще некоторое время постояли, переговариваясь друг с другом. Наконец, последняя старушка, перекрестившись перед церковью, скрылась за поворотом. Шестилетний Ваня подошел к подсвечнику, чтобы убрать огарки свечей. Перед ним висел лик Богородицы.
Солнечный луч, пробившийся через окно, осветил икону. На мальчика смотрели глаза Царицы Небесной, такие спокойные и печальные. Он много раз смотрел на этот лик, не в силах отвести глаза, пока его отец – священник, не окликал его: «Ваня». Мальчик, слегка встряхивал светлой головкой, поворачивался к родителю и тихо отвечал: «Иду». Вот и в этот раз, он унесся мыслями далеко-далеко, назад его вернуло легкое прикосновение отца:
– Сынок, тебе уже пора, мама дома ждет. Помоги и ей.
На улице было прохладно, ветер заставлял идти быстрее. По пути встречались сельчане, идущие от колодца. Он приветливо здоровался, они с улыбкой отвечали ему в ответ. Ванюшу любили, он был не по годам взрослым и смышленым пареньком. Мало играл со сверстниками, не носился с ними по улице, предпочитая помогать отцу или маме.
Дом стоял недалеко от церкви. Огромный двор был огражден плетнем, в конуре недалеко от крыльца лежал старый пес по кличке Буран, который завилял хвостом при виде мальчика. Ванюша вихрем залетел в дом, оказался в маленькой комнатке, в углу которой возилась Мария.
– Мама! – мальчик подбежал к ней, прижался всем своим маленьким телом.
Она чуть пошатнулась, но улыбнулась, положила руку ему на голову, трепля взъерошенные волосы.
– Ванечка, я уж заждалась тебя. Думала, с отцом придешь уже к обеду.
– Тебе чем-нибудь помочь? – спросил сын, окидывая взглядом мокрый пол вокруг ведра.
– Нет, сынок, я сама справлюсь. Мария, слегка прихрамывая, подняла ведро и вышла во двор.
Ваня уселся на лавку у окна, подперев подбородок рукой. За плетнем виднелось желтое поле, за ним разноцветный лес. Небо, подернутое легкой дымкой, уже не было таким пронзительно синим и высоким, как летом. И солнце, совсем уже не греющее своими лучами, светило как-то иначе. Осень буйствовала не только красками, все чаще шли дожди, еще не холодные, но уже настойчивые. Ветер обносил листву с деревьев.
Раньше осень радовала паренька, она казалась ему предвестником скорых зимних забав с соседскими ребятишками, но сейчас почему-то, кроме уныния и печали, ничего не приносила. Своим детским умишком Ванька понимал: с мамой что-то не так. Он видел, как она присаживалась, чтобы передохнуть, думая, что он не видит этого. В ответ на его вопросы она только устало и как-то печально улыбалась, гладила его по голове и отправляла играть во двор.
Ваня вздохнул, спустился с лавки и побежал к двери, вышел во двор, окликнул мать, но двор был пуст. Он увидел ее, сидящую за домом на скамье. У ее ног было рассыпано зерно, которое клевали куры.
– Что случилось? – Ваня подбежал к матери, схватил за руку и начал легонько трясти. Его маленькое сердечко колотилось в груди, словно испуганная птичка в клетке. Тревога возрастала с каждой секундой.
– Мама! – мальчик тряс ее за плечи, нежно гладил щеки. Мария открыла глаза, мотнула головой, пытаясь прийти в себя.
– Все хорошо, милый, просто присела отдохнуть и, видать, уснула чуток. Сейчас встану, – голос ее был слабым.
– Мамочка, давай я тебе помогу? – Ваня присел на одно колено и стал собирать в таз зерно.
– Не надо, милый, я сама. Посижу только немножко и встану. Хотя, нет, помоги мне зайти в дом, прилягу я…
Мальчик положил мамину руку себе на плечо, Мария, тяжело опираясь на хрупкое тело сына, аккуратно пошла к дому.
Зима пришла ночью. Ванька проснулся от звенящей тишины, в избе было светло. Ванька выглянул в окно. Снега было много, и с неба сыпало еще. «Надо утром помочь отцу расчистить тропинку до калитки», - засыпая, подумал мальчик.
А утром он проснулся от ароматного запаха. Мать возилась у печки.
«Проснулся? Давай, вставай, завтракай и беги играть, ребята заждались!»
Снег искрился на солнце, хрустел под ногами, слепил глаза. Деревенские ребята, как ошалелые, как будто никогда прежде не видели снега, носились с криками и воплями. Устраивали снежные бои, строили крепости, а потом, поделившись на две группы, с веселым гиканьем и свистом неслись друг на друга. Взрослые улыбались и радовались их забавам, словно дети.
Ванька выскочил на улицу. Да какая красотища! Синее небо, еще более синее на фоне белого снега, уносило вдаль, за поля и леса! Ванька почувствовал такую легкость, что хотелось взлететь и орать от радости. Не обращая внимания на улюлюканья пацанов, он побежал в церковь.
Здесь был свой мир, неотделимый от жизни деревни: венчались, крестили, отпевали, проводили службы. Ваня любил слушать отца, любил негромкое бормотание прихожан, колокольный звон, иконы на стенах. Они словно растворялись, поднимая его высоко-высоко, к самым сводам, даря легкость и покой. Это умиротворяло, дарило чувство защищенности, и вера его крепла.
В церкви он часто думал о маме. Ей стало хуже. К ее недугу прибавилась простуда: мама полоскала белье в проруби, заболела и слегла.
Как только вся работа была сделана, Ваня мчался домой по хрустящему снегу мимо домов и дворов, лай собак сопровождал его. Добежав до двора, мальчик заходил в дом, видел лежащую на кровати больную мать и сразу подходил к ней. Он садился на колени, вытягивая шею вперед, и Мария видела светлую головку сына.
– Мам, ты как?
– Мне уже лучше, сынок – кашель не давал договорить.
Ваня сел у окна. По небу плыли облака, солнце освещало их. Синева дарила тепло, скоро весна, и мама, думал Ваня, поправится.
Ночью Ванька не спал. Он боялся за маму: кашель клокотал и лаял в ее груди, забирая последние силы. С отцом они поили ее теплой водой, сторожа стук ее сердца и оберегая дыхание.
Темно-синие окна пугали малыша, ему казалось, что сама тьма заглядывает в дом. Каждый скрип, стук, свист заставляли его вздрагивать. Тени от света лампадки превращались в страшных чудовищ, которые ползли к окну и растворялись в ночной тьме. Тревога пронизывала тело Вани, и только мерное дыхание мамы успокаивало маленькое сердечко. Ваня засыпал тревожным сном.
Зима казалась вечной.
Наступила весна. Мария совсем не вставала. Ее радовали только пение птиц и Ваня, выросший за эти полгода. Все его дни проходили в заботах о маме, лишь иногда, выйдя во двор отдохнуть, Ваня садился на лавку и смотрел на небо, прикрывая ладонью глаза. Ласточки носились под облаками. Солнце все щедрее дарило тепло, от этого становилось радостнее, и крепла уверенность, что мама скоро выздоровеет. Они будут сидеть на крыльце, греться под теплыми лучами солнца, вглядываясь в синеву высокого неба.
У калитки показался отец.
– Пойдем, сынок, пройдемся.
Они шли по узенькой тропинке в лес. Толстый шмель прогудел над самым ухом Вани и сел к нему на плечо. Мальчик вздрогнул.
– Не бойся его, что он тебе сделает? – отец похлопал сына по плечу.
– Он же ужалить может, – Ванюша поднял руку, чтобы смахнуть шмеля.
– Если не обидишь, то не ужалит, – священник дотронулся до плеча сына и аккуратно снял полосатый комочек.
– Нельзя их обижать, они же живые. Мы с ними под одним небом живем.
Шмель, поднятый вверх, оторвался от пальца и улетел.
Они вошли лес. Кроны деревьев рассеивали солнечные лучи. Вдалеке трудился дятел, отбивая звонкую дробь, ветки слегка покачивались под птицами, которые перелетали с одного места на другое. Совсем рядом раздалось «ку-ку», и Ваня, задрав голову, увидел на ветке серую птичку, которая, казалось, смотрела на него. Она дернулась и полетела вниз. Ваня испугался и опять послышался спокойный голос отца:
– Боишься? Она тебе плохо не сделает, посмотрит поближе и улетит себе дальше.
Священник глянул назад, где виднелась деревня.
– Знаешь, Ванюша, нам уже домой пора – солнце садится.
Ваня, вдохнув полной грудью воздух, побежал обратно по тропинке, которая вела к зеленому полю. Мальчик бежал, раскинув руки в стороны, воображая себя птицей, чью светлую голову озаряло заходившее солнце. Трава щекотала его ножки, ветер шелестел в ней, волнами гоня вперед, а Ванюша все бежал, преисполненный счастьем и радостью, надеждой и верой. И небо словно давало ему силы и уберегало от падения.
На деревню опустилась ночь. Месяц затянуло тучами и вскоре на нагретую землю упали первые капли дождя. В одной избе горел свет. Внутри у кровати сидели две тени: одна большая, другая поменьше. Одна из них встала, двинулась к двери.
– Сиди с матерью, Ваня, я за лекарем.
Священник вышел из избы.
Ванюша остался один. Тоска накрыла его, а вслед за ней и тревога. Мальчик понял: мама умирает, она лежала в бреду, тело ее горело.
– Мамочка, мамочка! – лепетал мальчик, прижимая горячую ладонь к своей щеке, целовал ее, сжимал. Лицо его было мокрым от слез, он захлебывался ими, даже не пытаясь их смахнуть.
Избу осветило яркой вспышкой. Ваня замер, сжался в комочек, когда гром обрушился на землю. Казалось, дом сейчас обрушится. Небо как взбесилось: полыхали молнии, гремел гром, дождь бил в окна, как бы прося впустить его в дом. Ване было страшно, он поднял глазенки к потолку:
– Мамочка, не уходи, не уходи…
Мария успокоилась.
Ваня залился плачем.
Наступило утро. Ваня сидел у окна. После ночной грозы солнце и синее небо, словно умытые, щедро поливали светом землю. Как будто не было ненастья, как будто не умерла мама под яростные порывы ветра и ливень.
Бегут ручьи, звенят колокола,
И птицы стайками летят во все концы земли,
Снова весна, снова май!
Деревянные стены церкви озаряло солнце. Золотой купол мерцал в лучах осени, отражая небо и летящую в нем стаю диких гусей. Служба уже подошла к концу, и из старых дверей один за другим выходили люди. Они еще некоторое время постояли, переговариваясь друг с другом. Наконец, последняя старушка, перекрестившись перед церковью, скрылась за поворотом. Шестилетний Ваня подошел к подсвечнику, чтобы убрать огарки свечей. Перед ним висел лик Богородицы.
Солнечный луч, пробившийся через окно, осветил икону. На мальчика смотрели глаза Царицы Небесной, такие спокойные и печальные. Он много раз смотрел на этот лик, не в силах отвести глаза, пока его отец – священник, не окликал его: «Ваня». Мальчик, слегка встряхивал светлой головкой, поворачивался к родителю и тихо отвечал: «Иду». Вот и в этот раз, он унесся мыслями далеко-далеко, назад его вернуло легкое прикосновение отца:
– Сынок, тебе уже пора, мама дома ждет. Помоги и ей.
На улице было прохладно, ветер заставлял идти быстрее. По пути встречались сельчане, идущие от колодца. Он приветливо здоровался, они с улыбкой отвечали ему в ответ. Ванюшу любили, он был не по годам взрослым и смышленым пареньком. Мало играл со сверстниками, не носился с ними по улице, предпочитая помогать отцу или маме.
Дом стоял недалеко от церкви. Огромный двор был огражден плетнем, в конуре недалеко от крыльца лежал старый пес по кличке Буран, который завилял хвостом при виде мальчика. Ванюша вихрем залетел в дом, оказался в маленькой комнатке, в углу которой возилась Мария.
– Мама! – мальчик подбежал к ней, прижался всем своим маленьким телом.
Она чуть пошатнулась, но улыбнулась, положила руку ему на голову, трепля взъерошенные волосы.
– Ванечка, я уж заждалась тебя. Думала, с отцом придешь уже к обеду.
– Тебе чем-нибудь помочь? – спросил сын, окидывая взглядом мокрый пол вокруг ведра.
– Нет, сынок, я сама справлюсь. Мария, слегка прихрамывая, подняла ведро и вышла во двор.
Ваня уселся на лавку у окна, подперев подбородок рукой. За плетнем виднелось желтое поле, за ним разноцветный лес. Небо, подернутое легкой дымкой, уже не было таким пронзительно синим и высоким, как летом. И солнце, совсем уже не греющее своими лучами, светило как-то иначе. Осень буйствовала не только красками, все чаще шли дожди, еще не холодные, но уже настойчивые. Ветер обносил листву с деревьев.
Раньше осень радовала паренька, она казалась ему предвестником скорых зимних забав с соседскими ребятишками, но сейчас почему-то, кроме уныния и печали, ничего не приносила. Своим детским умишком Ванька понимал: с мамой что-то не так. Он видел, как она присаживалась, чтобы передохнуть, думая, что он не видит этого. В ответ на его вопросы она только устало и как-то печально улыбалась, гладила его по голове и отправляла играть во двор.
Ваня вздохнул, спустился с лавки и побежал к двери, вышел во двор, окликнул мать, но двор был пуст. Он увидел ее, сидящую за домом на скамье. У ее ног было рассыпано зерно, которое клевали куры.
– Что случилось? – Ваня подбежал к матери, схватил за руку и начал легонько трясти. Его маленькое сердечко колотилось в груди, словно испуганная птичка в клетке. Тревога возрастала с каждой секундой.
– Мама! – мальчик тряс ее за плечи, нежно гладил щеки. Мария открыла глаза, мотнула головой, пытаясь прийти в себя.
– Все хорошо, милый, просто присела отдохнуть и, видать, уснула чуток. Сейчас встану, – голос ее был слабым.
– Мамочка, давай я тебе помогу? – Ваня присел на одно колено и стал собирать в таз зерно.
– Не надо, милый, я сама. Посижу только немножко и встану. Хотя, нет, помоги мне зайти в дом, прилягу я…
Мальчик положил мамину руку себе на плечо, Мария, тяжело опираясь на хрупкое тело сына, аккуратно пошла к дому.
Зима пришла ночью. Ванька проснулся от звенящей тишины, в избе было светло. Ванька выглянул в окно. Снега было много, и с неба сыпало еще. «Надо утром помочь отцу расчистить тропинку до калитки», - засыпая, подумал мальчик.
А утром он проснулся от ароматного запаха. Мать возилась у печки.
«Проснулся? Давай, вставай, завтракай и беги играть, ребята заждались!»
Снег искрился на солнце, хрустел под ногами, слепил глаза. Деревенские ребята, как ошалелые, как будто никогда прежде не видели снега, носились с криками и воплями. Устраивали снежные бои, строили крепости, а потом, поделившись на две группы, с веселым гиканьем и свистом неслись друг на друга. Взрослые улыбались и радовались их забавам, словно дети.
Ванька выскочил на улицу. Да какая красотища! Синее небо, еще более синее на фоне белого снега, уносило вдаль, за поля и леса! Ванька почувствовал такую легкость, что хотелось взлететь и орать от радости. Не обращая внимания на улюлюканья пацанов, он побежал в церковь.
Здесь был свой мир, неотделимый от жизни деревни: венчались, крестили, отпевали, проводили службы. Ваня любил слушать отца, любил негромкое бормотание прихожан, колокольный звон, иконы на стенах. Они словно растворялись, поднимая его высоко-высоко, к самым сводам, даря легкость и покой. Это умиротворяло, дарило чувство защищенности, и вера его крепла.
В церкви он часто думал о маме. Ей стало хуже. К ее недугу прибавилась простуда: мама полоскала белье в проруби, заболела и слегла.
Как только вся работа была сделана, Ваня мчался домой по хрустящему снегу мимо домов и дворов, лай собак сопровождал его. Добежав до двора, мальчик заходил в дом, видел лежащую на кровати больную мать и сразу подходил к ней. Он садился на колени, вытягивая шею вперед, и Мария видела светлую головку сына.
– Мам, ты как?
– Мне уже лучше, сынок – кашель не давал договорить.
Ваня сел у окна. По небу плыли облака, солнце освещало их. Синева дарила тепло, скоро весна, и мама, думал Ваня, поправится.
Ночью Ванька не спал. Он боялся за маму: кашель клокотал и лаял в ее груди, забирая последние силы. С отцом они поили ее теплой водой, сторожа стук ее сердца и оберегая дыхание.
Темно-синие окна пугали малыша, ему казалось, что сама тьма заглядывает в дом. Каждый скрип, стук, свист заставляли его вздрагивать. Тени от света лампадки превращались в страшных чудовищ, которые ползли к окну и растворялись в ночной тьме. Тревога пронизывала тело Вани, и только мерное дыхание мамы успокаивало маленькое сердечко. Ваня засыпал тревожным сном.
Зима казалась вечной.
Наступила весна. Мария совсем не вставала. Ее радовали только пение птиц и Ваня, выросший за эти полгода. Все его дни проходили в заботах о маме, лишь иногда, выйдя во двор отдохнуть, Ваня садился на лавку и смотрел на небо, прикрывая ладонью глаза. Ласточки носились под облаками. Солнце все щедрее дарило тепло, от этого становилось радостнее, и крепла уверенность, что мама скоро выздоровеет. Они будут сидеть на крыльце, греться под теплыми лучами солнца, вглядываясь в синеву высокого неба.
У калитки показался отец.
– Пойдем, сынок, пройдемся.
Они шли по узенькой тропинке в лес. Толстый шмель прогудел над самым ухом Вани и сел к нему на плечо. Мальчик вздрогнул.
– Не бойся его, что он тебе сделает? – отец похлопал сына по плечу.
– Он же ужалить может, – Ванюша поднял руку, чтобы смахнуть шмеля.
– Если не обидишь, то не ужалит, – священник дотронулся до плеча сына и аккуратно снял полосатый комочек.
– Нельзя их обижать, они же живые. Мы с ними под одним небом живем.
Шмель, поднятый вверх, оторвался от пальца и улетел.
Они вошли лес. Кроны деревьев рассеивали солнечные лучи. Вдалеке трудился дятел, отбивая звонкую дробь, ветки слегка покачивались под птицами, которые перелетали с одного места на другое. Совсем рядом раздалось «ку-ку», и Ваня, задрав голову, увидел на ветке серую птичку, которая, казалось, смотрела на него. Она дернулась и полетела вниз. Ваня испугался и опять послышался спокойный голос отца:
– Боишься? Она тебе плохо не сделает, посмотрит поближе и улетит себе дальше.
Священник глянул назад, где виднелась деревня.
– Знаешь, Ванюша, нам уже домой пора – солнце садится.
Ваня, вдохнув полной грудью воздух, побежал обратно по тропинке, которая вела к зеленому полю. Мальчик бежал, раскинув руки в стороны, воображая себя птицей, чью светлую голову озаряло заходившее солнце. Трава щекотала его ножки, ветер шелестел в ней, волнами гоня вперед, а Ванюша все бежал, преисполненный счастьем и радостью, надеждой и верой. И небо словно давало ему силы и уберегало от падения.
На деревню опустилась ночь. Месяц затянуло тучами и вскоре на нагретую землю упали первые капли дождя. В одной избе горел свет. Внутри у кровати сидели две тени: одна большая, другая поменьше. Одна из них встала, двинулась к двери.
– Сиди с матерью, Ваня, я за лекарем.
Священник вышел из избы.
Ванюша остался один. Тоска накрыла его, а вслед за ней и тревога. Мальчик понял: мама умирает, она лежала в бреду, тело ее горело.
– Мамочка, мамочка! – лепетал мальчик, прижимая горячую ладонь к своей щеке, целовал ее, сжимал. Лицо его было мокрым от слез, он захлебывался ими, даже не пытаясь их смахнуть.
Избу осветило яркой вспышкой. Ваня замер, сжался в комочек, когда гром обрушился на землю. Казалось, дом сейчас обрушится. Небо как взбесилось: полыхали молнии, гремел гром, дождь бил в окна, как бы прося впустить его в дом. Ване было страшно, он поднял глазенки к потолку:
– Мамочка, не уходи, не уходи…
Мария успокоилась.
Ваня залился плачем.
Наступило утро. Ваня сидел у окна. После ночной грозы солнце и синее небо, словно умытые, щедро поливали светом землю. Как будто не было ненастья, как будто не умерла мама под яростные порывы ветра и ливень.
Бегут ручьи, звенят колокола,
И птицы стайками летят во все концы земли,
Снова весна, снова май!
Абзатова Алина. Мой детский страх
Уверена, что каждый в детстве чего-то боялся. Страхи у нас разные, но общее то, что, повзрослев, человек помнит чувства, вызванные ими…
Стоял погожий августовский денек. Мы с подружкой Олей катались на велосипедах по селу. Нам быстро надоело просто так ездить по улицам, и мы решили заехать на детскую площадку. Там на скамейке сидели знакомые мальчишки и ели горох. Очень уж аппетитно выглядели тугие сочные стручки зеленого гороха!
- Олег, Дима, дайте попробовать, - попросила я. На коленях Димы лежал целлофановый мешочек с зеленым лакомством.
- А ты догони меня, - сказал Олег и швырнул в меня несколько стручков.
- Ну и не надо, - гордо ответила Оля. – Где собрали? Мы сами съездим и нарвём.
Димка и Олег долго не говорили, где растет горох. Я решила пойти на хитрость и пообещала, их тоже угостить, если они покажут поле с горохом.
- Это не близко. На Калатау. Вы туда одни все равно не поедете, - сказал Олег.-А мы уже наелись. Ладно, так и быть, скажем, куда ехать.
Мальчишки, перебивая друг друга, объяснили, как доехать до поля с горохом.
Я с родителями не раз ездила на гору Калатау. Это недалеко от нашего села, и мы с Олей решили съездить.
- Прокатимся и гороха наберем! – так подбадривала я свою подругу, которая пыталась меня отговорить от этой затеи.
- Ну, ладно. Только надо ехать быстрее, пока еще светло, - согласилась Оля.
Дорога до Калатау ровная, хорошая. Весело болтая, мы быстро добрались до поворота, за которым, по словам мальчишек, должно быть гороховое поле.
- Я устала, давай передохнем, - сказала Оля и слезла с велосипеда.
- Хорошо. Давай.
Мы слезли с велосипедов и присели на обочине дороги.
Сидим, мечтаем, как наберем гороха и будем хвастаться перед мальчишками.
Вдруг Оля как закричит:
- Смотри-смотри, ящерица! – и побежала к пригорку.
– Давай поймаем! – кинулась я следом за подругой.
- Фу! Она противная, я не хочу ее в руки брать. Сейчас, не спугни ее.
Оля побежала к лесочку, а я осталась наблюдать за ящеркой. Бедная ящерица спокойно грелась на солнышке.
Прибежала Оля, у нее в руках была палка и целлофановый мешочек.
- Давай ящерицу палкой подденем, в мешок положим и домой привезем, - предложила подружка. Потом прижала ящерку палкой. Та стала метаться, пытаясь освободиться.
И вдруг мы видим: хвост ящерицы остался под палкой, а она сама юркнула в траву. Было жаль, что похвастаться перед друзьями находкой мы не сможем. Но хвост решили взять с собой.
А за поворотом нас ждал горох! До поля рукой подать, только с горки спуститься и подняться на пригорок.
С визгом скатились с горки, слезли с велосипедов и пешком стали взбираться на пригорок.
Вдруг в траве между колеями проселочной дороги видим: стоит кринка - широкий глиняный кувшин без ручки для молока, а на нем фарфоровый заварочный чайник белого цвета с голубыми цветочками.
Мы в страхе и недоумении остановились. Откуда здесь на дороге появилась кринка – посуда, которую в наше время ни у кого не найдешь?! Да еще и с чайником вместо крышки!
Неподалеку от этого местечка был лесочек. Я очень испугалась, что какое-то существо выскочит из-за деревьев и погонится за нами. Смотрю - на моей подружке тоже лица нет. Мы, не говоря ни слова друг другу, развернули свои велики и бросились со всех ног обратно. Я боялась оглянуться. Мне казалось, что за нами кто-то гонится. Вытолкав велики в гору, мы сели на них и изо всех сил стали крутить педали. Когда завиднелось село, я немного успокоилась и стала вспоминать, с чего началось наше приключение. Ящерица! Вот кто мог нам мстить. Мы причинили ей боль. На ум пришли сказы Павла Бажова о Хозяйке Медной горы. А что если эта ящерка – хозяйка Калатау? Здесь у меня совсем душа в пятки ушла.
- Оля, брось хвост ящерицы, - кричу я на ходу подруге. – Вдруг ящерка за нами погонится.
Не помня себя мы добрались до дома. О горохе даже не вспоминали. Да и кусок в горло не лез после всего, что нам пришлось пережить.
В эту ночь я испугалась спать одна и легла с сестренкой. Еще долго мне казалось, что приползет ящерица и произойдет что-то страшное.
Прошло уже четыре года. Я повзрослела, но часто вспоминаю этот случай. При виде ящерицы до сих пор мурашки бегут по коже. А самое удивительное - никак не могу объяснить, откуда на проселочной дороге появились кринка и чайник. Оставил ли их человек, или Хозяйка Калатау так заманивала нас к себе?
Уверена, что каждый в детстве чего-то боялся. Страхи у нас разные, но общее то, что, повзрослев, человек помнит чувства, вызванные ими…
Стоял погожий августовский денек. Мы с подружкой Олей катались на велосипедах по селу. Нам быстро надоело просто так ездить по улицам, и мы решили заехать на детскую площадку. Там на скамейке сидели знакомые мальчишки и ели горох. Очень уж аппетитно выглядели тугие сочные стручки зеленого гороха!
- Олег, Дима, дайте попробовать, - попросила я. На коленях Димы лежал целлофановый мешочек с зеленым лакомством.
- А ты догони меня, - сказал Олег и швырнул в меня несколько стручков.
- Ну и не надо, - гордо ответила Оля. – Где собрали? Мы сами съездим и нарвём.
Димка и Олег долго не говорили, где растет горох. Я решила пойти на хитрость и пообещала, их тоже угостить, если они покажут поле с горохом.
- Это не близко. На Калатау. Вы туда одни все равно не поедете, - сказал Олег.-А мы уже наелись. Ладно, так и быть, скажем, куда ехать.
Мальчишки, перебивая друг друга, объяснили, как доехать до поля с горохом.
Я с родителями не раз ездила на гору Калатау. Это недалеко от нашего села, и мы с Олей решили съездить.
- Прокатимся и гороха наберем! – так подбадривала я свою подругу, которая пыталась меня отговорить от этой затеи.
- Ну, ладно. Только надо ехать быстрее, пока еще светло, - согласилась Оля.
Дорога до Калатау ровная, хорошая. Весело болтая, мы быстро добрались до поворота, за которым, по словам мальчишек, должно быть гороховое поле.
- Я устала, давай передохнем, - сказала Оля и слезла с велосипеда.
- Хорошо. Давай.
Мы слезли с велосипедов и присели на обочине дороги.
Сидим, мечтаем, как наберем гороха и будем хвастаться перед мальчишками.
Вдруг Оля как закричит:
- Смотри-смотри, ящерица! – и побежала к пригорку.
– Давай поймаем! – кинулась я следом за подругой.
- Фу! Она противная, я не хочу ее в руки брать. Сейчас, не спугни ее.
Оля побежала к лесочку, а я осталась наблюдать за ящеркой. Бедная ящерица спокойно грелась на солнышке.
Прибежала Оля, у нее в руках была палка и целлофановый мешочек.
- Давай ящерицу палкой подденем, в мешок положим и домой привезем, - предложила подружка. Потом прижала ящерку палкой. Та стала метаться, пытаясь освободиться.
И вдруг мы видим: хвост ящерицы остался под палкой, а она сама юркнула в траву. Было жаль, что похвастаться перед друзьями находкой мы не сможем. Но хвост решили взять с собой.
А за поворотом нас ждал горох! До поля рукой подать, только с горки спуститься и подняться на пригорок.
С визгом скатились с горки, слезли с велосипедов и пешком стали взбираться на пригорок.
Вдруг в траве между колеями проселочной дороги видим: стоит кринка - широкий глиняный кувшин без ручки для молока, а на нем фарфоровый заварочный чайник белого цвета с голубыми цветочками.
Мы в страхе и недоумении остановились. Откуда здесь на дороге появилась кринка – посуда, которую в наше время ни у кого не найдешь?! Да еще и с чайником вместо крышки!
Неподалеку от этого местечка был лесочек. Я очень испугалась, что какое-то существо выскочит из-за деревьев и погонится за нами. Смотрю - на моей подружке тоже лица нет. Мы, не говоря ни слова друг другу, развернули свои велики и бросились со всех ног обратно. Я боялась оглянуться. Мне казалось, что за нами кто-то гонится. Вытолкав велики в гору, мы сели на них и изо всех сил стали крутить педали. Когда завиднелось село, я немного успокоилась и стала вспоминать, с чего началось наше приключение. Ящерица! Вот кто мог нам мстить. Мы причинили ей боль. На ум пришли сказы Павла Бажова о Хозяйке Медной горы. А что если эта ящерка – хозяйка Калатау? Здесь у меня совсем душа в пятки ушла.
- Оля, брось хвост ящерицы, - кричу я на ходу подруге. – Вдруг ящерка за нами погонится.
Не помня себя мы добрались до дома. О горохе даже не вспоминали. Да и кусок в горло не лез после всего, что нам пришлось пережить.
В эту ночь я испугалась спать одна и легла с сестренкой. Еще долго мне казалось, что приползет ящерица и произойдет что-то страшное.
Прошло уже четыре года. Я повзрослела, но часто вспоминаю этот случай. При виде ящерицы до сих пор мурашки бегут по коже. А самое удивительное - никак не могу объяснить, откуда на проселочной дороге появились кринка и чайник. Оставил ли их человек, или Хозяйка Калатау так заманивала нас к себе?
Аскарова Азалия. На том же месте через десять лет
Лето. Жара. В доме бабушки невероятно душно. Я быстро надеваю плавки и бегу в сторону озера, где недавно рыбачил вместе с дедом. Поплавать можно было бы и раньше, во время рыбалки, но пугать дедушкину рыбу вовсе не хотелось. А по-честному, я оставил плавки дома, и хотя на улице было до ужаса жарко, но плавать нагишом я не мог. Вот и пошел к озеру после обеда, хоть и один, но всё же пошёл. Хотелось дойти до воды как можно быстрее, бежать не было сил. Я шёл медленно, закрывая голову рубашкой от солнца. Приехал я ненадолго, лежать все выходные в кровати (да ещё и в такую жару!) я не собирался. Жара не только отбивала всякое желание делать лишние движения, но и знатно подпортила пейзаж: все травы и листья на деревьях от чрезмерной любви солнца пожухли, а цветы, словно прячась от его лучей, так вообще не распускались, стараясь укрыться в теньке.
"Да-а-а,- подумал я, проходя очередные десять шагов,- а до обеда дорога казалась короткой." Я с грустью вздохнул, но вдруг увидел впереди водную гладь и прибавил шаг, на ходу снимая с себя шорты и майку. "Ура! Ура! Ура!"- кричал я в душе (уж и не вспомню, когда я так сильно радовался). Подбегая к берегу, я заметил движение рядом с кустами.
- Там кто-то есть?
"Думаю, да, сам же только что видел или показалось..."
- Простите?
"И чего это я боюсь? Может, никого и нет там."
Я стараюсь передвигаться как можно тише. "Сперва кричал, а теперь крадусь?" – пробегает мысль в голове. Я выпрямляюсь и уверенно шагаю к укрытию неизвестного мне существа. "Существо прозвучало грубо", - подумал я, увидев, как из-за кустов выходит мальчик лет десяти.
- Чего прячешься?
- Кто прячется? Я? И вовсе я не прячусь, а охочусь.
- И на кого же ты охотишься, не на меня ли случаем?
- Сдался ты мне, - пробубнил он в ответ.- На мальков с головастиками.
- Серьёзно? Ничего интересней не придумал?
Мальчик посмотрел на меня: ему явно не понравилось мое замечание. Ах, ну да! Куда же мне, городскому парню, понять штуки деревенских жителей! Я сближаюсь с природой лишь летом, когда приезжаю на каникулы к бабушке с дедом.
- Ты не местный. Разве не знаешь, что если поймать десяток головастиков от одной лягушки и загадать желание, то оно непременно сбудется?
- И как же ты определяешь, какие из этих малюток от одной лягушки?
- И впрямь неместный...
Ну, неместный и неместный. Я же не смеюсь над тем, что он из деревни и верит в то, что желание, загаданное на детёнышах какой-то лягушки, сбывается. Молча отошёл в сторону: "Такой доставучий. Я даже про жару из-за него забыл."
Наконец-то я был готов окунуться в воду, так сильно манящую меня. Бросив одежду на траву, я стал медленно заходить в озеро. Вода была чуть прохладной, а я был настолько разгорячён то ли из-за погоды, то ли из-за мальчика, что казалось, будто от меня исходил пар. Я дошёл до середины озера, готовый погрузиться в водную негу (вода была мне уже по самые плечи), как вдруг…
-Ты откуда такой приехал? Я видел, как ты бежал со стороны дома бабы Вали. Родственник?
- А ты знаешь мою бабушку?
- Конечно! Её каждый знает: она частенько печёт вкусности и угощает нас. Очень добрая!
- Тебя как звать-то? - спросил я мальчишку.- Меня Владик.
- Меня тоже Владиком звать! Но меня чаще Влад называют. Влад! Звучит гордо, как думаешь, Владик? А ты знаешь, я поймал головастиков. Так уж и быть, дам тебе загадать желание.
- Я в такое не верю, глупости это всё.
-Ага, глупости! А если лягушку раздавить? Дождь польет. Тоже глупости? Слыхал про такое? Не знаешь - не говори! Я каждый день прихожу сюда, ловлю их и желания загадываю.
- И всё сбывается? - перебил его я.
- Как же сбудется за такой короткий срок? Я только вчера загадал новый самолёт, как же... Как же так... Ведь нельзя же вслух говорить, что загадал... Вот же!.. Ты специально, так? Ты точно знал. И не говори, что никогда желаний не загадывал! Знал, знал!
- Да что ты заладил "знал" да "знал"?! Сам же проговорился! Я-то тут при чем?
-Загадывать дважды одно и то же нельзя... - Это почему же нельзя? Несколько дней подряд - можно, а один самолёт дважды – нельзя!
- Слу-у-ушай, а хочешь, я для тебя загадаю новый самолёт, а?- оживился мой новый приятель.
- Ну, давай. Где там твои головастики-волшебники?- сказал я с насмешкой.
Влад в кустах выкопал большую яму в песке. В эту яму втекала вода из озера. Рядом лежал сачок, которым он, судя по всему, ловил головастиков.
- Да у тебя тут целое предприятие. Ну и как же мне загадать желание?
- Просто! Наклонись к ямке и нашепчи им своё желание. Они сами всё сделают!
Я подошёл ближе и присел на корточки.
-Загадывай давай! Красный самолёт со звездой на хвосте! Но если без звезды, то тоже пойдёт!
Следующие минут десять я загадывал желание: то я сформулировал его не по правилам, то один из головастиков умудрялся сбежать из ямки, то еще что-то... В общем, было тяжело.
- Очень скоро у нас появится самолет. Там очередь. Не я один загадываю желания. У нас нет таких, как ты, ничего не знающих о том, как загадывать желания на маленьких лягушках.
Наступило короткое молчание, которое мой недоблизнец прервал:
- Хочешь искупаться? Ты не смотри, что тут так много лягушек - вода чистая-пречистая!
Остаток дня мы провели, играя в озере. Мы изредка выходили на берег. Влад показывал мне, как правильно нужно плавать так, чтоб не идти ко дну, а я в свою очередь пытался отстоять своё честное имя "участника соревнований". Но всё это было не важно, ведь плавать, по мнению Влада, я так и не научился.
Когда мы вышли из воды, солнце уже садилось за деревья.
- Ну что, по домам?
- По домам, - довольно ответил он.
В сторону деревни мы шли, разговаривая о жизни. Он опять стал поучать, говоря, что город меня жизни не научит, а вот деревня - совсем другое дело.
- А ты завтра придешь к озеру?
- Я бы и рад, но завтра утром я возвращаюсь домой. Через два дня в лагерь.
- Зачем тебе лагерь, если есть деревня? Не пойму я тебя.
- Там здорово, весело, много друзей...
- Так и я могу стать твоим другом!
- И то верно... Но отказаться я уже не могу.
- А следующим летом? Ты каждый год приезжаешь в деревню? Приезжай сюда на всё лето. Тогда много желаний загадать сможешь!
- Аха-ха-ха! Ты прав! Значит, следующим летом никакого лагеря!
Почему-то мне очень понравилась мысль о том, что мы обязательно встретимся через год на том же месте. С тем и разошлись по домам. Я лёг спать, думая о новом друге: «Было бы здорово, если бы у него и вправду появился самолёт».
На следующий день мы поехали домой, ехать не хотелось. Зато было желание поскорее встретить маленького, но уже такого большого друга Влада. Вот и друг, как тебе такое, а, папа?
Но через год мы не встретились. В середине сентября папа получил повышение, и мы переехали в другой город, а оттуда до деревни было слишком далеко. Мы перестали приезжать к бабушке и деду.
Прошло много лет. И зим много прошло. Я сдал экзамены и был готов поступать в университет. Приходит письмо. Дедушка писал, что бабушка сильно больна и хотела бы увидеться с дочкой и её семьёй. Спустя десять лет мы собирались в деревню к бабушке, и я был взволнован. Интересно, а как поживает Влад?
Дорога в деревню была долгой, она напомнила мне о том дне, когда я десять лет назад медленно шёл по тропинке к лесному озеру и там встретил его... Ну же, быстрее, быстрее! Путь отнял у нас три дня (и из-за этих трёх дней мы ни разу не приезжали в гости к бабушке с дедушкой).
Как только я помог выгрузить вещи и увиделся с родными, тут же побежал к озеру. Опять была невыносимая жара. Я бежал туда, чтобы встретить своего друга. Дорога стала длинней? Еще пару шагов и... Вот! Оно! Тот самый берег! То самое место! Я оглядываясь по сторонам. Шелест из кустов. Уверенно иду на звук. Раздвигаю ветви, и... Там никого нет, только ямка, из которой стараются выплыть головастики. За моей спиной слышен звук шагов. Оборачиваюсь. Знакомое лицо. Те же глаза, вечно ищущие причину для насмешек. Те же темно-русые волосы.
Подрос. Он стал выше меня?
- Так и знал, что папку своего боишься! Долго же ты отпрашивался от летнего лагеря!
Голос... Уже совсем не мальчишка. А ведь всего десять лет... В руках у него деревянный самолёт. Красный. Со звездой не вышло.
- На том же месте следующим летом. Ты еще и считать не умеешь, да? Сколько же про…
- Десять! - перебиваю его, - Десять лет прошло.
- Да-а... На том же месте через десять лет.
Опять смеётся надо мной...
Лето. Жара. В доме бабушки невероятно душно. Я быстро надеваю плавки и бегу в сторону озера, где недавно рыбачил вместе с дедом. Поплавать можно было бы и раньше, во время рыбалки, но пугать дедушкину рыбу вовсе не хотелось. А по-честному, я оставил плавки дома, и хотя на улице было до ужаса жарко, но плавать нагишом я не мог. Вот и пошел к озеру после обеда, хоть и один, но всё же пошёл. Хотелось дойти до воды как можно быстрее, бежать не было сил. Я шёл медленно, закрывая голову рубашкой от солнца. Приехал я ненадолго, лежать все выходные в кровати (да ещё и в такую жару!) я не собирался. Жара не только отбивала всякое желание делать лишние движения, но и знатно подпортила пейзаж: все травы и листья на деревьях от чрезмерной любви солнца пожухли, а цветы, словно прячась от его лучей, так вообще не распускались, стараясь укрыться в теньке.
"Да-а-а,- подумал я, проходя очередные десять шагов,- а до обеда дорога казалась короткой." Я с грустью вздохнул, но вдруг увидел впереди водную гладь и прибавил шаг, на ходу снимая с себя шорты и майку. "Ура! Ура! Ура!"- кричал я в душе (уж и не вспомню, когда я так сильно радовался). Подбегая к берегу, я заметил движение рядом с кустами.
- Там кто-то есть?
"Думаю, да, сам же только что видел или показалось..."
- Простите?
"И чего это я боюсь? Может, никого и нет там."
Я стараюсь передвигаться как можно тише. "Сперва кричал, а теперь крадусь?" – пробегает мысль в голове. Я выпрямляюсь и уверенно шагаю к укрытию неизвестного мне существа. "Существо прозвучало грубо", - подумал я, увидев, как из-за кустов выходит мальчик лет десяти.
- Чего прячешься?
- Кто прячется? Я? И вовсе я не прячусь, а охочусь.
- И на кого же ты охотишься, не на меня ли случаем?
- Сдался ты мне, - пробубнил он в ответ.- На мальков с головастиками.
- Серьёзно? Ничего интересней не придумал?
Мальчик посмотрел на меня: ему явно не понравилось мое замечание. Ах, ну да! Куда же мне, городскому парню, понять штуки деревенских жителей! Я сближаюсь с природой лишь летом, когда приезжаю на каникулы к бабушке с дедом.
- Ты не местный. Разве не знаешь, что если поймать десяток головастиков от одной лягушки и загадать желание, то оно непременно сбудется?
- И как же ты определяешь, какие из этих малюток от одной лягушки?
- И впрямь неместный...
Ну, неместный и неместный. Я же не смеюсь над тем, что он из деревни и верит в то, что желание, загаданное на детёнышах какой-то лягушки, сбывается. Молча отошёл в сторону: "Такой доставучий. Я даже про жару из-за него забыл."
Наконец-то я был готов окунуться в воду, так сильно манящую меня. Бросив одежду на траву, я стал медленно заходить в озеро. Вода была чуть прохладной, а я был настолько разгорячён то ли из-за погоды, то ли из-за мальчика, что казалось, будто от меня исходил пар. Я дошёл до середины озера, готовый погрузиться в водную негу (вода была мне уже по самые плечи), как вдруг…
-Ты откуда такой приехал? Я видел, как ты бежал со стороны дома бабы Вали. Родственник?
- А ты знаешь мою бабушку?
- Конечно! Её каждый знает: она частенько печёт вкусности и угощает нас. Очень добрая!
- Тебя как звать-то? - спросил я мальчишку.- Меня Владик.
- Меня тоже Владиком звать! Но меня чаще Влад называют. Влад! Звучит гордо, как думаешь, Владик? А ты знаешь, я поймал головастиков. Так уж и быть, дам тебе загадать желание.
- Я в такое не верю, глупости это всё.
-Ага, глупости! А если лягушку раздавить? Дождь польет. Тоже глупости? Слыхал про такое? Не знаешь - не говори! Я каждый день прихожу сюда, ловлю их и желания загадываю.
- И всё сбывается? - перебил его я.
- Как же сбудется за такой короткий срок? Я только вчера загадал новый самолёт, как же... Как же так... Ведь нельзя же вслух говорить, что загадал... Вот же!.. Ты специально, так? Ты точно знал. И не говори, что никогда желаний не загадывал! Знал, знал!
- Да что ты заладил "знал" да "знал"?! Сам же проговорился! Я-то тут при чем?
-Загадывать дважды одно и то же нельзя... - Это почему же нельзя? Несколько дней подряд - можно, а один самолёт дважды – нельзя!
- Слу-у-ушай, а хочешь, я для тебя загадаю новый самолёт, а?- оживился мой новый приятель.
- Ну, давай. Где там твои головастики-волшебники?- сказал я с насмешкой.
Влад в кустах выкопал большую яму в песке. В эту яму втекала вода из озера. Рядом лежал сачок, которым он, судя по всему, ловил головастиков.
- Да у тебя тут целое предприятие. Ну и как же мне загадать желание?
- Просто! Наклонись к ямке и нашепчи им своё желание. Они сами всё сделают!
Я подошёл ближе и присел на корточки.
-Загадывай давай! Красный самолёт со звездой на хвосте! Но если без звезды, то тоже пойдёт!
Следующие минут десять я загадывал желание: то я сформулировал его не по правилам, то один из головастиков умудрялся сбежать из ямки, то еще что-то... В общем, было тяжело.
- Очень скоро у нас появится самолет. Там очередь. Не я один загадываю желания. У нас нет таких, как ты, ничего не знающих о том, как загадывать желания на маленьких лягушках.
Наступило короткое молчание, которое мой недоблизнец прервал:
- Хочешь искупаться? Ты не смотри, что тут так много лягушек - вода чистая-пречистая!
Остаток дня мы провели, играя в озере. Мы изредка выходили на берег. Влад показывал мне, как правильно нужно плавать так, чтоб не идти ко дну, а я в свою очередь пытался отстоять своё честное имя "участника соревнований". Но всё это было не важно, ведь плавать, по мнению Влада, я так и не научился.
Когда мы вышли из воды, солнце уже садилось за деревья.
- Ну что, по домам?
- По домам, - довольно ответил он.
В сторону деревни мы шли, разговаривая о жизни. Он опять стал поучать, говоря, что город меня жизни не научит, а вот деревня - совсем другое дело.
- А ты завтра придешь к озеру?
- Я бы и рад, но завтра утром я возвращаюсь домой. Через два дня в лагерь.
- Зачем тебе лагерь, если есть деревня? Не пойму я тебя.
- Там здорово, весело, много друзей...
- Так и я могу стать твоим другом!
- И то верно... Но отказаться я уже не могу.
- А следующим летом? Ты каждый год приезжаешь в деревню? Приезжай сюда на всё лето. Тогда много желаний загадать сможешь!
- Аха-ха-ха! Ты прав! Значит, следующим летом никакого лагеря!
Почему-то мне очень понравилась мысль о том, что мы обязательно встретимся через год на том же месте. С тем и разошлись по домам. Я лёг спать, думая о новом друге: «Было бы здорово, если бы у него и вправду появился самолёт».
На следующий день мы поехали домой, ехать не хотелось. Зато было желание поскорее встретить маленького, но уже такого большого друга Влада. Вот и друг, как тебе такое, а, папа?
Но через год мы не встретились. В середине сентября папа получил повышение, и мы переехали в другой город, а оттуда до деревни было слишком далеко. Мы перестали приезжать к бабушке и деду.
Прошло много лет. И зим много прошло. Я сдал экзамены и был готов поступать в университет. Приходит письмо. Дедушка писал, что бабушка сильно больна и хотела бы увидеться с дочкой и её семьёй. Спустя десять лет мы собирались в деревню к бабушке, и я был взволнован. Интересно, а как поживает Влад?
Дорога в деревню была долгой, она напомнила мне о том дне, когда я десять лет назад медленно шёл по тропинке к лесному озеру и там встретил его... Ну же, быстрее, быстрее! Путь отнял у нас три дня (и из-за этих трёх дней мы ни разу не приезжали в гости к бабушке с дедушкой).
Как только я помог выгрузить вещи и увиделся с родными, тут же побежал к озеру. Опять была невыносимая жара. Я бежал туда, чтобы встретить своего друга. Дорога стала длинней? Еще пару шагов и... Вот! Оно! Тот самый берег! То самое место! Я оглядываясь по сторонам. Шелест из кустов. Уверенно иду на звук. Раздвигаю ветви, и... Там никого нет, только ямка, из которой стараются выплыть головастики. За моей спиной слышен звук шагов. Оборачиваюсь. Знакомое лицо. Те же глаза, вечно ищущие причину для насмешек. Те же темно-русые волосы.
Подрос. Он стал выше меня?
- Так и знал, что папку своего боишься! Долго же ты отпрашивался от летнего лагеря!
Голос... Уже совсем не мальчишка. А ведь всего десять лет... В руках у него деревянный самолёт. Красный. Со звездой не вышло.
- На том же месте следующим летом. Ты еще и считать не умеешь, да? Сколько же про…
- Десять! - перебиваю его, - Десять лет прошло.
- Да-а... На том же месте через десять лет.
Опять смеётся надо мной...
Беляев Арсений. Друзья навсегда
Яркий летний день согрел теплыми лучами солнца землю, напоил голубизной неба, свежестью зелени деревьев воздух. Всё заискрилось, засияло, запело.
«Клён зелёный, лист резной», - это мой братишка поёт, катаясь на качелях.
В летней кухне что-то скворчит, шипит – это мама с бабулей колдуют над заготовками на зиму и тихонько напевают.
А я решил сделать стрелы для лука. А то лук есть, а стрел нет – непорядок. Пахнет дымом из топящейся во дворе бани, осы жужжат, вьют гнездо за резным наличником. Все заняты.
И вдруг мирный распорядок летнего дня встревожился каким-то отчаянным писком, вслед за которым прямо посреди двора появился и его источник, маленький пушистый комочек на лапках-косолапках с чёрными глазками-угольками и чёрным же, будто смоляным, клювиком. Утёнок, дикий утёнок! Все всполошились. Откуда это чудо?
Утёнок суматошно метался по двору и неистово пищал. Я аккуратно взял его на руки, погладил. Он успокоился, пригрелся, затих. Бабуля предложила его накормить. Давали кашу и яйца, утенок клевал неохотно, а вот дождевые черви явно пришлись по вкусу. Они пропадали в его плоском клювике в мгновение ока.
Чудный маленький комочек, видимо, отбился от своей утиной семьи. Собаки распугали или кто другой, непонятно.
Мы стали строить планы по возвращению беглеца маме. Долго ходили по берегу, высматривали утку с утятами, не тут-то было. Дикие птицы и звери пугливы, ни за что не подойдут к человеку. Ни на следующий день, ни через день не появилась утиная семья.
«Да, похоже, некуда тебе идти. Что ж, оставайся у нас», - сказала мама.
И так у нас появился Дилли. Это оказался утёнок занесённой в красную книгу утки-пеганки (мы с братом нашли его фотографию в Интернете). Оказалось, что эти утки были первыми представителями своего вида. А ещё у них есть признаки гусей и лебедей. Удивительным было и то, что селятся они по берегам морей или соленых озёр, а у нас река. Питаются пищей животного происхождения, что объясняло любовь Дилли к дождевым червям. В общем, во всех отношениях удивительные создания. Мы почувствовали ещё больше ответственности за сохранение популяции редкого вида.
Сначала Дилли жил в большой плетёной корзине, из которой всё время норовил выбраться, поэтому первым делом мы сделали для него вольер из старых досок и мелкой сетки. Уж больно много врагов у отважного утёнка вокруг: в голубом небе парят коршуны, на ветках клёна резко каркает ворона, в кустах притаился соседский кот Арни.
Потом решили, что ему скучно одному (ведь утиные семьи всегда многочисленны) и отправились на рынок за назваными братьями и сестрами. Продавцов удивила наша история, и они дали нам четверых жёлтеньких недельных утят, а ещё корм для них. Так уже пять крохотных пушистиков бегали по двору, щипали травку, ловили зазевавшихся мошек.
Дилли значительно отличался от домашних собратьев: он был намного шустрее и выносливее, с удовольствием плавал в баке с водой и любил червей. Домашние утята в это время предпочитали спать в теньке, уткнувшись носами в тёплый пушок, червей они вообще не ели, только специально купленный для них комбикорм, а от водных процедур у них началась какая-то непонятная болезнь. Они стали садиться на лапки и не могли ходить.
Проконсультировавшись со специалистами, я сходил в ветеринарную аптеку, купил витамины и лекарства и давал утятам каждый день по графику.
Через неделю наши питомцы поправились, встали на лапки.
Каждый день был открытием, малыши подрастали, и забота о них доставляла огромную радость. Дилли был безумно умным. Только стоило взять лопату, как он бежал сломя голову ко мне, знал, что я иду копать для него червей. Петляя между грядок и лунок, мы добирались до заветной яблони. Я выкапывал ком земли, а Дилли ловко выбирал всех червей, причём даже тех, которых не замечал я.
Сегодня суббота. К нам приехал из города мой двоюродный брат. И, конечно, сразу к утятам. Со всеми познакомили, обо всех рассказали. Всеволод предложил завязать желтым утятам на лапки разноцветные верёвочки, чтобы отличать их друг от друга. Дилли-то ни с кем не спутаешь – он серый, а четырёх жёлтеньких отличить практически невозможно, и по этой причине они так и ходили безымянные. Мы подбежали к вольеру, подняли крышку, и стали выбирать, какому утёнку будем привязывать ниточку первым. Поторопились, отвлеклись, понадеялись друг на друга, крышка упала… Прямо на Дилли…
Мы ринулись его спасать. Сначала он ещё тихонько шевелился, но потом головка поникла, закрылись глазки-угольки, тихо стало вокруг и как-то безысходно.
Мы сели на траву, я держал в руках ещё тёплое тельце и никак не мог поверить, что больше нет нашего любимца. На глаза навернулись слезы. Я посмотрел на братьев, они тоже плакали. Он пришёл к нам в надежде на спасение, а мы не уберегли его.
Потом мы положили нашего любимца в маленькую коробочку, выкопали ямку в земле и похоронили Дилли под пихтой в саду.
Ещё неделю все ходили поникшие, каждый переживал по-своему. Всеволод старался не показываться на глаза, винил себя в смерти Дилли. Артур часто бегал на могилку и клал на нее цветы. Я чувствовал не проходящую тоску и одиночество, так непривычно было, что меня не встречает по утрам неугомонный комочек. Мама с бабулей тоже переживали, но пытались не показывать своего расстройства, жалели нас.
Через время мы поехали за лесной ягодой. Я внезапно посмотрел на небо и увидел чистое белое облако, раскинувшееся на светло-голубом небе. «Дилли», - сразу всплыло в моём сознании. Так это облако напоминало парящую в вышине волшебную птицу. В этот момент стало как-то спокойнее и захотелось верить, что Дилли где-то там, он свободен и счастлив в этом бескрайнем, печальном небе.
Яркий летний день согрел теплыми лучами солнца землю, напоил голубизной неба, свежестью зелени деревьев воздух. Всё заискрилось, засияло, запело.
«Клён зелёный, лист резной», - это мой братишка поёт, катаясь на качелях.
В летней кухне что-то скворчит, шипит – это мама с бабулей колдуют над заготовками на зиму и тихонько напевают.
А я решил сделать стрелы для лука. А то лук есть, а стрел нет – непорядок. Пахнет дымом из топящейся во дворе бани, осы жужжат, вьют гнездо за резным наличником. Все заняты.
И вдруг мирный распорядок летнего дня встревожился каким-то отчаянным писком, вслед за которым прямо посреди двора появился и его источник, маленький пушистый комочек на лапках-косолапках с чёрными глазками-угольками и чёрным же, будто смоляным, клювиком. Утёнок, дикий утёнок! Все всполошились. Откуда это чудо?
Утёнок суматошно метался по двору и неистово пищал. Я аккуратно взял его на руки, погладил. Он успокоился, пригрелся, затих. Бабуля предложила его накормить. Давали кашу и яйца, утенок клевал неохотно, а вот дождевые черви явно пришлись по вкусу. Они пропадали в его плоском клювике в мгновение ока.
Чудный маленький комочек, видимо, отбился от своей утиной семьи. Собаки распугали или кто другой, непонятно.
Мы стали строить планы по возвращению беглеца маме. Долго ходили по берегу, высматривали утку с утятами, не тут-то было. Дикие птицы и звери пугливы, ни за что не подойдут к человеку. Ни на следующий день, ни через день не появилась утиная семья.
«Да, похоже, некуда тебе идти. Что ж, оставайся у нас», - сказала мама.
И так у нас появился Дилли. Это оказался утёнок занесённой в красную книгу утки-пеганки (мы с братом нашли его фотографию в Интернете). Оказалось, что эти утки были первыми представителями своего вида. А ещё у них есть признаки гусей и лебедей. Удивительным было и то, что селятся они по берегам морей или соленых озёр, а у нас река. Питаются пищей животного происхождения, что объясняло любовь Дилли к дождевым червям. В общем, во всех отношениях удивительные создания. Мы почувствовали ещё больше ответственности за сохранение популяции редкого вида.
Сначала Дилли жил в большой плетёной корзине, из которой всё время норовил выбраться, поэтому первым делом мы сделали для него вольер из старых досок и мелкой сетки. Уж больно много врагов у отважного утёнка вокруг: в голубом небе парят коршуны, на ветках клёна резко каркает ворона, в кустах притаился соседский кот Арни.
Потом решили, что ему скучно одному (ведь утиные семьи всегда многочисленны) и отправились на рынок за назваными братьями и сестрами. Продавцов удивила наша история, и они дали нам четверых жёлтеньких недельных утят, а ещё корм для них. Так уже пять крохотных пушистиков бегали по двору, щипали травку, ловили зазевавшихся мошек.
Дилли значительно отличался от домашних собратьев: он был намного шустрее и выносливее, с удовольствием плавал в баке с водой и любил червей. Домашние утята в это время предпочитали спать в теньке, уткнувшись носами в тёплый пушок, червей они вообще не ели, только специально купленный для них комбикорм, а от водных процедур у них началась какая-то непонятная болезнь. Они стали садиться на лапки и не могли ходить.
Проконсультировавшись со специалистами, я сходил в ветеринарную аптеку, купил витамины и лекарства и давал утятам каждый день по графику.
Через неделю наши питомцы поправились, встали на лапки.
Каждый день был открытием, малыши подрастали, и забота о них доставляла огромную радость. Дилли был безумно умным. Только стоило взять лопату, как он бежал сломя голову ко мне, знал, что я иду копать для него червей. Петляя между грядок и лунок, мы добирались до заветной яблони. Я выкапывал ком земли, а Дилли ловко выбирал всех червей, причём даже тех, которых не замечал я.
Сегодня суббота. К нам приехал из города мой двоюродный брат. И, конечно, сразу к утятам. Со всеми познакомили, обо всех рассказали. Всеволод предложил завязать желтым утятам на лапки разноцветные верёвочки, чтобы отличать их друг от друга. Дилли-то ни с кем не спутаешь – он серый, а четырёх жёлтеньких отличить практически невозможно, и по этой причине они так и ходили безымянные. Мы подбежали к вольеру, подняли крышку, и стали выбирать, какому утёнку будем привязывать ниточку первым. Поторопились, отвлеклись, понадеялись друг на друга, крышка упала… Прямо на Дилли…
Мы ринулись его спасать. Сначала он ещё тихонько шевелился, но потом головка поникла, закрылись глазки-угольки, тихо стало вокруг и как-то безысходно.
Мы сели на траву, я держал в руках ещё тёплое тельце и никак не мог поверить, что больше нет нашего любимца. На глаза навернулись слезы. Я посмотрел на братьев, они тоже плакали. Он пришёл к нам в надежде на спасение, а мы не уберегли его.
Потом мы положили нашего любимца в маленькую коробочку, выкопали ямку в земле и похоронили Дилли под пихтой в саду.
Ещё неделю все ходили поникшие, каждый переживал по-своему. Всеволод старался не показываться на глаза, винил себя в смерти Дилли. Артур часто бегал на могилку и клал на нее цветы. Я чувствовал не проходящую тоску и одиночество, так непривычно было, что меня не встречает по утрам неугомонный комочек. Мама с бабулей тоже переживали, но пытались не показывать своего расстройства, жалели нас.
Через время мы поехали за лесной ягодой. Я внезапно посмотрел на небо и увидел чистое белое облако, раскинувшееся на светло-голубом небе. «Дилли», - сразу всплыло в моём сознании. Так это облако напоминало парящую в вышине волшебную птицу. В этот момент стало как-то спокойнее и захотелось верить, что Дилли где-то там, он свободен и счастлив в этом бескрайнем, печальном небе.
Забродина Александра. Добро добром отзовется
Был обычный рабочий день Григорича. Всё то же: потёртое ружьё, одновременно оживлённая и пустая деревня, лес, пахнущий сыростью, крутой овраг, усыпанный старыми, торчащими из-под земли корнями сосен. Всё так же, по одному и тому же маршруту ходил нестарый лесник.
Александр Григорьевич известен в родной деревне как добрый сосед, к которому за помощью обращался каждый местный житель, справедливый лесник, любящий всех божьих тварей, кроме некоторых. А именно - людей: предпринимателей, что за скромную радость жизни закрывали глаза местным стражам порядка на бесконтрольную вырубку многовекового, родного Григоричу леса. Но отдельную нелюбовь питал лесник к искателям пушнины, рогов и прочей добычи с нелегальной, незаконной охоты – тем, кого называют браконьерами. Главная цель в работе Григорича – охранять природные богатства родного края от подобных губителей живого и прекрасного. Эту обязанность Григорич и выполнял в тот день, как казалось ему, по своему обыкновению. Ходил, собирал капканы, проходя тот самый опасный для любого пешехода овраг. Лесник внимательно смотрел под ноги, дабы не упасть, что случалось не так уж и редко, и размышлял. А размышлял о слухах, дошедших до него в деревне: «Что, мол, приезжали в соседнее поселение неподалёку люди неприятной и подозрительной наружности, не вселяющие доверие и имеющие неплохие охотничьи ружья, но слишком вычурные для обычной охоты на мелкого зверя».
Вот и отправился Александр Григорьевич проверять приближённую к той деревне местность, но не дошёл он и до середины оврага, как его будто током ударило: до него донеслись слабые стоны, до страшного похожие на детские. Лесник бросился по весьма крутому склону, не думая об аккуратности, но желая только одного: поскорее найти, помочь! Он быстро спустился и, пробираясь сквозь растущие у подножия оврага заросли диких шиповника и малины, с тревогой в голосе кричал имена мальчишек, часто гуляющих по лесу: «Олежа! Славка! Миша!..» С каждым шагом его сердце до боли сжималось от пугающей мысли: « Неужто кто-то из ребят попал в капкан?!»
Добравшись до источника мольбы о помощи, лесник не знал, что и думать: перед ним, извиваясь от боли, стоял трёх - четырёхмесячный медвежонок. Его передняя левая лапа была зажата до такой степени, что вся земля вокруг капкана была в частых, уже бурых пятнах крови. От увиденного сердце Григорича сжалось ещё сильнее, и он было дело хотел броситься на помощь бедняге, но вовремя опомнился, понимая, что медвежонок напуган и не доверится ему. Достав из кармана рабочей жилетки несколько кусочков сушёных яблок, какими он часто угощал птиц и белок, лесник почти шепчущим голосом произнёс: «Ну же, косолапый, успокойся». Пострадавший, будто чувствуя дружелюбие и ласку в словах Григорича и поддаваясь ощущению безвыходности, смирился, обнюхал широкую, пахнувшую не порохом, как у охотников, а грибами и пряниками руку. Он попятился назад, допуская лесника к пострадавшей конечности, умоляя всем свои видом о помощи. Не теряя ни минуты, лесник освободил лапу бедняги, но на этом оказание помощи было закончено, так как обременяемый болью медвежонок поспешил удалиться в чащу леса.
Что насчёт капкана, то виновные были наказаны. Кто и как был привлечён к ответственности, не имеет значения. Григорич в свою очередь снова провёл в школе беседу об опасностях в лесу. В этот раз ребята слушали его особенно внимательно, сгорая от любопытства: все хотели узнать о том, как произошла встреча Александра Григорьевича с медвежонком, о котором много говорили в деревне.
С того времени прошло десять лет. Жизнь лесника ничуть не изменилась: ружьё, лес, овраг, но уже полуопустевшая деревня: казалось бы, вчерашние школьники выросли и уехали в город за лучшей жизнью. Проходя всё тем же маршрутом, уже имеющий приличное для его возраста количество морщин Григорич улыбался прикормленным им двум синицам, воробью и чрезвычайно любопытной сороке, что имела наглость совать свой клюв в карман его уже потрёпанной, но всё так же тёплой жилетки, за сушёными яблоками. Казалось бы, с годами люди черствеют, словно корка чёрного хлеба, но не в случае с Александром Григорьевичем: с годами он душою вырос. Лесник остановился, достал из кармана полюбившиеся его крылатым друзьям яблоки, за что был окружён вниманием нетерпеливых птиц. Он наслаждался видом счастливых пернатых. Будучи глуховатым в силу уже неюного возраста да по причине частых простуд, Григорич не заметил сразу приближающуюся к нему лохматую, огромную фигуру. Когда же он увидел, было уже поздно: косолапый, совершенно смешной и нелепый в детских сказках и стихах зверь, в реальности не выглядел обаятельным и забавным. Один миг – и птицы покинули широкие плечи лесника, оставив его стоять один на один с хищником. Медведь медленно, но уверенно приближался к цели в тот момент, когда внимание Григорича было приковано к одной, выделяющейся особенности врага – искажённой передней лапе. Зверь ступал смело, но в его ходьбе была заметная хромота. Всего тридцать секунд - и между ними не было и двух метров. Лесник упёрся спиной к дереву и, уже предчувствуя неравный бой не на жизнь, а на смерть, где шансы выжить у него ниже мха, растущего возле корней того же дерева, закрыл глаза.
Минута… Две… И даже спустя три минуты, всё что он ощущал – это чьё-то дыхание. Лесник открыл глаза и, к его удивлению, он видел перед собой не свирепого хищника, а того самого беспомощного медвежонка, поверившего ему когда-то. Григорич, сам того не понимая, потянул свою широкую открытую ладонь к пушистой морде с блестящим чёрным носом, и… В ответ этот чёрный нос проделал не менее дружелюбный жест – потянулся и ткнулся в необычайно тёплую в тот момент ладонь лесника.
Спустя непродолжительное время медведь повернулся и побрёл в глубь малинника. Через минуту и Григорич пошёл в сторону своего дома и лишь потом, обернувшись, понял: что это было то самое место, что и десять лет назад. Так и произошла встреча «на том же месте через десять лет».
Был обычный рабочий день Григорича. Всё то же: потёртое ружьё, одновременно оживлённая и пустая деревня, лес, пахнущий сыростью, крутой овраг, усыпанный старыми, торчащими из-под земли корнями сосен. Всё так же, по одному и тому же маршруту ходил нестарый лесник.
Александр Григорьевич известен в родной деревне как добрый сосед, к которому за помощью обращался каждый местный житель, справедливый лесник, любящий всех божьих тварей, кроме некоторых. А именно - людей: предпринимателей, что за скромную радость жизни закрывали глаза местным стражам порядка на бесконтрольную вырубку многовекового, родного Григоричу леса. Но отдельную нелюбовь питал лесник к искателям пушнины, рогов и прочей добычи с нелегальной, незаконной охоты – тем, кого называют браконьерами. Главная цель в работе Григорича – охранять природные богатства родного края от подобных губителей живого и прекрасного. Эту обязанность Григорич и выполнял в тот день, как казалось ему, по своему обыкновению. Ходил, собирал капканы, проходя тот самый опасный для любого пешехода овраг. Лесник внимательно смотрел под ноги, дабы не упасть, что случалось не так уж и редко, и размышлял. А размышлял о слухах, дошедших до него в деревне: «Что, мол, приезжали в соседнее поселение неподалёку люди неприятной и подозрительной наружности, не вселяющие доверие и имеющие неплохие охотничьи ружья, но слишком вычурные для обычной охоты на мелкого зверя».
Вот и отправился Александр Григорьевич проверять приближённую к той деревне местность, но не дошёл он и до середины оврага, как его будто током ударило: до него донеслись слабые стоны, до страшного похожие на детские. Лесник бросился по весьма крутому склону, не думая об аккуратности, но желая только одного: поскорее найти, помочь! Он быстро спустился и, пробираясь сквозь растущие у подножия оврага заросли диких шиповника и малины, с тревогой в голосе кричал имена мальчишек, часто гуляющих по лесу: «Олежа! Славка! Миша!..» С каждым шагом его сердце до боли сжималось от пугающей мысли: « Неужто кто-то из ребят попал в капкан?!»
Добравшись до источника мольбы о помощи, лесник не знал, что и думать: перед ним, извиваясь от боли, стоял трёх - четырёхмесячный медвежонок. Его передняя левая лапа была зажата до такой степени, что вся земля вокруг капкана была в частых, уже бурых пятнах крови. От увиденного сердце Григорича сжалось ещё сильнее, и он было дело хотел броситься на помощь бедняге, но вовремя опомнился, понимая, что медвежонок напуган и не доверится ему. Достав из кармана рабочей жилетки несколько кусочков сушёных яблок, какими он часто угощал птиц и белок, лесник почти шепчущим голосом произнёс: «Ну же, косолапый, успокойся». Пострадавший, будто чувствуя дружелюбие и ласку в словах Григорича и поддаваясь ощущению безвыходности, смирился, обнюхал широкую, пахнувшую не порохом, как у охотников, а грибами и пряниками руку. Он попятился назад, допуская лесника к пострадавшей конечности, умоляя всем свои видом о помощи. Не теряя ни минуты, лесник освободил лапу бедняги, но на этом оказание помощи было закончено, так как обременяемый болью медвежонок поспешил удалиться в чащу леса.
Что насчёт капкана, то виновные были наказаны. Кто и как был привлечён к ответственности, не имеет значения. Григорич в свою очередь снова провёл в школе беседу об опасностях в лесу. В этот раз ребята слушали его особенно внимательно, сгорая от любопытства: все хотели узнать о том, как произошла встреча Александра Григорьевича с медвежонком, о котором много говорили в деревне.
С того времени прошло десять лет. Жизнь лесника ничуть не изменилась: ружьё, лес, овраг, но уже полуопустевшая деревня: казалось бы, вчерашние школьники выросли и уехали в город за лучшей жизнью. Проходя всё тем же маршрутом, уже имеющий приличное для его возраста количество морщин Григорич улыбался прикормленным им двум синицам, воробью и чрезвычайно любопытной сороке, что имела наглость совать свой клюв в карман его уже потрёпанной, но всё так же тёплой жилетки, за сушёными яблоками. Казалось бы, с годами люди черствеют, словно корка чёрного хлеба, но не в случае с Александром Григорьевичем: с годами он душою вырос. Лесник остановился, достал из кармана полюбившиеся его крылатым друзьям яблоки, за что был окружён вниманием нетерпеливых птиц. Он наслаждался видом счастливых пернатых. Будучи глуховатым в силу уже неюного возраста да по причине частых простуд, Григорич не заметил сразу приближающуюся к нему лохматую, огромную фигуру. Когда же он увидел, было уже поздно: косолапый, совершенно смешной и нелепый в детских сказках и стихах зверь, в реальности не выглядел обаятельным и забавным. Один миг – и птицы покинули широкие плечи лесника, оставив его стоять один на один с хищником. Медведь медленно, но уверенно приближался к цели в тот момент, когда внимание Григорича было приковано к одной, выделяющейся особенности врага – искажённой передней лапе. Зверь ступал смело, но в его ходьбе была заметная хромота. Всего тридцать секунд - и между ними не было и двух метров. Лесник упёрся спиной к дереву и, уже предчувствуя неравный бой не на жизнь, а на смерть, где шансы выжить у него ниже мха, растущего возле корней того же дерева, закрыл глаза.
Минута… Две… И даже спустя три минуты, всё что он ощущал – это чьё-то дыхание. Лесник открыл глаза и, к его удивлению, он видел перед собой не свирепого хищника, а того самого беспомощного медвежонка, поверившего ему когда-то. Григорич, сам того не понимая, потянул свою широкую открытую ладонь к пушистой морде с блестящим чёрным носом, и… В ответ этот чёрный нос проделал не менее дружелюбный жест – потянулся и ткнулся в необычайно тёплую в тот момент ладонь лесника.
Спустя непродолжительное время медведь повернулся и побрёл в глубь малинника. Через минуту и Григорич пошёл в сторону своего дома и лишь потом, обернувшись, понял: что это было то самое место, что и десять лет назад. Так и произошла встреча «на том же месте через десять лет».
Калачева Милана. Фото из прошлого
Все мы, наверное, хотели когда-то вернуться в прошлое и изменить его. Казалось бы, всего одна деталь, одно неловкое движение в настоящем и уже серьезные последствия в будущем. Все мы мечтали найти ту самую машину времени и изменить свою жизнь, только вот никто так и не догадался, где ее искать. Никто, кроме одной девушки.
Камила - творческая и яркая личность, влюбленная в своё хобби – фотографию. Когда ее спрашивали, как ей удается делать такие красивые и живые фото, она, улыбаясь, отвечала, что все фотографы немного волшебники, ведь они могут останавливать прекрасные мгновения жизни. Камила знала, что в каждом искусстве есть свои тайны, о главном секрете фотографии Камиле пришлось узнать очень рано.
Лето. Редкий яркий солнечный день в Карелии. Камиле 14 лет, ее сестренке Эмилии исполнилось 10. Они проводят каникулы у бабушки в ее старом, но крепком деревенском доме, где самое интересное место – это чердак. Чего там только не найдешь! На этот раз находкой девочек стал устаревший папин фотоаппарат. Он был тяжелый и работал медленнее любой встроенной камеры на современном телефоне. Однако же работал! - Камила, Камила, пойдем скорее со мной! —воскликнула Эмилия и, взяв фотоаппарат, потянула сестру к калитке. - Эми, что случилось? Куда мы идем? – улыбнулась Камила.- Это секрет, —серьезно ответила девочка, — лучше под ноги смотри, сейчас начнется крутой подъем на скалу.
Когда девочки взобрались на гору, им открылся живописный вид на маленький водопад.- Здесь как всегда очень красиво, - заметила Камила. - Но куда ты так спешила, Эми? - Я хочу прийти сюда ночью и поискать ракурс для фотографий, когда светлячки прилетят и будут кружить около водопада, — выложила малышка.- Эми, что за глупости? — нахмурилась девушка. – Ты же знаешь, это небезопасно. - Ах, Ками, ты говоришь, как бабушка, — ответила девочка, после чего они направились домой.
Вечерело, за окном шел небольшой дождик, семья поужинала, и все отдыхали на удобном диване под легкими пледами. Камила совершенно забыла про небольшой спор с сестрой и даже подумать не могла, что та действительно пойдет в такую темень к водопаду, потому и не подумала предупредить взрослых.
На следующее утро маленькая девочка бесследно пропала, а недалеко от водопада нашли тот самый фотоаппарат. Старшая сестра знала, что Эми хотела пойти на скалу, и винила себя за то, что не остановила ее. Что бы только не отдала Камила, лишь бы повернуть время вспять. Вдруг она услышала родной голос:
- Камила, Ками!
- А? Эми? — не поверила девушка.
- Машина времени, — коротко ответила девочка.
- Что? — смутилась Камила.
- Камера, папина камера и таймер на ней.
- Я не понимаю, Эми, — недоумевала старшая из сестер.
- Хватит спать, Камила! — этими словами мама разбудила девушку. Сон прервался, и Камила не успела дослушать слова Эмилии.«Какая машина времени? Какая камера… Камера! Камера, которую нашли на склоне!» - поняла Камила и пошла на чердак, где нашла ту самую, потрепанную годами камеру, на которой были лишь детские фотографии девочек. Камила аккуратно достала фотоаппарат и начала его включать. Каково было ее удивление, когда на последней фотографии она увидела Эмилию, она стояла около водопада и глазами ловила светлячка.- Хм, причем тут была машина времени из сна? Снять себя она могла только на таймер, про который и говорила мне, точно! — обрадовалась девушка. - Таймер, сон, эта камера, неужели это можно назвать машиной времени? Ладно, надо почитать статьи и придумать что-нибудь.
Всю ночь Камила читала разные публикации на эту тему, слушала лекции и старалась не уснуть, лишь бы вернуть сестру домой. Наутро она всё же нашла ответы на свои вопросы. Старый фотоаппарат был машиной времени! Очевидно, Эми застряла в прошлом. Самое главное – ее можно было еще спасти, только бы сетренка не успела никуда уйти от водопада и не задела случайно каких-то живых существ рядом, ведь тогда мог бы нарушится временной цикл и мир уже не был бы прежним.
Едва начало темнеть, Камила поспешила на склон и установила штатив.- Так, в камере осталось места лишь на одно фото, значит, у меня всего одна попытка, — тихонько проговорила Камила себе под нос, устанавливая таймер. Потом она быстро заняла нужное место, и три, два, один - вспышка!- Ками! — воскликнула Эмилия. - Ты тоже пришла посмотреть на водопад? - Эми?.. А, да, да, я пришла тоже посмотреть на него, очень понравился, — помедлила Камила.- Отлично, вставай со мной, я как раз хотела сделать фотографию, — сказала девочка. - Ой, смотри какой светлячок, — сказала Эмилия, чуть не дотронувшись до него.- Стой! — тут же воскликнула Камила. - Не трогай его, давай лучше посмотрим на него издалека, вдруг он испугается, — старалась объяснить старшая сестра.-Хорошо, — согласилась Эми.Снова подойдя к камере, Камила перенастроила таймер. Ноль, один, два, три – вспышка! - О, фотография уже готова, — проговорила Эмилия, подбегая к камере. - Смотри, она такая красивая.
Фотография была точно такой же, как та, что уже видела Камила, однако теперь на ней были запечатлены обе сестры. Значит, что всё сработало, мы дома?- Да, Эми, она очень красивая, давай поставим дома ее в рамочку? — улыбнулась Камила.- Отличная идея, Ками! Пошли домой?- Идём.
В доме было тихо и темно, лишь свет луны пробивался через занавески. Камила сразу же выкинула карту памяти из камеры, оставив лишь последний снимок с Эмилией, а саму камеру убрала на чердак, надеясь, что больше перемещений во времени не будет.
После этого летнего приключения Камила поняла, что умение фотографа останавливать мгновение не просто метафора, ведь она сама держала машину времени в своих руках.
Все мы, наверное, хотели когда-то вернуться в прошлое и изменить его. Казалось бы, всего одна деталь, одно неловкое движение в настоящем и уже серьезные последствия в будущем. Все мы мечтали найти ту самую машину времени и изменить свою жизнь, только вот никто так и не догадался, где ее искать. Никто, кроме одной девушки.
Камила - творческая и яркая личность, влюбленная в своё хобби – фотографию. Когда ее спрашивали, как ей удается делать такие красивые и живые фото, она, улыбаясь, отвечала, что все фотографы немного волшебники, ведь они могут останавливать прекрасные мгновения жизни. Камила знала, что в каждом искусстве есть свои тайны, о главном секрете фотографии Камиле пришлось узнать очень рано.
Лето. Редкий яркий солнечный день в Карелии. Камиле 14 лет, ее сестренке Эмилии исполнилось 10. Они проводят каникулы у бабушки в ее старом, но крепком деревенском доме, где самое интересное место – это чердак. Чего там только не найдешь! На этот раз находкой девочек стал устаревший папин фотоаппарат. Он был тяжелый и работал медленнее любой встроенной камеры на современном телефоне. Однако же работал! - Камила, Камила, пойдем скорее со мной! —воскликнула Эмилия и, взяв фотоаппарат, потянула сестру к калитке. - Эми, что случилось? Куда мы идем? – улыбнулась Камила.- Это секрет, —серьезно ответила девочка, — лучше под ноги смотри, сейчас начнется крутой подъем на скалу.
Когда девочки взобрались на гору, им открылся живописный вид на маленький водопад.- Здесь как всегда очень красиво, - заметила Камила. - Но куда ты так спешила, Эми? - Я хочу прийти сюда ночью и поискать ракурс для фотографий, когда светлячки прилетят и будут кружить около водопада, — выложила малышка.- Эми, что за глупости? — нахмурилась девушка. – Ты же знаешь, это небезопасно. - Ах, Ками, ты говоришь, как бабушка, — ответила девочка, после чего они направились домой.
Вечерело, за окном шел небольшой дождик, семья поужинала, и все отдыхали на удобном диване под легкими пледами. Камила совершенно забыла про небольшой спор с сестрой и даже подумать не могла, что та действительно пойдет в такую темень к водопаду, потому и не подумала предупредить взрослых.
На следующее утро маленькая девочка бесследно пропала, а недалеко от водопада нашли тот самый фотоаппарат. Старшая сестра знала, что Эми хотела пойти на скалу, и винила себя за то, что не остановила ее. Что бы только не отдала Камила, лишь бы повернуть время вспять. Вдруг она услышала родной голос:
- Камила, Ками!
- А? Эми? — не поверила девушка.
- Машина времени, — коротко ответила девочка.
- Что? — смутилась Камила.
- Камера, папина камера и таймер на ней.
- Я не понимаю, Эми, — недоумевала старшая из сестер.
- Хватит спать, Камила! — этими словами мама разбудила девушку. Сон прервался, и Камила не успела дослушать слова Эмилии.«Какая машина времени? Какая камера… Камера! Камера, которую нашли на склоне!» - поняла Камила и пошла на чердак, где нашла ту самую, потрепанную годами камеру, на которой были лишь детские фотографии девочек. Камила аккуратно достала фотоаппарат и начала его включать. Каково было ее удивление, когда на последней фотографии она увидела Эмилию, она стояла около водопада и глазами ловила светлячка.- Хм, причем тут была машина времени из сна? Снять себя она могла только на таймер, про который и говорила мне, точно! — обрадовалась девушка. - Таймер, сон, эта камера, неужели это можно назвать машиной времени? Ладно, надо почитать статьи и придумать что-нибудь.
Всю ночь Камила читала разные публикации на эту тему, слушала лекции и старалась не уснуть, лишь бы вернуть сестру домой. Наутро она всё же нашла ответы на свои вопросы. Старый фотоаппарат был машиной времени! Очевидно, Эми застряла в прошлом. Самое главное – ее можно было еще спасти, только бы сетренка не успела никуда уйти от водопада и не задела случайно каких-то живых существ рядом, ведь тогда мог бы нарушится временной цикл и мир уже не был бы прежним.
Едва начало темнеть, Камила поспешила на склон и установила штатив.- Так, в камере осталось места лишь на одно фото, значит, у меня всего одна попытка, — тихонько проговорила Камила себе под нос, устанавливая таймер. Потом она быстро заняла нужное место, и три, два, один - вспышка!- Ками! — воскликнула Эмилия. - Ты тоже пришла посмотреть на водопад? - Эми?.. А, да, да, я пришла тоже посмотреть на него, очень понравился, — помедлила Камила.- Отлично, вставай со мной, я как раз хотела сделать фотографию, — сказала девочка. - Ой, смотри какой светлячок, — сказала Эмилия, чуть не дотронувшись до него.- Стой! — тут же воскликнула Камила. - Не трогай его, давай лучше посмотрим на него издалека, вдруг он испугается, — старалась объяснить старшая сестра.-Хорошо, — согласилась Эми.Снова подойдя к камере, Камила перенастроила таймер. Ноль, один, два, три – вспышка! - О, фотография уже готова, — проговорила Эмилия, подбегая к камере. - Смотри, она такая красивая.
Фотография была точно такой же, как та, что уже видела Камила, однако теперь на ней были запечатлены обе сестры. Значит, что всё сработало, мы дома?- Да, Эми, она очень красивая, давай поставим дома ее в рамочку? — улыбнулась Камила.- Отличная идея, Ками! Пошли домой?- Идём.
В доме было тихо и темно, лишь свет луны пробивался через занавески. Камила сразу же выкинула карту памяти из камеры, оставив лишь последний снимок с Эмилией, а саму камеру убрала на чердак, надеясь, что больше перемещений во времени не будет.
После этого летнего приключения Камила поняла, что умение фотографа останавливать мгновение не просто метафора, ведь она сама держала машину времени в своих руках.
Машаро Полина. С любовью, Люба
Март — это совсем не значит, что уже весна. У нас это значит, что можно думать о весне, готовиться к ней, но ни в коем случае не считать, что она уже наступила. Хотя бывают такие мартовские дни, когда солнце такое яркое-яркое, и грязь под ногами весело хлюпает, и верить хочется только в самое хорошее и доброе — например, что школу отменят, танцевальный кружок распустят, и можно будет спать до обеда и гулять целыми днями.
Мы с Любой шли домой из школы. Жили мы в одном районе, и чтобы попасть в этот район, нам приходилось каждый день преодолевать путь длиною сорок минут и два километра. Что входило в эти четыре десятых часа (две пятых, если сократить дробь) и две тысячи с лишнем метров — тема для отдельной книги. Два километра каждый день — это 730 километров в год. Существуют, конечно, выходные и каникулы, но мы ведь ещё ходили вместе на танцы. А летом — гулять. 730 километров — невозможно не стать самыми близкими друзьями, пройдя вместе такое сумасшедшее расстояние. А ходили мы вместе не один год.
— В мрачном районе живём, — сказала Любка.
Я согласно кивнула. Мы шли мимо большого городского кладбища. Обе гнусавые — простудились, когда катались с горки без шапок, с семикилограммовыми рюкзаками — у неё с котёнком, у меня с диснеевскими принцессами. Так и шли вдоль кладбищенской оградки, хлюпающие носами, придавленные к земле тяжестью учебников третьего класса.
— Люба, вот зачем церквям золотые купола?
— Чтоб красиво.
— А почему они не могут их продать и деньги отдать больным детям?
— Не знаю, мне всё равно, — Я немного обиделась, потому что обычно этот вопрос вгонял в глубоких моральный кризис всех моих сверстников. — У нашей церкви купол вообще голубой.
Я оглянулась. Действительно, среди тёмных чёрточек крестов — молчаливая
белая церковь. И купол синий-синий, сливающийся с небом.
Кроме общих парты и района нас с Любой объединяла тяготящая душу обязанность три раза в неделю ходить на танцы — и абсолютная и искренняя ненависть к этому занятию. Хотя сейчас мне даже кажется, что Любе иногда нравилось «тянуть носочки», садиться на шпагаты и крутить колёса в большом холодном зале. Меня же просто тошнило от криков хореографа, тугих пучков, после которых болит голова, и бесконечного топота тридцати пар ног в одинаковых чёрных чешках.
Мы всегда стояли во второй линии. Люба — потому что была худая и длинная, как каланча, я — потому что танцевала неплохо, но с очень недовольным лицом. Один раз нас разделили на пары для какого-то номера. В каждой паре была низкая девочка («младшая сестра») и высокая («старшая сестра»). Мне, конечно, досталась роль младшей сестры, у которой старшая (Люба) должна в ходе танца отобрать куклу. Перед выступлением в доме культуры нас нарядили в розовые и голубые наряды. Я в малиновой юбке я стала похожа на гламурного колобка, а бледная и светленькая Люба в голубом купальнике выглядела как загадочная фея воды. Не знаю, почему меня так сильно это расстроило, но когда на сцене наступил момент отдавать куклу «старшей сестре», я вцепилась в неё мертвой хваткой, и Любе пришлось силой отдирать от меня реквизит. Это был первый раз, когда мы серьезно поссорились. Люба назвала меня надутой дурой и гномом, я её — скелетом и козой. Неделю мы пытались найти новых подруг, но потом поняли, что без друг друга жизни нам нет, и помирились. Больше мы не ссорились никогда. Был случай, когда нам обеим понравился парень из старшего класса. Меня он не замечал, зато Любе подарил букет незабудок. Но она, видя мои страдания, великодушно уступила. Правда, он все равно ничего не ответил на мои романтические записки со стихами. А стихи были исключительные: «Люблю твой голос нежный, Ты сам как будто снежный. Лелею я надежду, Что вместе будем мы». Или вот ещё: «Я знаю, что любишь другую. И вместе нам не бывать. Я от тебя кочую, Я буду тебя забывать».
Летом мы на неделю-две уезжали в посёлок городского типа, к Любкиной бабушке. Чудесное, славное время без школы и танцев! Мы жили на пятом этаже хрущёвки, стреляли с водяного пистолета в прохожих, бегали купаться на озеро и узнавали много новых слов от местной шпаны. Бабушка у Любы была очень набожная. Она часто спрашивала у нас:
— Девочки, вы молитесь?
— Да, — хором врали мы.
— Молодцы. Всегда нужно молиться.
А ночью мы лежали в обнимку на раскладном диване и перешептывались.
— Ты веришь в Бога?
— Не знаю. Нельзя не верить.
— Почему?
— Потому что если Бог есть, ты попадёшь в ад.
— Мне кажется, я уже точно попаду в ад.
— Почему?
— Потому что я много согрешила.
— Я тоже много согрешила.
Сразу становилось очень жутко. А утром проснёшься — ничего, все прошло, как наваждение.
Это началось зимой одиннадцатого класса. Люба сильно похудела, сначала стала пропускать уроки, потом совсем перестала ходить в школу. Не дозвониться, не достучаться. Просто пропала. Исчезла, как будто не было. Мне надо было сдавать экзамены. Я боялась не поступить. Я конечно, пробовала ходить к ним домой. В апреле пришла. Звонила в дверь, наверное, минут десять. Открыла её мама, посеревшая и поседевшая, сказала, что Любы нет дома. Я пошла обратно домой. Готовиться к экзаменам.
Уже в июне всё стало понятно. Разлетелась слухи. Она сама ко мне пришла. Ждала у школы, пока я сдавала математику. На неё страшно было смотреть — весила не больше сорока килограммов. На лице остались одни губы. И синяки под глазами. Под прозрачной кожей. Она вся была какая-то полупрозрачная. Казалось, сейчас дунет ветер, и растворится в воздухе, распадётся на атомы.
— Я уезжаю.
— Куда ты уезжаешь, Люба?
— Лечиться. В Питер.
— А у нас?..
— У нас такое не лечат.
— А что же теперь будет? Как школа, экзамены…
Она пожала плечами и мягко, безразлично улыбнулась.
— Надолго?
— Надолго.
Мы обнялись в последний раз.
Летом она не писала и не отвечала на звонки. Я знала, что там забирают телефоны. В июле я случайно увидела её бабушку. Маленькая, сгорбленная, в платочке. Сидела на скамейке в парке. Сказала, что приехала к дочке. И что за Любу теперь надо молиться. В тот день я помолилась в первый раз в жизни. Встала на колени, плакала и просила о «силах для исцеления».
Потом поступила в университет и переехала. В ноябре узнала, что Люба умерла. После лечения осталась в Питере у знакомых, затерялась среди большого города и не вернулась. Все шёпотом говорили страшное слово «сторчалась». Разве можно так говорить о моей Любе? Сначала я обижалась, что она ушла от меня и ничего не сказала. Потом смирилась. Начала думать, что на самом деле никогда её по-настоящему не знала. Внезапно передали письмо от неё. Длинное, с ошибками и помарками, всё в подтёках пасты. Честно, большинство слов я даже не смогла разобрать. Только в конце подпись «С любовью, Люба».
После первой сессии вернулась домой, пошла посмотреть на ее могилу. Её похоронили на нашем кладбище, у нашей церкви с голубым куполом. Странно было думать, что я тут, наверху, живая. Дышу — и пар изо рта идёт. А она там, лежит под землей, как под тяжёлым пуховым одеялом, и больше никогда никуда не пойдёт. А я буду жить, взрослеть, стареть. Её крест такой же, как все другие. Чёрные чёрточки на снегу. А посередине — церковь с голубым куполом. Такой синий-синий купол, как будто хочет слиться с небом, но никак — небо сегодня пасмурное.
Март — это совсем не значит, что уже весна. У нас это значит, что можно думать о весне, готовиться к ней, но ни в коем случае не считать, что она уже наступила. Хотя бывают такие мартовские дни, когда солнце такое яркое-яркое, и грязь под ногами весело хлюпает, и верить хочется только в самое хорошее и доброе — например, что школу отменят, танцевальный кружок распустят, и можно будет спать до обеда и гулять целыми днями.
Мы с Любой шли домой из школы. Жили мы в одном районе, и чтобы попасть в этот район, нам приходилось каждый день преодолевать путь длиною сорок минут и два километра. Что входило в эти четыре десятых часа (две пятых, если сократить дробь) и две тысячи с лишнем метров — тема для отдельной книги. Два километра каждый день — это 730 километров в год. Существуют, конечно, выходные и каникулы, но мы ведь ещё ходили вместе на танцы. А летом — гулять. 730 километров — невозможно не стать самыми близкими друзьями, пройдя вместе такое сумасшедшее расстояние. А ходили мы вместе не один год.
— В мрачном районе живём, — сказала Любка.
Я согласно кивнула. Мы шли мимо большого городского кладбища. Обе гнусавые — простудились, когда катались с горки без шапок, с семикилограммовыми рюкзаками — у неё с котёнком, у меня с диснеевскими принцессами. Так и шли вдоль кладбищенской оградки, хлюпающие носами, придавленные к земле тяжестью учебников третьего класса.
— Люба, вот зачем церквям золотые купола?
— Чтоб красиво.
— А почему они не могут их продать и деньги отдать больным детям?
— Не знаю, мне всё равно, — Я немного обиделась, потому что обычно этот вопрос вгонял в глубоких моральный кризис всех моих сверстников. — У нашей церкви купол вообще голубой.
Я оглянулась. Действительно, среди тёмных чёрточек крестов — молчаливая
белая церковь. И купол синий-синий, сливающийся с небом.
Кроме общих парты и района нас с Любой объединяла тяготящая душу обязанность три раза в неделю ходить на танцы — и абсолютная и искренняя ненависть к этому занятию. Хотя сейчас мне даже кажется, что Любе иногда нравилось «тянуть носочки», садиться на шпагаты и крутить колёса в большом холодном зале. Меня же просто тошнило от криков хореографа, тугих пучков, после которых болит голова, и бесконечного топота тридцати пар ног в одинаковых чёрных чешках.
Мы всегда стояли во второй линии. Люба — потому что была худая и длинная, как каланча, я — потому что танцевала неплохо, но с очень недовольным лицом. Один раз нас разделили на пары для какого-то номера. В каждой паре была низкая девочка («младшая сестра») и высокая («старшая сестра»). Мне, конечно, досталась роль младшей сестры, у которой старшая (Люба) должна в ходе танца отобрать куклу. Перед выступлением в доме культуры нас нарядили в розовые и голубые наряды. Я в малиновой юбке я стала похожа на гламурного колобка, а бледная и светленькая Люба в голубом купальнике выглядела как загадочная фея воды. Не знаю, почему меня так сильно это расстроило, но когда на сцене наступил момент отдавать куклу «старшей сестре», я вцепилась в неё мертвой хваткой, и Любе пришлось силой отдирать от меня реквизит. Это был первый раз, когда мы серьезно поссорились. Люба назвала меня надутой дурой и гномом, я её — скелетом и козой. Неделю мы пытались найти новых подруг, но потом поняли, что без друг друга жизни нам нет, и помирились. Больше мы не ссорились никогда. Был случай, когда нам обеим понравился парень из старшего класса. Меня он не замечал, зато Любе подарил букет незабудок. Но она, видя мои страдания, великодушно уступила. Правда, он все равно ничего не ответил на мои романтические записки со стихами. А стихи были исключительные: «Люблю твой голос нежный, Ты сам как будто снежный. Лелею я надежду, Что вместе будем мы». Или вот ещё: «Я знаю, что любишь другую. И вместе нам не бывать. Я от тебя кочую, Я буду тебя забывать».
Летом мы на неделю-две уезжали в посёлок городского типа, к Любкиной бабушке. Чудесное, славное время без школы и танцев! Мы жили на пятом этаже хрущёвки, стреляли с водяного пистолета в прохожих, бегали купаться на озеро и узнавали много новых слов от местной шпаны. Бабушка у Любы была очень набожная. Она часто спрашивала у нас:
— Девочки, вы молитесь?
— Да, — хором врали мы.
— Молодцы. Всегда нужно молиться.
А ночью мы лежали в обнимку на раскладном диване и перешептывались.
— Ты веришь в Бога?
— Не знаю. Нельзя не верить.
— Почему?
— Потому что если Бог есть, ты попадёшь в ад.
— Мне кажется, я уже точно попаду в ад.
— Почему?
— Потому что я много согрешила.
— Я тоже много согрешила.
Сразу становилось очень жутко. А утром проснёшься — ничего, все прошло, как наваждение.
Это началось зимой одиннадцатого класса. Люба сильно похудела, сначала стала пропускать уроки, потом совсем перестала ходить в школу. Не дозвониться, не достучаться. Просто пропала. Исчезла, как будто не было. Мне надо было сдавать экзамены. Я боялась не поступить. Я конечно, пробовала ходить к ним домой. В апреле пришла. Звонила в дверь, наверное, минут десять. Открыла её мама, посеревшая и поседевшая, сказала, что Любы нет дома. Я пошла обратно домой. Готовиться к экзаменам.
Уже в июне всё стало понятно. Разлетелась слухи. Она сама ко мне пришла. Ждала у школы, пока я сдавала математику. На неё страшно было смотреть — весила не больше сорока килограммов. На лице остались одни губы. И синяки под глазами. Под прозрачной кожей. Она вся была какая-то полупрозрачная. Казалось, сейчас дунет ветер, и растворится в воздухе, распадётся на атомы.
— Я уезжаю.
— Куда ты уезжаешь, Люба?
— Лечиться. В Питер.
— А у нас?..
— У нас такое не лечат.
— А что же теперь будет? Как школа, экзамены…
Она пожала плечами и мягко, безразлично улыбнулась.
— Надолго?
— Надолго.
Мы обнялись в последний раз.
Летом она не писала и не отвечала на звонки. Я знала, что там забирают телефоны. В июле я случайно увидела её бабушку. Маленькая, сгорбленная, в платочке. Сидела на скамейке в парке. Сказала, что приехала к дочке. И что за Любу теперь надо молиться. В тот день я помолилась в первый раз в жизни. Встала на колени, плакала и просила о «силах для исцеления».
Потом поступила в университет и переехала. В ноябре узнала, что Люба умерла. После лечения осталась в Питере у знакомых, затерялась среди большого города и не вернулась. Все шёпотом говорили страшное слово «сторчалась». Разве можно так говорить о моей Любе? Сначала я обижалась, что она ушла от меня и ничего не сказала. Потом смирилась. Начала думать, что на самом деле никогда её по-настоящему не знала. Внезапно передали письмо от неё. Длинное, с ошибками и помарками, всё в подтёках пасты. Честно, большинство слов я даже не смогла разобрать. Только в конце подпись «С любовью, Люба».
После первой сессии вернулась домой, пошла посмотреть на ее могилу. Её похоронили на нашем кладбище, у нашей церкви с голубым куполом. Странно было думать, что я тут, наверху, живая. Дышу — и пар изо рта идёт. А она там, лежит под землей, как под тяжёлым пуховым одеялом, и больше никогда никуда не пойдёт. А я буду жить, взрослеть, стареть. Её крест такой же, как все другие. Чёрные чёрточки на снегу. А посередине — церковь с голубым куполом. Такой синий-синий купол, как будто хочет слиться с небом, но никак — небо сегодня пасмурное.
Большакова Алёна. На мосту
Глубокая ночь. Неистовый дождь стучал по крышам домов, улицам, зонтам редких прохожих, водной глади, застилал взгляд. Промозглый ветер всё норовил забраться под моё пальто, неприятно холодя спину. Но я всё равно стою здесь: на том же самом мосту - спустя десять лет. Знаешь, я ведь не могла не прийти: это же наше место! Ты помнишь, как это было? Ох, стоит мне закрыть глаза, как передо мной плывут, словно в замедленной съёмке, образы, силуэты, эмоции. Такие яркие, живые. Они словно даруют мне второе, третье, четвёртое дыхание и заставляют жить. Вот я бегу по мосту, пытаясь укрыться от дождя, ты облокотился на перила и не замечаешь ничего. Вот я поскальзываюсь и в попытке ухватиться за что-нибудь цепляюсь за твою куртку. Вот мы вдвоём падаем в лужу. Как же тогда было стыдно, можешь себе представить! Но ты засмеялся, и мне тоже стало весело. Пригласила тебя к себе (дом совсем рядом, вещи просушим, надо же было как-то извиниться), выпили чаю и просидели до утра на моей кухне, обсуждая всё на свете. Это был самый лучший день в моей жизни! Я думала, что это судьба.
Мы встречались каждый четверг на этом самом месте. Ты оказался таким интересным. Мог рассказать как биографию любого известного художника, так и абсолютно примитивный каламбур. Но ты делал это с таким энтузиазмом, что даже самая заезженная шутка казалась верхом остроумия. Благодаря тебе я полюбила классическую музыку (серьёзно, до тебя в моём плейлисте был только рок!). Ты водил меня в кино и театры, галереи и музеи. А совместные просмотры фильмов в твоей квартире? Помнишь, как это было? Старенький проектор, транслирующий картинку на пустую белую стену, уютный беспорядок в комнате, чашки горячего чёрного чая с ягодным запахом… А ведь я раньше пила только кофе. Читали и обсуждали каждую книгу, попавшую в наши руки. Выезжали за город и устраивали пикники. Встречали рассветы и закаты. Я думала, что счастлива.
Каждый четверг на этом месте ты целовал мои руки, рассказывая, насколько я красива. Ты был первым, кто говорил мне столько комплиментов. Помог побороть мою стеснительность и выйти на сцену. Научил говорить «нет» и любить себя. Сделал меня свободной. Ты был готов прийти ко мне в любую погоду и время года. Ха-ха, вспоминаю, как однажды, пока я болела, ты обежал весь район во время метели в поисках нужных лекарств. Таблетки в итоге нам пришлось делить уже на двоих, но ты выглядел тогда таким счастливым… Меня всегда удивляло, что на все мои предложения о помощи я получала от тебя отказ. Это обижало: неужто я настолько бесполезна, что не могу никак отплатить за твою доброту? Но ты убеждал, что тебе достаточно моей компании. Продолжал улыбаться так искренне и нежно, что я верила тебе. Я думала, что всегда буду рядом с тобой. Думала, что и ты тоже.
Очередной вечер четверга. Ты позвал меня встретиться в последний раз. Я не верила. Казалось, что это просто глупая шутка. Розыгрыш. Но на мосту тебя не было. Только привязанный к перилам букет с запиской: «Прости меня». Я прождала час. Два. Три. Но тебя всё не было. Не прощу. Я винила тебя. Была готова ругаться, кричать. Ты привязал меня к себе и задушил. Ушёл, ничего не объяснив! Почему? Ты нашёл кого-то лучше меня? Или просто наигрался?! Почему нельзя было сначала поговорить… К чёрту! Букет летит в реку. Я ушла домой. Разбитая. Пустая. А ты всё это время был рядом. Под мостом.
Твоё тело выловили в реке через три дня. Ты спрыгнул с моста. Нашего моста. Скажи же, что я сделала не так? Меня было недостаточно? Я что-то не заметила? Не сказала? Или меня, наоборот, было слишком много? Я навязывалась? Ты ведь так много улыбался. А я тебе верила. К чему было это враньё? Почему ты не сказал? Почему не поделился? Я бы поняла. Правда! Я же хотела помочь. Хотела быть рядом. Почему ты не захотел?..
Каждый четверг я ходила в кино и театры, галереи и музеи. Смотрела фильмы на стареньком проекторе, выводящем картинку на белую пустую стену. Пила горячий чёрный чай с ягодным ароматом. Слушала классику. Выезжала за город на пикники. Встречала рассветы и закаты. Читала все книги, попадавшие в мои руки, но… мне их было уже не с кем обсудить. Каждый четверг я приходила сюда, на этот чёртов мост, с букетом. Привязывала его к перилам с запиской: «Не прощу». Жаль, что ты их никогда не прочитаешь. Никогда не поцелуешь мои руки. Не скажешь, что я самая замечательная. Никогда не улыбнёшься – так искренне и нежно.
Прошло уже десять лет. Представляешь? Десять лет я пытаюсь научиться жить без тебя. Сейчас самое время сказать, что я отпустила, смогла оправиться, заполнила пустоту в сердце, но… я не умею врать. Это было долго и сложно. Я правда пыталась! Ходила к врачам, пила препараты, но всё равно продолжала видеть тебя в каждом прохожем, в углу комнаты, вдалеке на мосту. Это было похоже на пытку. Я хотела тебя отпустить, но ты не собирался отпускать меня.
Ровно десять лет назад на этом месте родилась наша любовь.
Сегодня она умрёт. Через десять лет. На том же самом месте.
Глубокая ночь. Неистовый дождь стучал по крышам домов, улицам, зонтам редких прохожих, водной глади, застилал взгляд. Промозглый ветер всё норовил забраться под чьё-нибудь пальто, неприятно холодя спину. Фонари слабо освещали перила моста с привязанным к ним букетом с запиской: «Я простила».
Глубокая ночь. Неистовый дождь стучал по крышам домов, улицам, зонтам редких прохожих, водной глади, застилал взгляд. Промозглый ветер всё норовил забраться под моё пальто, неприятно холодя спину. Но я всё равно стою здесь: на том же самом мосту - спустя десять лет. Знаешь, я ведь не могла не прийти: это же наше место! Ты помнишь, как это было? Ох, стоит мне закрыть глаза, как передо мной плывут, словно в замедленной съёмке, образы, силуэты, эмоции. Такие яркие, живые. Они словно даруют мне второе, третье, четвёртое дыхание и заставляют жить. Вот я бегу по мосту, пытаясь укрыться от дождя, ты облокотился на перила и не замечаешь ничего. Вот я поскальзываюсь и в попытке ухватиться за что-нибудь цепляюсь за твою куртку. Вот мы вдвоём падаем в лужу. Как же тогда было стыдно, можешь себе представить! Но ты засмеялся, и мне тоже стало весело. Пригласила тебя к себе (дом совсем рядом, вещи просушим, надо же было как-то извиниться), выпили чаю и просидели до утра на моей кухне, обсуждая всё на свете. Это был самый лучший день в моей жизни! Я думала, что это судьба.
Мы встречались каждый четверг на этом самом месте. Ты оказался таким интересным. Мог рассказать как биографию любого известного художника, так и абсолютно примитивный каламбур. Но ты делал это с таким энтузиазмом, что даже самая заезженная шутка казалась верхом остроумия. Благодаря тебе я полюбила классическую музыку (серьёзно, до тебя в моём плейлисте был только рок!). Ты водил меня в кино и театры, галереи и музеи. А совместные просмотры фильмов в твоей квартире? Помнишь, как это было? Старенький проектор, транслирующий картинку на пустую белую стену, уютный беспорядок в комнате, чашки горячего чёрного чая с ягодным запахом… А ведь я раньше пила только кофе. Читали и обсуждали каждую книгу, попавшую в наши руки. Выезжали за город и устраивали пикники. Встречали рассветы и закаты. Я думала, что счастлива.
Каждый четверг на этом месте ты целовал мои руки, рассказывая, насколько я красива. Ты был первым, кто говорил мне столько комплиментов. Помог побороть мою стеснительность и выйти на сцену. Научил говорить «нет» и любить себя. Сделал меня свободной. Ты был готов прийти ко мне в любую погоду и время года. Ха-ха, вспоминаю, как однажды, пока я болела, ты обежал весь район во время метели в поисках нужных лекарств. Таблетки в итоге нам пришлось делить уже на двоих, но ты выглядел тогда таким счастливым… Меня всегда удивляло, что на все мои предложения о помощи я получала от тебя отказ. Это обижало: неужто я настолько бесполезна, что не могу никак отплатить за твою доброту? Но ты убеждал, что тебе достаточно моей компании. Продолжал улыбаться так искренне и нежно, что я верила тебе. Я думала, что всегда буду рядом с тобой. Думала, что и ты тоже.
Очередной вечер четверга. Ты позвал меня встретиться в последний раз. Я не верила. Казалось, что это просто глупая шутка. Розыгрыш. Но на мосту тебя не было. Только привязанный к перилам букет с запиской: «Прости меня». Я прождала час. Два. Три. Но тебя всё не было. Не прощу. Я винила тебя. Была готова ругаться, кричать. Ты привязал меня к себе и задушил. Ушёл, ничего не объяснив! Почему? Ты нашёл кого-то лучше меня? Или просто наигрался?! Почему нельзя было сначала поговорить… К чёрту! Букет летит в реку. Я ушла домой. Разбитая. Пустая. А ты всё это время был рядом. Под мостом.
Твоё тело выловили в реке через три дня. Ты спрыгнул с моста. Нашего моста. Скажи же, что я сделала не так? Меня было недостаточно? Я что-то не заметила? Не сказала? Или меня, наоборот, было слишком много? Я навязывалась? Ты ведь так много улыбался. А я тебе верила. К чему было это враньё? Почему ты не сказал? Почему не поделился? Я бы поняла. Правда! Я же хотела помочь. Хотела быть рядом. Почему ты не захотел?..
Каждый четверг я ходила в кино и театры, галереи и музеи. Смотрела фильмы на стареньком проекторе, выводящем картинку на белую пустую стену. Пила горячий чёрный чай с ягодным ароматом. Слушала классику. Выезжала за город на пикники. Встречала рассветы и закаты. Читала все книги, попадавшие в мои руки, но… мне их было уже не с кем обсудить. Каждый четверг я приходила сюда, на этот чёртов мост, с букетом. Привязывала его к перилам с запиской: «Не прощу». Жаль, что ты их никогда не прочитаешь. Никогда не поцелуешь мои руки. Не скажешь, что я самая замечательная. Никогда не улыбнёшься – так искренне и нежно.
Прошло уже десять лет. Представляешь? Десять лет я пытаюсь научиться жить без тебя. Сейчас самое время сказать, что я отпустила, смогла оправиться, заполнила пустоту в сердце, но… я не умею врать. Это было долго и сложно. Я правда пыталась! Ходила к врачам, пила препараты, но всё равно продолжала видеть тебя в каждом прохожем, в углу комнаты, вдалеке на мосту. Это было похоже на пытку. Я хотела тебя отпустить, но ты не собирался отпускать меня.
Ровно десять лет назад на этом месте родилась наша любовь.
Сегодня она умрёт. Через десять лет. На том же самом месте.
Глубокая ночь. Неистовый дождь стучал по крышам домов, улицам, зонтам редких прохожих, водной глади, застилал взгляд. Промозглый ветер всё норовил забраться под чьё-нибудь пальто, неприятно холодя спину. Фонари слабо освещали перила моста с привязанным к ним букетом с запиской: «Я простила».
Коржова Василиса. КотоПес
- Я стал собакой. Окончательно и бесповоротно. Как? Когда это произошло? Честно? Сам не знаю. Но началось с моей новой должности – председатель собачьей роты…
Расскажу немного о себе. С самого детства я мечтал стать военным. Солдатиками играл. После школы в военную котоакадемию поступил! Закончил с отличием! Был лучшим на курсе. Полосу препятствий с мышеловками за две минуты проходил! Автомат Кошкина за 30 секунд собирал. Мечтал, что вырасту, буду котов молодых военному делу обучать. А потом… не срослось.
Говорили мне: «Потяни пса за хвост, подожди распределения.» Но я молодой был, работать хотел, и как-никак, уже младший лейтенант котогвардии. Почётно. И предложили мне юнгой, в дальнее плавание. Уговаривали, мол: «Нужны отважные и смелые, морские котики - настоящая гроза морей!» Я и согласился.
Нелегко пришлось. Морская болезнь замучила. Один раз месяц в каюте просидел, все косточки отлежал. Воды боялся, даже смотреть на неё страшно, не то, что нырять или купаться. Палубу чистить ненавидел: нужно лапы в воде мочить! А я как-никак длинношерстный, сибирский кот, почти чистокровный! А как-то случай был: предложили мне, значит, трубку выкурить, посвящение у них такое в Морских котиков, значит. А я не трубку в лапы взял и подумал, что это устройство, чтобы под водой дышать. Решил, что испытание это, на храбрость. Взял я трубку и в море прыгнул, думаю, пусть утону, а никому не скажу, что плавать не умею! Стыдно, котята и те засмеют! Прыгаю и уже в полете думаю, почему другие не прыгнули и что они там в трубку насыпают? Итого: я чуть совсем не утоп, вся команда за хвост тащила меня, чуть совсем его не оторвали, и кличка с тех пор у меня – Титаник. Позор для моряка! Уходить хотел. В группе все уже подводные операции выполняли, я же только плавать учился… с кругом.
Когда домой приплыли, сразу пошёл и уволился. Распределили в котоспецназ. Там полгодика побыл и понял, что плохо мне без моря! Слишком дорого оно мне. Когда алый закат морской вспоминал, плакал. Когда шум волн в ракушках слушал, плакал. Когда на фотографии лазурного морюшка смотрел, рыдал. Отправился я тогда в ВКУ (высшее кошачье управление) и умолял меня обратно, на флот перевести. Перевели, поворчали правда, но всё же отправили на морскую службу. А там уж я и плавать научился и с трубкой разобрался. Палубу чистить полюбил (и лапы теперь намочить не боялся). На ночные закаты любовался, морской шум был мне лучше любой музыки. И вот так, десять лет на флоте! Полковник котогвардии Барсичкин, шкентель мне в шлюпку!
В один осенний (или зимний, память подводит, всё эти псы, зелень подкидная) день руководство ВКУ вызвало меня, полковника котогвардии, в главный офис. Сказали, что меня ждёт очень простая миссия – учить новобранцев-моряков. Странность, правда, была одна – никто на этом месте долго не задерживался. А я вот, опытный морской котяра, повёлся, как челюскинец! Мог же в отпуск уйти, предлагали ведь. Фок-грот-брамсель мне в левое ухо! Нет же, работать, работать! И давнюю мечту свою вспомнил – молодых котов военному делу обучать. Получил направление в какую-то глухую часть. Сказали, буду самым-самым-самым главным там – председателем роты! В тот же день стал к отъезду готовиться. Вещички собрал, морскую форму положил, самое главное, трубку, взял. Приехал, встречали меня там с почестями, рыба с молочком, как говорится.
Потом повели меня знакомиться с моими будущими подопечными. Счастливый был тогда слишком, сколько надежд, мыслей было. Зашёл в часть и чуть не упал… Оказалось, что под моим руководством будет собачья стая… Пса мне в пятку! Полностью из ЩЕНКОВ! Ни одного котёнка. Такого поворота я не ожидал! Вот и понял тогда, почему там «никто не задерживался». Удружили, нечего сказать!
Они мне: «Здр-р-равствуйте, това-р-р-р-ищ председатель!» Что за пресноводных моллюсков притащило? Разрази меня гром! Ещё и картавые. Как мне потом сказали, по большому секрету, прошлый председатель от этих рычащих сбежал, давления не выдержал. Но я подумал: я же не просто кот, я морской котище, справлюсь! Что мне эти псы? Установлю свои порядки, замяукают как миленькие! Не будь я полковником морской роты. Шкентель мне в шлюпку! Будут коты в собачьей шкуре. Отличные шпионы для внедрения в стан врага. КСБ меня званием отблагодарит и премию выпишет за таких молодцов.
Есть старинная поговорка у котов – путь к сознанию собак лежит через желудок. Вот я и решил начать с питания. Выяснилось, что на завтрак им давали куриные кости. Запретил я это баловство, медузу им в печень. Ввёл такое меню: мисочка молока на завтрак, три рыбных хрящика на обед и три сосиски на ужин. Через недельку будут хорошие котогвардейцы, подумал. И что же вы думаете? К концу следующей недели в части ни одной курочки не осталось, черви гальюнные! Всех съели! Пошёл к ним разбираться. Нельзя же такие проделки без внимания оставлять. Спросил у них: «Как же так получилось, что в части ни одной пернатой не видно и не слышно?» Они стали отговорки придумывать. Кто-то прорычал, что лиса забралась, кто-то протявкал, что им стало плохо в сарае, и они ушли искать лучших хозяев, один умник сказал, что птички улетели в тёплые края (загорать). В общем, кто во что горазд. Потом один из них, из какого-то закутка, достал куриную ножку. Дали мне её попробовать. «Нужно съесть и доказать им и самому себе, что рыба намного вкусней этого пернатого недоразумения,» - решил я. Собрался с силами. Поднёс к мордочке, облизнул. Погрыз (ох, что это я, пожевал). Впал в ступор. Какая гадость! Какая гадость эта ваша заливная рыба…- уже хотел сказать я… Но не сказал, незаметно для себя я просто с урчанием накинулся на ножку (Какой стыд! Воспитанные коты так себя не ведут! Но Вы ведь никому не скажете?)… Ножка оказалась вкусню-ю-ю-ю-щей! «Ладно, - думаю, - пищу оставим собачью» (вот тогда я и стал питаться не сметанкой, а куриными ножками).
Поняв, что пытаться поменять их сознание бесполезно, решил начать с физической подготовки. В здоровом теле здоровый дух! То есть, если у них будут кошачьи упражнения, то и мыслить они будут по-кошачьи. У меня созрел гениальный план. Сейчас у них физические упражнения – бесполезная беготня за палками и мячиками. А теперь… будут ловить красную точку! «Точно, - подумал я, - тогда они познают сущность котов, проникнуться, и агенты КСБ готовы!» Разработал методику, ввёл упражнение. Показал им верх мастерства, точнее своё мастерство. Они попыхтели, порычали немного. Очень старались. Но не усидчивые они. Не даётся им это упражнение. Не смогут долго в засаде просидеть. И? И они устроили бунт, гром и молния! В части решили не убирать. Не щенки, а поросята. «Обиделись»! Какие мы нежные! Требовали отменить красную точку. Ага, сейчас! Полковник Барсичкин просто так не сдастся. Решил им ответные меры ввести. Каждое утро пробегать десять километров, чтобы на обиды сил не оставалось. Неделю бегали. Честно признаться, на шестой день даже я бегать не пошёл - хвост прихватило (мне всё-таки не пять лет). Без меня собрались, пробежали, никто не отлынивал. Не гавкнули ни разу, будто чёрную метку проглотили. Но обиделись на меня ещё больше, греметь им вечность якорями!
Потом попытался пойти на компромисс. Чтобы красная точка была в виде мяча. Поначалу работало, а потом какой-то умник догадался приобщить меня к беготне за мячом. Не понравилось мне… Не понравилось мне, что я так думал, чтоб мне съесть ядовитую медузу! Очень интересно, между прочим, догнать мячик, а потом как прыгнуть на него, схватить, а тут тоже нужно проявить мастерство! Мяч чуть пережмешь зубами или когтями, а он: «Пуффф!» и лопнул, чтоб мне с мачты упасть! Это вам не с клубком играть, тысяча тухлых моллюсков! В общем, убедили они меня: вернули мячи и палки. И это стало вторым этапом моего превращения из кота в пса.
«Так дела не пойдут, - думаю,- надо что-то решать и срочно!» Позвонил знакомым. Посоветовали псов научить кошачьему диалекту. По-простому – мяукать. Месяц пытался, добросовестно. За каждое «гав» – пятьдесят кругов вокруг корпуса. За каждое «мяу», по делу сказанное – килограмм куриных костей. А всё равно лаяли все, прощелыги подкильные! Лаяли и бегали, бегали и лаяли! Аж голова кругом шла! И я, старый морской кот - полковник Барсичкин, чтобы показать, как резко, неблагозвучно и некрасиво звучит лай, начал гавкать. А потом благодаря лаю, подружился с ними, моими курсантами - щенками. Отличные малые оказались! Добрые, компанейские. И лаять мне понравилось: удобно, лаконично, как я люблю. Нужно что-либо приказать, сказал: «Гав» - кратко и ёмко, не сказал, а отрезал. Якорь мне в лапу! «Мяу» уже даже произносить неприятно, уж слишком много оттенков значений и переливов в этих тянущихся гласных.
И вот наступил день сдачи зачётов. Пришло время доказать всем, что мои бойцы не просто так свои кости глодали. Как же я был доволен и горд, что наша рота в общем зачёте первое место заняла! Самые дружные мы получились! А я-то поначалу их невзлюбил… Сокрушался: море на псов променял. Пугался, когда собачьи повадки в себе замечал!
А сегодня мне пришло письмо. Из ВКУ. В нём говорится, что переводят меня в другую часть: буду воспитывать морских свинок - взвод моряков-разведчиков... И вот не знаю, что теперь делать? На кого же оставлю мою стаю? А вдруг в свинку морскую превращусь? Кстати, кто это - «морские свинки» и что они едят? Не знаете? Ну уж нет, рисковать я больше не хочу! Кажется, я нашел свое место: я председатель роты псов!
И вообще, некогда мне этой ерундой заниматься, пойду мячом поиграю, а то совсем моя рота расслабилась, не видят, куда мяч летит!
Ничего без меня не могут! Всё-таки здесь председательствует кот. Гав!
- Я стал собакой. Окончательно и бесповоротно. Как? Когда это произошло? Честно? Сам не знаю. Но началось с моей новой должности – председатель собачьей роты…
Расскажу немного о себе. С самого детства я мечтал стать военным. Солдатиками играл. После школы в военную котоакадемию поступил! Закончил с отличием! Был лучшим на курсе. Полосу препятствий с мышеловками за две минуты проходил! Автомат Кошкина за 30 секунд собирал. Мечтал, что вырасту, буду котов молодых военному делу обучать. А потом… не срослось.
Говорили мне: «Потяни пса за хвост, подожди распределения.» Но я молодой был, работать хотел, и как-никак, уже младший лейтенант котогвардии. Почётно. И предложили мне юнгой, в дальнее плавание. Уговаривали, мол: «Нужны отважные и смелые, морские котики - настоящая гроза морей!» Я и согласился.
Нелегко пришлось. Морская болезнь замучила. Один раз месяц в каюте просидел, все косточки отлежал. Воды боялся, даже смотреть на неё страшно, не то, что нырять или купаться. Палубу чистить ненавидел: нужно лапы в воде мочить! А я как-никак длинношерстный, сибирский кот, почти чистокровный! А как-то случай был: предложили мне, значит, трубку выкурить, посвящение у них такое в Морских котиков, значит. А я не трубку в лапы взял и подумал, что это устройство, чтобы под водой дышать. Решил, что испытание это, на храбрость. Взял я трубку и в море прыгнул, думаю, пусть утону, а никому не скажу, что плавать не умею! Стыдно, котята и те засмеют! Прыгаю и уже в полете думаю, почему другие не прыгнули и что они там в трубку насыпают? Итого: я чуть совсем не утоп, вся команда за хвост тащила меня, чуть совсем его не оторвали, и кличка с тех пор у меня – Титаник. Позор для моряка! Уходить хотел. В группе все уже подводные операции выполняли, я же только плавать учился… с кругом.
Когда домой приплыли, сразу пошёл и уволился. Распределили в котоспецназ. Там полгодика побыл и понял, что плохо мне без моря! Слишком дорого оно мне. Когда алый закат морской вспоминал, плакал. Когда шум волн в ракушках слушал, плакал. Когда на фотографии лазурного морюшка смотрел, рыдал. Отправился я тогда в ВКУ (высшее кошачье управление) и умолял меня обратно, на флот перевести. Перевели, поворчали правда, но всё же отправили на морскую службу. А там уж я и плавать научился и с трубкой разобрался. Палубу чистить полюбил (и лапы теперь намочить не боялся). На ночные закаты любовался, морской шум был мне лучше любой музыки. И вот так, десять лет на флоте! Полковник котогвардии Барсичкин, шкентель мне в шлюпку!
В один осенний (или зимний, память подводит, всё эти псы, зелень подкидная) день руководство ВКУ вызвало меня, полковника котогвардии, в главный офис. Сказали, что меня ждёт очень простая миссия – учить новобранцев-моряков. Странность, правда, была одна – никто на этом месте долго не задерживался. А я вот, опытный морской котяра, повёлся, как челюскинец! Мог же в отпуск уйти, предлагали ведь. Фок-грот-брамсель мне в левое ухо! Нет же, работать, работать! И давнюю мечту свою вспомнил – молодых котов военному делу обучать. Получил направление в какую-то глухую часть. Сказали, буду самым-самым-самым главным там – председателем роты! В тот же день стал к отъезду готовиться. Вещички собрал, морскую форму положил, самое главное, трубку, взял. Приехал, встречали меня там с почестями, рыба с молочком, как говорится.
Потом повели меня знакомиться с моими будущими подопечными. Счастливый был тогда слишком, сколько надежд, мыслей было. Зашёл в часть и чуть не упал… Оказалось, что под моим руководством будет собачья стая… Пса мне в пятку! Полностью из ЩЕНКОВ! Ни одного котёнка. Такого поворота я не ожидал! Вот и понял тогда, почему там «никто не задерживался». Удружили, нечего сказать!
Они мне: «Здр-р-равствуйте, това-р-р-р-ищ председатель!» Что за пресноводных моллюсков притащило? Разрази меня гром! Ещё и картавые. Как мне потом сказали, по большому секрету, прошлый председатель от этих рычащих сбежал, давления не выдержал. Но я подумал: я же не просто кот, я морской котище, справлюсь! Что мне эти псы? Установлю свои порядки, замяукают как миленькие! Не будь я полковником морской роты. Шкентель мне в шлюпку! Будут коты в собачьей шкуре. Отличные шпионы для внедрения в стан врага. КСБ меня званием отблагодарит и премию выпишет за таких молодцов.
Есть старинная поговорка у котов – путь к сознанию собак лежит через желудок. Вот я и решил начать с питания. Выяснилось, что на завтрак им давали куриные кости. Запретил я это баловство, медузу им в печень. Ввёл такое меню: мисочка молока на завтрак, три рыбных хрящика на обед и три сосиски на ужин. Через недельку будут хорошие котогвардейцы, подумал. И что же вы думаете? К концу следующей недели в части ни одной курочки не осталось, черви гальюнные! Всех съели! Пошёл к ним разбираться. Нельзя же такие проделки без внимания оставлять. Спросил у них: «Как же так получилось, что в части ни одной пернатой не видно и не слышно?» Они стали отговорки придумывать. Кто-то прорычал, что лиса забралась, кто-то протявкал, что им стало плохо в сарае, и они ушли искать лучших хозяев, один умник сказал, что птички улетели в тёплые края (загорать). В общем, кто во что горазд. Потом один из них, из какого-то закутка, достал куриную ножку. Дали мне её попробовать. «Нужно съесть и доказать им и самому себе, что рыба намного вкусней этого пернатого недоразумения,» - решил я. Собрался с силами. Поднёс к мордочке, облизнул. Погрыз (ох, что это я, пожевал). Впал в ступор. Какая гадость! Какая гадость эта ваша заливная рыба…- уже хотел сказать я… Но не сказал, незаметно для себя я просто с урчанием накинулся на ножку (Какой стыд! Воспитанные коты так себя не ведут! Но Вы ведь никому не скажете?)… Ножка оказалась вкусню-ю-ю-ю-щей! «Ладно, - думаю, - пищу оставим собачью» (вот тогда я и стал питаться не сметанкой, а куриными ножками).
Поняв, что пытаться поменять их сознание бесполезно, решил начать с физической подготовки. В здоровом теле здоровый дух! То есть, если у них будут кошачьи упражнения, то и мыслить они будут по-кошачьи. У меня созрел гениальный план. Сейчас у них физические упражнения – бесполезная беготня за палками и мячиками. А теперь… будут ловить красную точку! «Точно, - подумал я, - тогда они познают сущность котов, проникнуться, и агенты КСБ готовы!» Разработал методику, ввёл упражнение. Показал им верх мастерства, точнее своё мастерство. Они попыхтели, порычали немного. Очень старались. Но не усидчивые они. Не даётся им это упражнение. Не смогут долго в засаде просидеть. И? И они устроили бунт, гром и молния! В части решили не убирать. Не щенки, а поросята. «Обиделись»! Какие мы нежные! Требовали отменить красную точку. Ага, сейчас! Полковник Барсичкин просто так не сдастся. Решил им ответные меры ввести. Каждое утро пробегать десять километров, чтобы на обиды сил не оставалось. Неделю бегали. Честно признаться, на шестой день даже я бегать не пошёл - хвост прихватило (мне всё-таки не пять лет). Без меня собрались, пробежали, никто не отлынивал. Не гавкнули ни разу, будто чёрную метку проглотили. Но обиделись на меня ещё больше, греметь им вечность якорями!
Потом попытался пойти на компромисс. Чтобы красная точка была в виде мяча. Поначалу работало, а потом какой-то умник догадался приобщить меня к беготне за мячом. Не понравилось мне… Не понравилось мне, что я так думал, чтоб мне съесть ядовитую медузу! Очень интересно, между прочим, догнать мячик, а потом как прыгнуть на него, схватить, а тут тоже нужно проявить мастерство! Мяч чуть пережмешь зубами или когтями, а он: «Пуффф!» и лопнул, чтоб мне с мачты упасть! Это вам не с клубком играть, тысяча тухлых моллюсков! В общем, убедили они меня: вернули мячи и палки. И это стало вторым этапом моего превращения из кота в пса.
«Так дела не пойдут, - думаю,- надо что-то решать и срочно!» Позвонил знакомым. Посоветовали псов научить кошачьему диалекту. По-простому – мяукать. Месяц пытался, добросовестно. За каждое «гав» – пятьдесят кругов вокруг корпуса. За каждое «мяу», по делу сказанное – килограмм куриных костей. А всё равно лаяли все, прощелыги подкильные! Лаяли и бегали, бегали и лаяли! Аж голова кругом шла! И я, старый морской кот - полковник Барсичкин, чтобы показать, как резко, неблагозвучно и некрасиво звучит лай, начал гавкать. А потом благодаря лаю, подружился с ними, моими курсантами - щенками. Отличные малые оказались! Добрые, компанейские. И лаять мне понравилось: удобно, лаконично, как я люблю. Нужно что-либо приказать, сказал: «Гав» - кратко и ёмко, не сказал, а отрезал. Якорь мне в лапу! «Мяу» уже даже произносить неприятно, уж слишком много оттенков значений и переливов в этих тянущихся гласных.
И вот наступил день сдачи зачётов. Пришло время доказать всем, что мои бойцы не просто так свои кости глодали. Как же я был доволен и горд, что наша рота в общем зачёте первое место заняла! Самые дружные мы получились! А я-то поначалу их невзлюбил… Сокрушался: море на псов променял. Пугался, когда собачьи повадки в себе замечал!
А сегодня мне пришло письмо. Из ВКУ. В нём говорится, что переводят меня в другую часть: буду воспитывать морских свинок - взвод моряков-разведчиков... И вот не знаю, что теперь делать? На кого же оставлю мою стаю? А вдруг в свинку морскую превращусь? Кстати, кто это - «морские свинки» и что они едят? Не знаете? Ну уж нет, рисковать я больше не хочу! Кажется, я нашел свое место: я председатель роты псов!
И вообще, некогда мне этой ерундой заниматься, пойду мячом поиграю, а то совсем моя рота расслабилась, не видят, куда мяч летит!
Ничего без меня не могут! Всё-таки здесь председательствует кот. Гав!
Соловьева Арина. Домашняя Душа
«Какой бы дружной не была семья, без кота все идет не так. Кот – Душа дома, квартиры!» - так всегда считала моя мама.
Наша Душа появилась накануне весны 2020 года, когда мир сходил с ума от неизвестной болезни, лица людей прятались за масками, по громкоговорителям по несколько раз в день напоминали о мерах безопасности и гигиены. В новостях по телевизору людей пугали, что болезнь — это биохимическое оружие, что все это не просто так и что мы на пороге великого апокалипсиса.
Именно в этот момент мировой истерии мы решили взять кота.
Мама узнала, что ее знакомая, которая живет в доме напротив, отдает котенка. Через пару дней мы с папой несли наше маленькое счастье домой в моей шапке. Серенький комочек мяукал и прятал свой носик от падающих снежинок. Сказав, что мы взяли кота весной, я немного отклонилась от истины. Душа ступила в наш дом двадцать девятого февраля. Не верьте, когда утверждают, что високосные года неудачные. Какая же это неудача, когда у нас в доме наконец-то появился управляющий?
Симба, так мы окрестили нашу домашнюю Душу, как в мультфильме «Король Лев». С первого дня маленький хозяин принялся наводить свои порядки: на этой лежанке я спать не буду, корм, что вы купили, мне не по вкусу, наполнитель не тот, да и лоток тоже не ахти, с этой миски есть не хочу, она слишком маленькая, лучше вывалю еду на пол и буду есть так. Нам ничего не оставалось, как потакать ему.
Когда любишь – принимаешь любимца со всеми его недостатками и допускаешь послабления во всем. Наша семья не являлась исключением. Мы обожали нашу Душу.
Иногда могло показаться, что Симба - привередливая вредина. Но председателем он был мудрым и, что важно, благодарным. За то, что мы так с ним носились, он заботился и о нашем благополучии тоже. По ночам он спал с моим младшим братом. Забирался на спинку кровати и лизал его голову. Раньше братишка был очень пугливым и часто просыпался ночью от того, что ему снились кошмары. Симба, словно страж, каждую ночь оберегал его сны. Мурчал, отгоняя кошмары от впечатлительного мальчика. А по утрам он будил меня. Переживал, как бы я не проспала очередной онлайн-урок и не забыла покормить Его Высочество Симбу. Конечно, его мало волновало наличие будильника на телефоне – он надежнее всех гаджетов.
Во время карантина маму перевели на удаленку, и все хлопоты из офиса переехали к нам домой. Весь день она сидела у компьютера, решая рабочие проблемы, а присматривать за братом надо было мне. Все бы ничего, но у меня ведь тоже школа. Это, конечно, не так тягостно, как работа, но времени учебные занятия занимали прилично, так что до двух часов дня я тоже не могла оторваться от компьютера. Симба, чувствуя нарастающее дома напряжение, взял ответственность за младшего на себя. Во время моих уроков он сидел в комнате у брата и играл с ним. Все почему-то полагали, что это мой брат играет с Симбой, хотя все было наоборот. Он приносил братишке самодельную удочку с бантиком, свои маленькие звенящие мячики и самые любимые для него предметы нашего дома и принимался развлекать своего подопечного.
Еще Симба всегда рвался в путешествие. Когда он куда-нибудь ложился, всегда цеплялся лапой за что-то рядом. Это выглядело так, будто он едет в трамвае. И вид у него при этом был преспокойнейший. Симба вообще редко выдавал своим видом какое-нибудь беспокойство. Нашкодничает и сидит на том же месте, щурится, мол так и должно быть. Я же тут, все-таки я- Душа вашей квартиры, значит, главный.
А вот на ласку Симба был скуп. Гладить себя давал только тогда, когда луна была в пятом доме, а Меркурий и Юпитер были в ретрограде, то есть редко. Конечно, он не кусался и не царапал при попытках приласкать его, просто тактично уходил в другую комнату, подальше от раздражителя. Нет, он нас любил, но больше всего он дорожил своим личным пространством. К Душе надо относиться с особым трепетом и уважением! Но перед чесанием устоять не мог. Была у него любимая расческа. Только заметив ее в руках у кого-нибудь из домочадцев, сразу бросался к нему. И мог долго-долго лежать, то и дело меняя позу. Нельзя, чтобы хоть один сантиметр тела остался нечесаным! И при всем этом мурчал громче трактора. На это действие собиралась смотреть вся семья. Ну что же это за чудо - вожак снизошел до нас, дал нам погладить и поласкать его. А по завершении делал вид, что ничего подобного не было, опять становился гордым недотрогой. Нельзя терять лицо.
Симба, будучи британских, чеширских кровей, никогда не изменял кодексу истинного джентльмена. На конфликт первый никогда не шел, на провокации не велся, просто гордо удалялся, размахивая хвостом и фыркая. За все время, пока он стоял во главе нашей семьи, ни царапинки на наших руках не оставил.
Симба оказался знатным гурманом. Курицу не буду, такую марку корма не ем, консервы не люблю, в желе мне не нравится. Остановились на паштете. Симба уплетал его за обе щеки, забывая о своем статусе и оставляя гордый вид. А после обеда надо бы и поспать. Заберется на свою лежанку, а если повезет, то на чьи-то колени, и погрузится в царство морфея. Не жизнь, а полная «хакуна матата»!
Так бы и продолжалась эта чудесная кошачья идиллия, если бы Симба не заболел летом двадцать второго года. Заболел внезапно и сильно. Коты его породы, британцы, часто болеют почками. Вот и нашего драгоценного Симбу эта беда не обошла. Лечили мы нашу Душу долго: водили ее по врачам, ставили капельницы, сдавали бесконечные анализы. Ну коту же ведь не объяснишь, что все это на его благо. И таблетки горькие мы даем не из вредности, и что живот мы ему выбрили не смеха ради, а чтобы наш любимый вожак поправился как можно быстрее.
Болел не только Симба, болели наши души за него.
Мы стали постоянными посетителями местной ветеринарной клиники. Каждый день к двенадцати часам дня мы кутали нашу Душу в полотенце, сажали его в сумку, на боку которой красовалась нашивка «Пять Озер» и везли его на капельницы.
Симба совсем обессилел, его будто подменили: не мог сам подойти поесть и попить к мискам. Приходилось подносить их к нему и надеяться, что он хоть от чего-то не откажется. Если воду он пил почти каждый раз, то с едой были проблемы. Он и так отказывался есть свой любимый паштет, а ему прописали специальный корм, который должен был помогать в лечении. Но от этого корма Симба вообще нос воротил. Его тонкий вкус - и дар, и проклятие. Приходилось насильно его кормить. Открывать пасть, по кусочку класть корм и ждать, пока он его проглотит.
По дому он почти не ходил. Все эти частые поездки в больницу сильно изматывали бедного Симбу. По возвращении он даже не мог сам выйти из сумки, в которой мы его носили. Я вытаскивала его на руках и несла на место, которое оборудовали специально для него. На лоджию с теплыми полами переехали миски нашего больного, лоток и лежанка. У Симбы не хватало сил даже на то, чтобы уходить, когда мы приходили его гладить. Что уж говорить о том, чтобы мурчать при этом. Поэтому гладили и чесали мы его теперь в полной тишине.
Продолжалось так до осени. Первого сентября после линейки я понесла Симбу в больницу на очередные процедуры. Красивая, с модной укладкой и в новом костюме, я сидела около милого Симбы, за пару месяцев ставшего таким маленьким и хрупким. В его лапу вставили катетер, а у него даже не было сил противостоять манипуляциям врачей. Он просто лежал на столе в кабинете, а его грудь то вздымалась, то опускалась. По щекам лились горячие слезы, и мое лицо все больше походило на картину современного художника-сюрреалиста. Черные разводы и подтеки, будто просто краску разлили.
Истощенный болезнью и обессилевший от постоянных разъездов то в одну клинику, то в другую, мой питомец даже не мог показать своего страха, лишь изредка подергивал ушками да морщился. Можно было только догадываться, что творилось на душе у Симбы, когда в процедурный кабинет вводили громко лающих собак или не менее громко мяукающих и шипящих котов.
В начале сентября Симбы не стало. И дома стало холодно и пусто. Наш дом потерял свою душу. С ее уходом я поняла, что в жизни очень важно найти того, кто смотрит на этот мир так же, как и ты. Поняла, что ценность чего-то можно осознать, лишь потеряв это.
Маленькие истории — это счастливые моменты, из которых складывается радость жизни. Те истории, которые подарил нам Симба, всегда будут согревать душу нашей семьи. Его кошачьи марафоны наперегонки с пылью посреди ночи, от которых наутро по всей квартире тут и там валялись клочки его шерсти, его привередливость и временами излишняя манерность, его странные и непонятные выходки – все то, что раньше докучало нам, стало воспоминанием, ценность которого не измерима. Симба был частью жизни нашей семьи, а наша семья была всей его жизнью.
Как же хочется, чтобы по возвращении из школы мне навстречу выбежал маленький серый пушистик, который будет тереться о мои ноги и мурчать, жалуясь на то, как же он скучал весь день. А потом наденет маску гордости и будет делать вид, что не знает, кто я и зачем к нему пристаю. Так хочется, чтобы вечерами мы снова собрались вместе в гостиной и под чутким вниманием Симбы делились моментами прошедшего дня.
Я верю, так еще будет, потому что жизнь продолжает свой путь и состоит из повторяющихся сценариев прошлого. Я верю, что наша судьба переплетается с судьбами других душ и наш сценарий еще не дописан.
«Какой бы дружной не была семья, без кота все идет не так. Кот – Душа дома, квартиры!» - так всегда считала моя мама.
Наша Душа появилась накануне весны 2020 года, когда мир сходил с ума от неизвестной болезни, лица людей прятались за масками, по громкоговорителям по несколько раз в день напоминали о мерах безопасности и гигиены. В новостях по телевизору людей пугали, что болезнь — это биохимическое оружие, что все это не просто так и что мы на пороге великого апокалипсиса.
Именно в этот момент мировой истерии мы решили взять кота.
Мама узнала, что ее знакомая, которая живет в доме напротив, отдает котенка. Через пару дней мы с папой несли наше маленькое счастье домой в моей шапке. Серенький комочек мяукал и прятал свой носик от падающих снежинок. Сказав, что мы взяли кота весной, я немного отклонилась от истины. Душа ступила в наш дом двадцать девятого февраля. Не верьте, когда утверждают, что високосные года неудачные. Какая же это неудача, когда у нас в доме наконец-то появился управляющий?
Симба, так мы окрестили нашу домашнюю Душу, как в мультфильме «Король Лев». С первого дня маленький хозяин принялся наводить свои порядки: на этой лежанке я спать не буду, корм, что вы купили, мне не по вкусу, наполнитель не тот, да и лоток тоже не ахти, с этой миски есть не хочу, она слишком маленькая, лучше вывалю еду на пол и буду есть так. Нам ничего не оставалось, как потакать ему.
Когда любишь – принимаешь любимца со всеми его недостатками и допускаешь послабления во всем. Наша семья не являлась исключением. Мы обожали нашу Душу.
Иногда могло показаться, что Симба - привередливая вредина. Но председателем он был мудрым и, что важно, благодарным. За то, что мы так с ним носились, он заботился и о нашем благополучии тоже. По ночам он спал с моим младшим братом. Забирался на спинку кровати и лизал его голову. Раньше братишка был очень пугливым и часто просыпался ночью от того, что ему снились кошмары. Симба, словно страж, каждую ночь оберегал его сны. Мурчал, отгоняя кошмары от впечатлительного мальчика. А по утрам он будил меня. Переживал, как бы я не проспала очередной онлайн-урок и не забыла покормить Его Высочество Симбу. Конечно, его мало волновало наличие будильника на телефоне – он надежнее всех гаджетов.
Во время карантина маму перевели на удаленку, и все хлопоты из офиса переехали к нам домой. Весь день она сидела у компьютера, решая рабочие проблемы, а присматривать за братом надо было мне. Все бы ничего, но у меня ведь тоже школа. Это, конечно, не так тягостно, как работа, но времени учебные занятия занимали прилично, так что до двух часов дня я тоже не могла оторваться от компьютера. Симба, чувствуя нарастающее дома напряжение, взял ответственность за младшего на себя. Во время моих уроков он сидел в комнате у брата и играл с ним. Все почему-то полагали, что это мой брат играет с Симбой, хотя все было наоборот. Он приносил братишке самодельную удочку с бантиком, свои маленькие звенящие мячики и самые любимые для него предметы нашего дома и принимался развлекать своего подопечного.
Еще Симба всегда рвался в путешествие. Когда он куда-нибудь ложился, всегда цеплялся лапой за что-то рядом. Это выглядело так, будто он едет в трамвае. И вид у него при этом был преспокойнейший. Симба вообще редко выдавал своим видом какое-нибудь беспокойство. Нашкодничает и сидит на том же месте, щурится, мол так и должно быть. Я же тут, все-таки я- Душа вашей квартиры, значит, главный.
А вот на ласку Симба был скуп. Гладить себя давал только тогда, когда луна была в пятом доме, а Меркурий и Юпитер были в ретрограде, то есть редко. Конечно, он не кусался и не царапал при попытках приласкать его, просто тактично уходил в другую комнату, подальше от раздражителя. Нет, он нас любил, но больше всего он дорожил своим личным пространством. К Душе надо относиться с особым трепетом и уважением! Но перед чесанием устоять не мог. Была у него любимая расческа. Только заметив ее в руках у кого-нибудь из домочадцев, сразу бросался к нему. И мог долго-долго лежать, то и дело меняя позу. Нельзя, чтобы хоть один сантиметр тела остался нечесаным! И при всем этом мурчал громче трактора. На это действие собиралась смотреть вся семья. Ну что же это за чудо - вожак снизошел до нас, дал нам погладить и поласкать его. А по завершении делал вид, что ничего подобного не было, опять становился гордым недотрогой. Нельзя терять лицо.
Симба, будучи британских, чеширских кровей, никогда не изменял кодексу истинного джентльмена. На конфликт первый никогда не шел, на провокации не велся, просто гордо удалялся, размахивая хвостом и фыркая. За все время, пока он стоял во главе нашей семьи, ни царапинки на наших руках не оставил.
Симба оказался знатным гурманом. Курицу не буду, такую марку корма не ем, консервы не люблю, в желе мне не нравится. Остановились на паштете. Симба уплетал его за обе щеки, забывая о своем статусе и оставляя гордый вид. А после обеда надо бы и поспать. Заберется на свою лежанку, а если повезет, то на чьи-то колени, и погрузится в царство морфея. Не жизнь, а полная «хакуна матата»!
Так бы и продолжалась эта чудесная кошачья идиллия, если бы Симба не заболел летом двадцать второго года. Заболел внезапно и сильно. Коты его породы, британцы, часто болеют почками. Вот и нашего драгоценного Симбу эта беда не обошла. Лечили мы нашу Душу долго: водили ее по врачам, ставили капельницы, сдавали бесконечные анализы. Ну коту же ведь не объяснишь, что все это на его благо. И таблетки горькие мы даем не из вредности, и что живот мы ему выбрили не смеха ради, а чтобы наш любимый вожак поправился как можно быстрее.
Болел не только Симба, болели наши души за него.
Мы стали постоянными посетителями местной ветеринарной клиники. Каждый день к двенадцати часам дня мы кутали нашу Душу в полотенце, сажали его в сумку, на боку которой красовалась нашивка «Пять Озер» и везли его на капельницы.
Симба совсем обессилел, его будто подменили: не мог сам подойти поесть и попить к мискам. Приходилось подносить их к нему и надеяться, что он хоть от чего-то не откажется. Если воду он пил почти каждый раз, то с едой были проблемы. Он и так отказывался есть свой любимый паштет, а ему прописали специальный корм, который должен был помогать в лечении. Но от этого корма Симба вообще нос воротил. Его тонкий вкус - и дар, и проклятие. Приходилось насильно его кормить. Открывать пасть, по кусочку класть корм и ждать, пока он его проглотит.
По дому он почти не ходил. Все эти частые поездки в больницу сильно изматывали бедного Симбу. По возвращении он даже не мог сам выйти из сумки, в которой мы его носили. Я вытаскивала его на руках и несла на место, которое оборудовали специально для него. На лоджию с теплыми полами переехали миски нашего больного, лоток и лежанка. У Симбы не хватало сил даже на то, чтобы уходить, когда мы приходили его гладить. Что уж говорить о том, чтобы мурчать при этом. Поэтому гладили и чесали мы его теперь в полной тишине.
Продолжалось так до осени. Первого сентября после линейки я понесла Симбу в больницу на очередные процедуры. Красивая, с модной укладкой и в новом костюме, я сидела около милого Симбы, за пару месяцев ставшего таким маленьким и хрупким. В его лапу вставили катетер, а у него даже не было сил противостоять манипуляциям врачей. Он просто лежал на столе в кабинете, а его грудь то вздымалась, то опускалась. По щекам лились горячие слезы, и мое лицо все больше походило на картину современного художника-сюрреалиста. Черные разводы и подтеки, будто просто краску разлили.
Истощенный болезнью и обессилевший от постоянных разъездов то в одну клинику, то в другую, мой питомец даже не мог показать своего страха, лишь изредка подергивал ушками да морщился. Можно было только догадываться, что творилось на душе у Симбы, когда в процедурный кабинет вводили громко лающих собак или не менее громко мяукающих и шипящих котов.
В начале сентября Симбы не стало. И дома стало холодно и пусто. Наш дом потерял свою душу. С ее уходом я поняла, что в жизни очень важно найти того, кто смотрит на этот мир так же, как и ты. Поняла, что ценность чего-то можно осознать, лишь потеряв это.
Маленькие истории — это счастливые моменты, из которых складывается радость жизни. Те истории, которые подарил нам Симба, всегда будут согревать душу нашей семьи. Его кошачьи марафоны наперегонки с пылью посреди ночи, от которых наутро по всей квартире тут и там валялись клочки его шерсти, его привередливость и временами излишняя манерность, его странные и непонятные выходки – все то, что раньше докучало нам, стало воспоминанием, ценность которого не измерима. Симба был частью жизни нашей семьи, а наша семья была всей его жизнью.
Как же хочется, чтобы по возвращении из школы мне навстречу выбежал маленький серый пушистик, который будет тереться о мои ноги и мурчать, жалуясь на то, как же он скучал весь день. А потом наденет маску гордости и будет делать вид, что не знает, кто я и зачем к нему пристаю. Так хочется, чтобы вечерами мы снова собрались вместе в гостиной и под чутким вниманием Симбы делились моментами прошедшего дня.
Я верю, так еще будет, потому что жизнь продолжает свой путь и состоит из повторяющихся сценариев прошлого. Я верю, что наша судьба переплетается с судьбами других душ и наш сценарий еще не дописан.
Чавкина Софья. Спасибо, что ты у меня есть!
«Ох, ну зачем же столько шума! Верещат, как в тот раз, когда я принес мышку на порог дачи. Я так старался! Целый час поджидал её у щели в сарае. Думал: вот поймаю, они скажут, какой я смелый и решительный. Представлял, как мне дадут вкусные консервы…а не это вечное: «За что только мы этого кота кормим?!»
- Иди переоденься! В таком виде ты никуда не пойдёшь!
«Ну вот, опять кричат. Спать не дают. А у меня, между прочим, солнечные ванны. Нет бы прийти, посмотреть, как красиво моя шёрстка лоснится, когда я вот так валяюсь на подоконнике…
- Я не надену эту блузку! Она старая, и страшная, и дурацкая!
«Да, с фантазией у моей хозяйки не ахти. Надо подкинуть ей что-нибудь почитать из классики. А то уткнулась в свои подростковые романы и социальные сети. То ли дело у Бодлера:
О чудный, странный кот! кто голос твой хоть раз
И твой таинственный напев хоть раз услышит,
Он снизойдет в него, как серафима глас,
Где все утонченной гармонией дышит.
- Нет! И не уговаривайте! Я вообще никуда не пойду!
«Ох, как же громко она стукнула дверью! Пришлось даже голову приподнять, чтобы не так в ушах гремело».
Хозяйка протопала к подоконнику, села рядом, нахально затащила меня на колени и стала чесать за моим ухом. «Ладно, пусть успокоится, даже помурлычу немножко, пусть девочка порадуется».
- Ну, вот за что они так со мной? Почему я всегда должна делать именно так, как хочет мама? Почему она уверена, что знает всё лучше? Это мне приходится ходить в школу, а там все смотрят…все только и ждут, когда кто-то сделает что-то не так.
- Мурр…
- Да, да, я знаю, что она хочет, как лучше! Но зачем же так давить? Я иногда чувствую себя, как чеснок, который пропустили через давилку. Того и гляди мозги полезут…
«Милая, это у меня скоро мозги полезут от твоих поглаживаний. Не надо мне уши натягивать на спину».
- Ай, чего ты кусаешься? И ты против меня! Все вы такие! Никто меня не понимает. Вот уйду из дома, будете тогда все вместе сидеть и плакать!
«Опять ревёт. Ох, а воды-то, воды! Так и до обезвоживания недалеко. Ну вот, накапала на подоконник. Ждать теперь, пока высохнет…не на мокрое же ложиться! Пойду тогда спать на её подушку! Должен же я восстанавливать свои силы, чтобы быть великолепным. Кем же они будут восхищаться?! Мурр…»
Меня разбудило громкое сопение хозяйки. Она усиленно заталкивала что-то в рюкзак.
- Вот и уйду, раз не нужна!..
«Сколько же можно реветь! Опять что-то бормочет себе под нос, не поймёшь… Да ещё и носом хлюпает. Никакого воспитания!»
- В гости они пошли, видите ли! А мне нужно подумать над своим поведением! Ага! Сейчас! Так подумаю, что ещё пожалеете!
«Ну вот… И куда она? Нет бы меня погладить и успокоиться, как делает её мама. Она в такие моменты ещё вздыхает так сильно, будто паровоз толкает... О! Открыли холодильник! Сейчас меня покормят! Ну, конечно, опять что-то положила в свой рюкзак, а про меня, любимого, и не подумала… Совести нет! Пойду хоть с ней погуляю. Может, у подъезда соседка сидит… Она всегда восхищается мной и вкусную колбаску даёт. Так восхищается, так восхищается, что я стал опасаться, не хочет ли она из меня шапку сшить».
- Ты идёшь, Эдуард?
«Да, иду, иду! Не могу же я просто выйти, не потеревшись о пуфик и не запутавшись в ногах хозяйки. Это ж будет неправильно, а я очень правильный кот! Ох, какой свежий ветер! Сентябрь в этом году очень прохладный.
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.
Молодец Пастернак! Красиво сказал! И не смотри, что фамилия овощная. Мурр…»
«Куда ж она так быстро? Мне же надо красиво идти. Вон Муся из второго подъезда смотрит, спинку выгнула. До чего же хороша! О, нет, подожди меня, зеленоглазая Муся, сейчас провожу своё сопящее чудо, больно уж мне её настроение не нравится. Того и гляди, правда, что удумает.
- Эдик, ты со мной? Я далеко! Иди домой. Нет? Ну, как хочешь…
«Фи, Эдик. Я – интеллигентный Эдуард, а не какой-то дикий Эдик! Между прочим, у меня даже паспорт есть! В другое время даже обиделся бы. Сейчас не буду… Надо всё-таки почаще на улицу выходить, а то уже и дыхание срывается. С другой стороны, я не беговая лошадь, а ценное животное, созданное для того, чтобы мной восхищались!»
«Хорошо хоть на остановке никого нет, а то лапы бы оттоптали... Куда? Зачем ты взяла меня на руки? Ах, да, меня надо беречь! Да и в автобусе теплее. Ну, поехали кататься…»
- Понимаешь, Эдуард, я же не просто так ушла. Я всем мешаю! Я не такая умная, как хотел бы папа, не такая прилежная и аккуратная, какой хочет меня видеть мама. Одни придирки! Им же без меня лучше будет! Не надо будет ни на кого ругаться, поучать, попрекать промахами. Я же не нарочно разбила бабушкину вазу. Она такая красивая была! Мне так хотелось посмотреть, как сквозь неё свет будет играть. Я же не виновата, что в руках не удержала! Или вот книга о достижениях девушек разных эпох… Её мне мама подарила. Ну что я сделаю, если она скучная…Да, она даже не скучная!.. Просто я её читаю и понимаю, что я так никогда не смогу! Не смогу полететь в космос, переплыть Ламанш или изобрести пенициллин! Как я могу его изобрести, если его уже изобрели до меня! И подружки эти… Что я им сделала? Почему все на меня обиделись? Ну да, неудачно пошутила, но я ж ничего плохого не хотела! Я же не виновата, что у них чувства юмора нет!
«О! Сколько информации?! И зачем мне это все? Не реви! Лучше за ушком мне почеши!»
- Им без меня лучше будет! Ну, подумаешь, поплачут немножко, но потом точно будет лучше! Без проблем! И папа не будет ругаться за то, что я не всё понимаю на уроках. Ну, неинтересна мне физика! Зачем она мне, я же не инженер какой-то! Я хочу быть дизайнером, или менеджером, или дворником в конце концов! Зачем дворнику физика? Мётлы складывать?
«Не надо дворником! Вон дядя Ваня, дворник, ужасный человек! Так и норовит пнуть с воплями: «А ну брысь, блохастый!» А я не такой, у меня, между прочим, прививок больше, чем у него, сделано!»
- Хорошо быть маленькой! Все стараются погладить тебя по головке и дать конфету. Капризничаешь – тебя успокаивают, а не говорят: «Подумай над своим поведением». Упадешь, поранишься – все бегут дуть на ссадину и утешать, а не это: «Не обращай внимания! Всё пройдёт!» Или ещё хуже: «До свадьбы заживёт»! До какой ещё свадьбы? Я вообще замуж никогда не выйду! Если сейчас все придираются, то уж потом-то я точно никому не нужна буду. Вон даже Вадик сегодня так посмотрел…А я всего лишь хотела угостить его шоколадкой!
- Мурр?
- Ну, Вадик, из моего класса, ты его не знаешь. Красивый такой! Только вредный, будто в него Веном вселился. Почему красивые все такие вредные? Может, это какая-то компенсация? Я вот, например, не очень красивая. Ну, максимум, симпатичная. И не очень вредная. Да, наверное, есть какой-то баланс!
«Ну, это ты зря, хозяйка! Я вот очень красивый и с потрясающим характером! Меня все любят! Даже когда твой папа бегал за мной по квартире с криками: «Зачем ты опять испортил все сосиски, зараза? Лучше бы съел одну, даже две! Но нет, все покусал и бросил! Вот попадись мне, я из тебя сумку-авоську сделаю, экологичную, многоразовую!». Так это он, чтобы мою физическую форму подтянуть. Меня все любят!»
- А как же бабушка? Она же расстроится. Плакать будет, если я уйду. Да и мама с папой тоже. В полицию начнут звонить. А помнишь, как летом мы ездили на пикник? Там было классно. Глаза закрыты, веки просвечивают красным. А солнце будто гладит горячим пером по коже. И, кажется, что ты растворяешься в окружающей природе. Помнишь, как родители смеялись, говорили, что солнышко солнышку радуется.
«Да, замечательный был пикник! Я столько ветчины съел, думал, что лопну. А как твой папа возмущался, когда увидел, что на бутербродах остались только огурцы! Я на минуточку даже поверил, что меня выкинут из окна машины на обратном пути… Но я слишком великолепен, чтобы мною разбрасываться!»
- Знаешь, Эдик, с тобой так хорошо! Спасибо, что ты пошёл со мной... Я вот тебе выговорилась, всё-всё рассказала, и мне стало легко.
«Да, я такой! Поэтому меня надо любить и заботиться обо мне…и запомнить уже, что меня зовут Эдуардом!»
- Поехали домой, Эдик. Там мама вкусные консервы тебе купила. Будешь? Если повезёт, успеем прийти до родителей. Спасибо, Эдуард, что ты у меня есть!
«Домой - это хорошо! Вкусные консервы, конечно, не решают всех проблем, но определённо делают этот мир чуточку прекраснее … Решено: мне - вкусняшки, тебе – взрослеть!»
- Мурр!
«Ох, ну зачем же столько шума! Верещат, как в тот раз, когда я принес мышку на порог дачи. Я так старался! Целый час поджидал её у щели в сарае. Думал: вот поймаю, они скажут, какой я смелый и решительный. Представлял, как мне дадут вкусные консервы…а не это вечное: «За что только мы этого кота кормим?!»
- Иди переоденься! В таком виде ты никуда не пойдёшь!
«Ну вот, опять кричат. Спать не дают. А у меня, между прочим, солнечные ванны. Нет бы прийти, посмотреть, как красиво моя шёрстка лоснится, когда я вот так валяюсь на подоконнике…
- Я не надену эту блузку! Она старая, и страшная, и дурацкая!
«Да, с фантазией у моей хозяйки не ахти. Надо подкинуть ей что-нибудь почитать из классики. А то уткнулась в свои подростковые романы и социальные сети. То ли дело у Бодлера:
О чудный, странный кот! кто голос твой хоть раз
И твой таинственный напев хоть раз услышит,
Он снизойдет в него, как серафима глас,
Где все утонченной гармонией дышит.
- Нет! И не уговаривайте! Я вообще никуда не пойду!
«Ох, как же громко она стукнула дверью! Пришлось даже голову приподнять, чтобы не так в ушах гремело».
Хозяйка протопала к подоконнику, села рядом, нахально затащила меня на колени и стала чесать за моим ухом. «Ладно, пусть успокоится, даже помурлычу немножко, пусть девочка порадуется».
- Ну, вот за что они так со мной? Почему я всегда должна делать именно так, как хочет мама? Почему она уверена, что знает всё лучше? Это мне приходится ходить в школу, а там все смотрят…все только и ждут, когда кто-то сделает что-то не так.
- Мурр…
- Да, да, я знаю, что она хочет, как лучше! Но зачем же так давить? Я иногда чувствую себя, как чеснок, который пропустили через давилку. Того и гляди мозги полезут…
«Милая, это у меня скоро мозги полезут от твоих поглаживаний. Не надо мне уши натягивать на спину».
- Ай, чего ты кусаешься? И ты против меня! Все вы такие! Никто меня не понимает. Вот уйду из дома, будете тогда все вместе сидеть и плакать!
«Опять ревёт. Ох, а воды-то, воды! Так и до обезвоживания недалеко. Ну вот, накапала на подоконник. Ждать теперь, пока высохнет…не на мокрое же ложиться! Пойду тогда спать на её подушку! Должен же я восстанавливать свои силы, чтобы быть великолепным. Кем же они будут восхищаться?! Мурр…»
Меня разбудило громкое сопение хозяйки. Она усиленно заталкивала что-то в рюкзак.
- Вот и уйду, раз не нужна!..
«Сколько же можно реветь! Опять что-то бормочет себе под нос, не поймёшь… Да ещё и носом хлюпает. Никакого воспитания!»
- В гости они пошли, видите ли! А мне нужно подумать над своим поведением! Ага! Сейчас! Так подумаю, что ещё пожалеете!
«Ну вот… И куда она? Нет бы меня погладить и успокоиться, как делает её мама. Она в такие моменты ещё вздыхает так сильно, будто паровоз толкает... О! Открыли холодильник! Сейчас меня покормят! Ну, конечно, опять что-то положила в свой рюкзак, а про меня, любимого, и не подумала… Совести нет! Пойду хоть с ней погуляю. Может, у подъезда соседка сидит… Она всегда восхищается мной и вкусную колбаску даёт. Так восхищается, так восхищается, что я стал опасаться, не хочет ли она из меня шапку сшить».
- Ты идёшь, Эдуард?
«Да, иду, иду! Не могу же я просто выйти, не потеревшись о пуфик и не запутавшись в ногах хозяйки. Это ж будет неправильно, а я очень правильный кот! Ох, какой свежий ветер! Сентябрь в этом году очень прохладный.
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.
Молодец Пастернак! Красиво сказал! И не смотри, что фамилия овощная. Мурр…»
«Куда ж она так быстро? Мне же надо красиво идти. Вон Муся из второго подъезда смотрит, спинку выгнула. До чего же хороша! О, нет, подожди меня, зеленоглазая Муся, сейчас провожу своё сопящее чудо, больно уж мне её настроение не нравится. Того и гляди, правда, что удумает.
- Эдик, ты со мной? Я далеко! Иди домой. Нет? Ну, как хочешь…
«Фи, Эдик. Я – интеллигентный Эдуард, а не какой-то дикий Эдик! Между прочим, у меня даже паспорт есть! В другое время даже обиделся бы. Сейчас не буду… Надо всё-таки почаще на улицу выходить, а то уже и дыхание срывается. С другой стороны, я не беговая лошадь, а ценное животное, созданное для того, чтобы мной восхищались!»
«Хорошо хоть на остановке никого нет, а то лапы бы оттоптали... Куда? Зачем ты взяла меня на руки? Ах, да, меня надо беречь! Да и в автобусе теплее. Ну, поехали кататься…»
- Понимаешь, Эдуард, я же не просто так ушла. Я всем мешаю! Я не такая умная, как хотел бы папа, не такая прилежная и аккуратная, какой хочет меня видеть мама. Одни придирки! Им же без меня лучше будет! Не надо будет ни на кого ругаться, поучать, попрекать промахами. Я же не нарочно разбила бабушкину вазу. Она такая красивая была! Мне так хотелось посмотреть, как сквозь неё свет будет играть. Я же не виновата, что в руках не удержала! Или вот книга о достижениях девушек разных эпох… Её мне мама подарила. Ну что я сделаю, если она скучная…Да, она даже не скучная!.. Просто я её читаю и понимаю, что я так никогда не смогу! Не смогу полететь в космос, переплыть Ламанш или изобрести пенициллин! Как я могу его изобрести, если его уже изобрели до меня! И подружки эти… Что я им сделала? Почему все на меня обиделись? Ну да, неудачно пошутила, но я ж ничего плохого не хотела! Я же не виновата, что у них чувства юмора нет!
«О! Сколько информации?! И зачем мне это все? Не реви! Лучше за ушком мне почеши!»
- Им без меня лучше будет! Ну, подумаешь, поплачут немножко, но потом точно будет лучше! Без проблем! И папа не будет ругаться за то, что я не всё понимаю на уроках. Ну, неинтересна мне физика! Зачем она мне, я же не инженер какой-то! Я хочу быть дизайнером, или менеджером, или дворником в конце концов! Зачем дворнику физика? Мётлы складывать?
«Не надо дворником! Вон дядя Ваня, дворник, ужасный человек! Так и норовит пнуть с воплями: «А ну брысь, блохастый!» А я не такой, у меня, между прочим, прививок больше, чем у него, сделано!»
- Хорошо быть маленькой! Все стараются погладить тебя по головке и дать конфету. Капризничаешь – тебя успокаивают, а не говорят: «Подумай над своим поведением». Упадешь, поранишься – все бегут дуть на ссадину и утешать, а не это: «Не обращай внимания! Всё пройдёт!» Или ещё хуже: «До свадьбы заживёт»! До какой ещё свадьбы? Я вообще замуж никогда не выйду! Если сейчас все придираются, то уж потом-то я точно никому не нужна буду. Вон даже Вадик сегодня так посмотрел…А я всего лишь хотела угостить его шоколадкой!
- Мурр?
- Ну, Вадик, из моего класса, ты его не знаешь. Красивый такой! Только вредный, будто в него Веном вселился. Почему красивые все такие вредные? Может, это какая-то компенсация? Я вот, например, не очень красивая. Ну, максимум, симпатичная. И не очень вредная. Да, наверное, есть какой-то баланс!
«Ну, это ты зря, хозяйка! Я вот очень красивый и с потрясающим характером! Меня все любят! Даже когда твой папа бегал за мной по квартире с криками: «Зачем ты опять испортил все сосиски, зараза? Лучше бы съел одну, даже две! Но нет, все покусал и бросил! Вот попадись мне, я из тебя сумку-авоську сделаю, экологичную, многоразовую!». Так это он, чтобы мою физическую форму подтянуть. Меня все любят!»
- А как же бабушка? Она же расстроится. Плакать будет, если я уйду. Да и мама с папой тоже. В полицию начнут звонить. А помнишь, как летом мы ездили на пикник? Там было классно. Глаза закрыты, веки просвечивают красным. А солнце будто гладит горячим пером по коже. И, кажется, что ты растворяешься в окружающей природе. Помнишь, как родители смеялись, говорили, что солнышко солнышку радуется.
«Да, замечательный был пикник! Я столько ветчины съел, думал, что лопну. А как твой папа возмущался, когда увидел, что на бутербродах остались только огурцы! Я на минуточку даже поверил, что меня выкинут из окна машины на обратном пути… Но я слишком великолепен, чтобы мною разбрасываться!»
- Знаешь, Эдик, с тобой так хорошо! Спасибо, что ты пошёл со мной... Я вот тебе выговорилась, всё-всё рассказала, и мне стало легко.
«Да, я такой! Поэтому меня надо любить и заботиться обо мне…и запомнить уже, что меня зовут Эдуардом!»
- Поехали домой, Эдик. Там мама вкусные консервы тебе купила. Будешь? Если повезёт, успеем прийти до родителей. Спасибо, Эдуард, что ты у меня есть!
«Домой - это хорошо! Вкусные консервы, конечно, не решают всех проблем, но определённо делают этот мир чуточку прекраснее … Решено: мне - вкусняшки, тебе – взрослеть!»
- Мурр!
Егоров Павел. Страх моего детства
Заклятым врагом своего детства я считал великовозрастного верзилу Серёгу Дурнева, который, измучив себя и учителей, ещё в седьмом классе оставил учёбу и пошёл, как говорится, в люди, на вольные хлеба, не гнушаясь самых мерзких способов добывания денег - от просто воровства до наглого грабежа при честном народе.
Этот тип появился во дворе, когда я, чистый и светлый, готовился «первый раз в первый класс», не ведая пока, какого соседа подкинула мне судьба-злодейка вместе с наступившим праздником.
Мать, приготовившая всё для любимого чада, ранним утром убежала на работу с клятвенным обещанием отпроситься к началу торжественной линейки, так что собирался я в школу, привыкший к самостоятельности с раннего детства, в гордом одиночестве: сложил в ранец тетрадки, альбомы, большую коробку цветных карандашей, фломастеров и толстую многоцветную шариковую ручку, предмет зависти не одного первоклашки; напялил перед зеркалом костюм, явно купленный в целях экономии на вырост, влез в башмаки со скрипом, а вот несуразную, с моей точки зрения, бабочку надевать не стал, засунув её для алиби куда подальше с глаз – закрыл за собой на амбарный замок дверь квартиры и двинул навстречу взрослой жизни, исполненный искреннего желания хорошо учиться.
Но на выходе из ворот, жуя папиросный бычок правым углом рта, меня остановил новоиспечённый сосед, возжелавший лично проверить экипировку юного школяра, ступающего на тернистый путь познания, вследствие чего фломастеры с карандашами и – о, горе, шариковая ручка перекочевали в бездонные карманы врага просвещения…
Глотая слёзы от унижения и обиды, я всё же устремился туда, где должен быть сегодня, несмотря ни на что! По моему растрёпанному внешнему виду мать сразу заподозрила неладное – пришлось признаться в бессовестной утере содержимого ранца, но даже угроза домашней экзекуции не заставила выдать истинную причину случившегося: для меня лучше было быть битым, чем прослыть ябедой в жёсткой мальчишеской иерархии ценностей!
Но первый урок столкновения не прошёл даром – какое-то время удавалось избегать встреч с наглым верзилой, который, однако, почуяв безнаказанность, обнаглел выше всяких сил и пределов… Однажды он залез к нам в квартиру, чему я, вернувшийся домой из-за отмены ряда уроков пораньше, стал нечаянным свидетелем – нисколько не смущаясь положения застигнутого на месте преступления, ворюга размазал меня по стенке, собрал приглянувшиеся вещички в узел и со словами «вякнешь кому – убью!» преспокойно удалился пропивать награбленное. И на этот раз мать не узнала правды, а вызванный участковый лишь разводил руками от беспомощности при расследовании дел по квартирным кражам и советовал всего-то поменять замок на входной двери на более серьёзный.
В бесплодных попытках как-то откупиться, задобрить преследователя я отдавал мучающемуся по утрам похмельем Серёге свои кровные денежки, предназначенные вообще-то для школьных завтраков – сам же обходился прихваченной из дома горбушкой чёрного хлеба да бесплатным кипятком в столовой до той поры, пока это не заметила классная и не наябедничала мамане. Заподозренный в связях с плохой компанией, я лишился карманных денег и вынужден был от безнадёги взяться за нож, который таскал при себе, содрогаясь от мысли вынужденного применения его когда-нибудь из-за возникшего глубинного протестного нежелания так больше жить!.. Может быть, с отчаянья так бы, не дай Бог, и поступил, защищая себя и своё право на свободную жизнь, если бы однажды Дурнев не попался с подельниками по-крупному на краже в порту – по суду на десять лет освободил от своего присутствия двор и его обитателей. Мать, не ведая об истинной причине метаморфозы, на радость себе, отметила появившиеся снова уравновешенность, доверительность в характере своего мальчика. Я подтянулся в учёбе, активно занялся спортом. Хотя бокс матери категорически не нравился, всё же согласилась, лишь бы сынок не шлялся по улицам и не водил компании с плохими ребятами!..
Окончив школу с золотой медалью, я, к тому же неоднократный призёр зональных первенств, легко поступил в один из центральных институтов физической культуры – покинув постаревшую матушку, уехал за несколько тысяч километров от родного дома учиться.
Однажды, будучи на каникулах, наведался по доброй памяти во двор своего детства, где нос к носу неожиданно столкнулся с заклятым врагом, грозой недавнего прошлого Серёгой Дурневым, которого время и беспутная жизнь не пощадили, превратив его, ещё относительно молодого, в рухлядь: пропитая печень, открывшиеся язвы желудка, перенесённый недавно инсульт обрекли на старческое существование, выживание, без надежд хоть на какой-нибудь просвет. Унизительно кланяясь трясущейся башкой, он принялся клянчить у вымахавшего под два метра Семёна червонец на поправку здоровья под мифическую получку и попутно извиняться за все грехи перед ним… Всколыхнувшиеся было детские обиды затмила в добром сердце жалость к падшему, да и матушка просила, узнав, что сынок отправился на старую квартиру, поблагодарить при встрече бедного Серёгу, неоднократно выручавшего её по-соседски вне очереди продуктами из магазина, где он, в своё время, подрабатывал грузчиком. Неловко приобняв заклятого врага, я сунул ему стольник, как бы от матери, и пошагал прочь от этого места, мурашками по телу воспринимая несущиеся вослед мне слезливые извинения, запоздавшие во времени…
Заклятым врагом своего детства я считал великовозрастного верзилу Серёгу Дурнева, который, измучив себя и учителей, ещё в седьмом классе оставил учёбу и пошёл, как говорится, в люди, на вольные хлеба, не гнушаясь самых мерзких способов добывания денег - от просто воровства до наглого грабежа при честном народе.
Этот тип появился во дворе, когда я, чистый и светлый, готовился «первый раз в первый класс», не ведая пока, какого соседа подкинула мне судьба-злодейка вместе с наступившим праздником.
Мать, приготовившая всё для любимого чада, ранним утром убежала на работу с клятвенным обещанием отпроситься к началу торжественной линейки, так что собирался я в школу, привыкший к самостоятельности с раннего детства, в гордом одиночестве: сложил в ранец тетрадки, альбомы, большую коробку цветных карандашей, фломастеров и толстую многоцветную шариковую ручку, предмет зависти не одного первоклашки; напялил перед зеркалом костюм, явно купленный в целях экономии на вырост, влез в башмаки со скрипом, а вот несуразную, с моей точки зрения, бабочку надевать не стал, засунув её для алиби куда подальше с глаз – закрыл за собой на амбарный замок дверь квартиры и двинул навстречу взрослой жизни, исполненный искреннего желания хорошо учиться.
Но на выходе из ворот, жуя папиросный бычок правым углом рта, меня остановил новоиспечённый сосед, возжелавший лично проверить экипировку юного школяра, ступающего на тернистый путь познания, вследствие чего фломастеры с карандашами и – о, горе, шариковая ручка перекочевали в бездонные карманы врага просвещения…
Глотая слёзы от унижения и обиды, я всё же устремился туда, где должен быть сегодня, несмотря ни на что! По моему растрёпанному внешнему виду мать сразу заподозрила неладное – пришлось признаться в бессовестной утере содержимого ранца, но даже угроза домашней экзекуции не заставила выдать истинную причину случившегося: для меня лучше было быть битым, чем прослыть ябедой в жёсткой мальчишеской иерархии ценностей!
Но первый урок столкновения не прошёл даром – какое-то время удавалось избегать встреч с наглым верзилой, который, однако, почуяв безнаказанность, обнаглел выше всяких сил и пределов… Однажды он залез к нам в квартиру, чему я, вернувшийся домой из-за отмены ряда уроков пораньше, стал нечаянным свидетелем – нисколько не смущаясь положения застигнутого на месте преступления, ворюга размазал меня по стенке, собрал приглянувшиеся вещички в узел и со словами «вякнешь кому – убью!» преспокойно удалился пропивать награбленное. И на этот раз мать не узнала правды, а вызванный участковый лишь разводил руками от беспомощности при расследовании дел по квартирным кражам и советовал всего-то поменять замок на входной двери на более серьёзный.
В бесплодных попытках как-то откупиться, задобрить преследователя я отдавал мучающемуся по утрам похмельем Серёге свои кровные денежки, предназначенные вообще-то для школьных завтраков – сам же обходился прихваченной из дома горбушкой чёрного хлеба да бесплатным кипятком в столовой до той поры, пока это не заметила классная и не наябедничала мамане. Заподозренный в связях с плохой компанией, я лишился карманных денег и вынужден был от безнадёги взяться за нож, который таскал при себе, содрогаясь от мысли вынужденного применения его когда-нибудь из-за возникшего глубинного протестного нежелания так больше жить!.. Может быть, с отчаянья так бы, не дай Бог, и поступил, защищая себя и своё право на свободную жизнь, если бы однажды Дурнев не попался с подельниками по-крупному на краже в порту – по суду на десять лет освободил от своего присутствия двор и его обитателей. Мать, не ведая об истинной причине метаморфозы, на радость себе, отметила появившиеся снова уравновешенность, доверительность в характере своего мальчика. Я подтянулся в учёбе, активно занялся спортом. Хотя бокс матери категорически не нравился, всё же согласилась, лишь бы сынок не шлялся по улицам и не водил компании с плохими ребятами!..
Окончив школу с золотой медалью, я, к тому же неоднократный призёр зональных первенств, легко поступил в один из центральных институтов физической культуры – покинув постаревшую матушку, уехал за несколько тысяч километров от родного дома учиться.
Однажды, будучи на каникулах, наведался по доброй памяти во двор своего детства, где нос к носу неожиданно столкнулся с заклятым врагом, грозой недавнего прошлого Серёгой Дурневым, которого время и беспутная жизнь не пощадили, превратив его, ещё относительно молодого, в рухлядь: пропитая печень, открывшиеся язвы желудка, перенесённый недавно инсульт обрекли на старческое существование, выживание, без надежд хоть на какой-нибудь просвет. Унизительно кланяясь трясущейся башкой, он принялся клянчить у вымахавшего под два метра Семёна червонец на поправку здоровья под мифическую получку и попутно извиняться за все грехи перед ним… Всколыхнувшиеся было детские обиды затмила в добром сердце жалость к падшему, да и матушка просила, узнав, что сынок отправился на старую квартиру, поблагодарить при встрече бедного Серёгу, неоднократно выручавшего её по-соседски вне очереди продуктами из магазина, где он, в своё время, подрабатывал грузчиком. Неловко приобняв заклятого врага, я сунул ему стольник, как бы от матери, и пошагал прочь от этого места, мурашками по телу воспринимая несущиеся вослед мне слезливые извинения, запоздавшие во времени…
Осипова Надежда. Свитер
«А вы знали, что счастье, бывает живым?»
***
-АНЯ! Хватит лежать на траве, иди кушать уже!- мама зовет.
Солнце сильно светит, но читать оно вовсе не мешает, наоборот мне кажется , что под солнечными лучами мозг нагревается и думает быстрей. На это многие скажут «бред!», но я вовсе так не считаю, странные идеи приходят ко мне в голову изо дня в день, и слышу я одно и тоже «бред! Быть такого не может» .
-Иду!- кричу я в ответ, хотя, она наверное, не услышала, я слышала как она карамельное окно закрывает.
Мечтая о всяком, я встала и пошла домой. Сзади нашего маленького деревянного домика была старая рваная, держащаяся на волоске теплица. Хоть она и была таковой, но в ней зарождалась жизнь и вкусные овощи! Они помогают мне стать сильной и крепкой!
Дом наш тоже очень старый. Как мне говорила мама, тут жили наши бабушка и дедушка, а после мои родители и я. Они также надеяться, что я тоже буду жить здесь, хотя вовсе не против, если я уеду в большой мир.
В мыслях одно: «Скорее бы уже наесться и дочитать мою книгу!»
-Аня, как твои оценки в школе?-спрашивает меня мама.
-Я как всегда не получила ни одной четверки—говорю я, запивая лепешки черным чаем из потресканной, но такой родной кружки с бабочками.
-Понятно,-отвечает мама, вовсе не заинтересованная во мне, я знаю она спрашивает это только ради приличия и вовсе не интересуется, что происходит со мной. Возможно, это из-за того, что я часто читаю книги, но мне стало проще читать людей по их лицам, по манере их речи, и по тому, каким образом, они сидят ко мне. Сейчас моя мама, сидит так, что ее ноги смотрят на холодильник, а не на меня, ее торс повернут в другую сторону от меня, я вижу она не хочет со мной говорить, но ее ли это вина? Вовсе нет, наверное, сложно ей сейчас, хотела бы я взять всю ее боль и выкинуть в окно, чтобы ей не было так тяжело.
-Спасибо за еду, она очень вкусная!- целуя маму в щечку, я направляюсь в свою комнату. Моя комната —это мое любимое место, если бы меня попросили никогда не выходить из комнаты , я была бы счастлива!
Тут я могу чувствовать себя в безопасности, в окружении моих книг, мне ничто не страшно. Комната моя украшена гирляндами в виде лепесточков, по правую сторону стоит огромный шкаф с книгами и моей одеждой, а рядом со шкафом, стоит мой деревянный письменный стол, а на верху книжная полочка. А по левую сторону моя тумбочка и кровать, они самые обычные, но, пожалуй, самая необычная вещь в моей комнате это телескоп. Просто я люблю смотреть на звезды ночью, не люблю их изучать или искать в них смысл, просто вид очень красивый и таинственный.
***
Уже ночь? Оно так быстро наступило, мда уж, при чтении время и вправду быстро летит, но главное я уже закончила, то что начала. Сегодня уже лето, учебный год закончился, что же мне делать все лето? Я конечно люблю читать, но не готова тратить на это все лето, может Камиле написать? Ладно.
-Привет, Камила , а как ты собираешься свое лето провести, у тебя есть планы?
Прошло уже 30 минут, ответа нет, кажется она уже спит, полночь ведь. Хотя я удивлена, что она не дождалась полночи, чтобы встретить первый день лета.
Пожалуй, пойду прогуляюсь.
-Мам, я скоро вернусь, пошла свежим воздухом подышать.
-Не задерживайся, я уже ложусь, - ответ не заставил себя долго ждать.
-Хорошо.
На улице было немного прохладно. Вечер был беспорядочным: тучи хаотично разбросаны, звезды как бусинки разлетелись по коробке, был пролит сок, голубичный сок, а по сторонам зеленый мох и засохшие ветки от деревьев. Пожелтевшие и потускневшие со временем фонари, совсем не освещали, их работу делала зефирная луна. Освещала, так, что бусинки на небесах еле плелись, а хаотично разбросанные тучи, не мешали, даже если перекрывали эту зефирную луну. Они будто бы становились пеленами на глазу, будто сейчас расплачешься при виде этого пейзажа.
Спустившись по склону я забрела, туда, куда не ходят люди, это место я называю зонтиком вязанных ворон. Потому что здесь я смогу укрыться от дождя в моей жизни, а пушистые вороны будут охранять меня.
Вдруг, я кого-то вижу. Пожалуйста, пусть это будет призрак, уж лучше так, чем человек. Подходя чуть ближе я все-таки вижу, что это человек. В голове лишь одна мысль
-Эй ,ты! Ты почему в мою базу залез? Кто ты?-закричала я незнакомцу.
-Я...я не хотел- кажется это мальчик, по его еле слышному и апельсиновому голосу, я могу судить что он мальчик, примерно моего возраста.-я думал, что сюда никто не приходит, прости меня-, а вот это уже точно было лишним.
-Да ладно тебе, не извиняйся , я просто опешила, что в мой маленький городок кто-то вошел.
Теперь, стоя рядом с ним я вижу мальчика, растерянного и укрытого с ног до головы теплой меховой одеждой, будто бы овечка. У него были огромные теплые воздушные шарфы. В начале лета? Из под вишневого капюшона виднелись соломенные волосы, а на волосах были звезды.
-А почему ты так тепло одет, в начале лета? И что ты здесь делаешь, в такое то время?- спросила я из чистого интереса
-Я прячусь.
-Прячешься? Но от кого?- мне стало еще интереснее
-От счастья
-Чего?...
-От счастья, говорю.
-Почему?- единственное что я могла спросить
-Говорят, если ты найдешь счастье, потерять его больнее всего, я не хочу, чтобы мне было больно, так что, если счастье меня не найдет, мне не будет больно, я не люблю, когда мне больно
Сама того не понимая, я очень громко рассмеялась. Похоже это обидело мальчика, так как он отвернулся ,сел на корточки и замолчал.
-Знаешь, это не совсем так работает. Счастье — это не то, что можно видеть или слышать, его можно только чувствовать, например как ты чувствуешь страх, что тебе сделают больно.
-Правда?!- вскочил он на обе ноги, с удивленным взглядом — а я то боялся, что он с меня кожу сдерет.
-Какие страшные мысли- с таким страхом, я бы из дома даже не выходила.
-Мама мне говорила, что на улице днем злодей, а злодеи когда хотят причинить боль, кожи сдирают, поэтому меня мама на улицу днем не пускает, она отпускает только ночью, когда злодей засыпает.
Какая странная у него мама, обычно детей ночью не выпускают, они наоборот этого бояться
-А ты тут один ?
-Да, мой дом по близости стоит, надо лишь подняться на этот холм.
-Ого, мой дом тоже на этом холме, похоже мы дети из одной коробки хлопьев.
-А почему хлопьев?- спросил он, сверкая своими океанными глазами с дельфинами и рыбками
-Потому что, коробка из под хлопьев вкусно пахнет, согласен?
-Да, и вправду, тогда давай это коробка будет вишневой. Я люблю вишневый компот, она тоже вкусно пахнет
-Глупый, не бывает вишневых хлопьев.- снова засмеялась я
-А вот и бывает, я покажу тебе!
-Хорошо, обещай мне.
-Обещаю.
Мы с ним знакомы всего лишь пару минут, но эти минуты такие алмазные. Разговор с ним шел как коньки по льду, мне нравится кататься на коньках. И так мы просидели еще несколько часов , ночь становилась все холодней и холодней.
Мои руки немного дрожали, а по ним как будто бы прошлась крапива.
-Держи , у меня внутри еще один свитер-, мальчик с звездами в волосах, снял и предложил мне свой свитер морского света и с небесными нитками по бокам.
-Спасибо, я верну его завтра утром.
-Не нужно, я свяжу себе еще один свитер, если надо будет
-Ты это сам связал? Ну ты прям волшебник!
-Вовсе нет, если на улицу не выходишь и сидишь дома весь день, пока злодей не уснет, тебе нужно чем — то заняться,вот я и решил начать вязать , уже 5 лет прошло.
-Ого, а когда ты родился?
-В 1992 году 15 марта
-Правда, так мы в один день родились оказывается ? Только ты младше меня, мне 16.
-Это нечестно, ты съела на 365 мисок манной каши больше, чем я.
-Хахаха
Чайное солнце уже начало выходить из под горизонта, мы так сильно засиделись... хоть и было немного холодно, но мальчик с звездной макушкой и его морской свитер спасли меня.
***
На утро я решила сходить в дом, в который я проводила мальчишку. Постучавшись в двери, я немного подождала, дверь открыла высокая женщина с впалыми щеками и безжизненными глазами. У нее были соломенные волосы и такие же океанные глаза, но дельфинов и рыбок там не было
-У вас тут, живет мальчик 15-ти лет? Весь укутанный в шарф, выглядит как овечка.
Ответа так и не было
-Меня зовут Аня, я друг этого мальчика.
-Проходи.
Заходя в дом, я сразу унюхала запах манной каши и вишневого компота.
На столе лежала бутылочка с глиттерами и звездами на нем, как на волосах мальчика, а на диване лежала морская нить с небесным оттенком. Но самого мальчика на виду не было.
-Присаживайся, пожалуйста.
-Да конечно.
-Будешь чай?
-Нет, спасибо большое.
И так мы просидели в тишине несколько минут, руки у этой тети были худыми и сухими , она держала их в замке и теребила пальцы между собой. Наконец она взяла вздох, чтобы сказать мне, то что казалось она хотела
-Наверняка, вы говорите о моем умершем сыне. Он говорил, что у нее есть героиня с родинкой на левой щеке, а у вас, как я вижу, она есть. Он умер сегодня в 5 часов утра. - я не могла вымолвить и слова.. весь мир, казалось, провалился под моими ногами, дышать становилась сложнее, а перед глазами появлялась лунная пелена вчерашней ночи- у моего сына, была редкая болезнь Гюнтера, поэтому ему нельзя было выходить в солнечный свет, так как оно вызывало у него жжение, также у него имелся выраженный диффузный гипертрихоз, рубцы и эритродотонтия. - ничего из того, что она сказала я не понимала , в моих глазах была лишь темнота, а уши зудели как кассеты в старых проигрывателях- я знала, что он вскоре умрет, даже если полностью уберечь его от солнца, но я не думала, что настолько скоро..
Из ее глаз, начали сыпаться алмазные слезы, как перед моими глазами алмазная ночь с зефирной луной, в компании мальчика с звездными волосами и его морским свитером с небесными нитками по бокам...
-Привет, у меня вроде нет планов, давай, сходим сегодня вечером в зонтик вязанных ворон? Хех.
Камила, ответила на вчерашнее сообщение.
«А вы знали, что счастье может быть мертвым и одновременно живым? Он находился в коробке из- под вишневых хлопьев. У него были воздушные теплые и мягкие шарфы, он носил теплые свитера под начало июня и имел океанные глаза с дельфинами и рыбками, а на волосах были звезды....»
«А вы знали, что счастье, бывает живым?»
***
-АНЯ! Хватит лежать на траве, иди кушать уже!- мама зовет.
Солнце сильно светит, но читать оно вовсе не мешает, наоборот мне кажется , что под солнечными лучами мозг нагревается и думает быстрей. На это многие скажут «бред!», но я вовсе так не считаю, странные идеи приходят ко мне в голову изо дня в день, и слышу я одно и тоже «бред! Быть такого не может» .
-Иду!- кричу я в ответ, хотя, она наверное, не услышала, я слышала как она карамельное окно закрывает.
Мечтая о всяком, я встала и пошла домой. Сзади нашего маленького деревянного домика была старая рваная, держащаяся на волоске теплица. Хоть она и была таковой, но в ней зарождалась жизнь и вкусные овощи! Они помогают мне стать сильной и крепкой!
Дом наш тоже очень старый. Как мне говорила мама, тут жили наши бабушка и дедушка, а после мои родители и я. Они также надеяться, что я тоже буду жить здесь, хотя вовсе не против, если я уеду в большой мир.
В мыслях одно: «Скорее бы уже наесться и дочитать мою книгу!»
-Аня, как твои оценки в школе?-спрашивает меня мама.
-Я как всегда не получила ни одной четверки—говорю я, запивая лепешки черным чаем из потресканной, но такой родной кружки с бабочками.
-Понятно,-отвечает мама, вовсе не заинтересованная во мне, я знаю она спрашивает это только ради приличия и вовсе не интересуется, что происходит со мной. Возможно, это из-за того, что я часто читаю книги, но мне стало проще читать людей по их лицам, по манере их речи, и по тому, каким образом, они сидят ко мне. Сейчас моя мама, сидит так, что ее ноги смотрят на холодильник, а не на меня, ее торс повернут в другую сторону от меня, я вижу она не хочет со мной говорить, но ее ли это вина? Вовсе нет, наверное, сложно ей сейчас, хотела бы я взять всю ее боль и выкинуть в окно, чтобы ей не было так тяжело.
-Спасибо за еду, она очень вкусная!- целуя маму в щечку, я направляюсь в свою комнату. Моя комната —это мое любимое место, если бы меня попросили никогда не выходить из комнаты , я была бы счастлива!
Тут я могу чувствовать себя в безопасности, в окружении моих книг, мне ничто не страшно. Комната моя украшена гирляндами в виде лепесточков, по правую сторону стоит огромный шкаф с книгами и моей одеждой, а рядом со шкафом, стоит мой деревянный письменный стол, а на верху книжная полочка. А по левую сторону моя тумбочка и кровать, они самые обычные, но, пожалуй, самая необычная вещь в моей комнате это телескоп. Просто я люблю смотреть на звезды ночью, не люблю их изучать или искать в них смысл, просто вид очень красивый и таинственный.
***
Уже ночь? Оно так быстро наступило, мда уж, при чтении время и вправду быстро летит, но главное я уже закончила, то что начала. Сегодня уже лето, учебный год закончился, что же мне делать все лето? Я конечно люблю читать, но не готова тратить на это все лето, может Камиле написать? Ладно.
-Привет, Камила , а как ты собираешься свое лето провести, у тебя есть планы?
Прошло уже 30 минут, ответа нет, кажется она уже спит, полночь ведь. Хотя я удивлена, что она не дождалась полночи, чтобы встретить первый день лета.
Пожалуй, пойду прогуляюсь.
-Мам, я скоро вернусь, пошла свежим воздухом подышать.
-Не задерживайся, я уже ложусь, - ответ не заставил себя долго ждать.
-Хорошо.
На улице было немного прохладно. Вечер был беспорядочным: тучи хаотично разбросаны, звезды как бусинки разлетелись по коробке, был пролит сок, голубичный сок, а по сторонам зеленый мох и засохшие ветки от деревьев. Пожелтевшие и потускневшие со временем фонари, совсем не освещали, их работу делала зефирная луна. Освещала, так, что бусинки на небесах еле плелись, а хаотично разбросанные тучи, не мешали, даже если перекрывали эту зефирную луну. Они будто бы становились пеленами на глазу, будто сейчас расплачешься при виде этого пейзажа.
Спустившись по склону я забрела, туда, куда не ходят люди, это место я называю зонтиком вязанных ворон. Потому что здесь я смогу укрыться от дождя в моей жизни, а пушистые вороны будут охранять меня.
Вдруг, я кого-то вижу. Пожалуйста, пусть это будет призрак, уж лучше так, чем человек. Подходя чуть ближе я все-таки вижу, что это человек. В голове лишь одна мысль
-Эй ,ты! Ты почему в мою базу залез? Кто ты?-закричала я незнакомцу.
-Я...я не хотел- кажется это мальчик, по его еле слышному и апельсиновому голосу, я могу судить что он мальчик, примерно моего возраста.-я думал, что сюда никто не приходит, прости меня-, а вот это уже точно было лишним.
-Да ладно тебе, не извиняйся , я просто опешила, что в мой маленький городок кто-то вошел.
Теперь, стоя рядом с ним я вижу мальчика, растерянного и укрытого с ног до головы теплой меховой одеждой, будто бы овечка. У него были огромные теплые воздушные шарфы. В начале лета? Из под вишневого капюшона виднелись соломенные волосы, а на волосах были звезды.
-А почему ты так тепло одет, в начале лета? И что ты здесь делаешь, в такое то время?- спросила я из чистого интереса
-Я прячусь.
-Прячешься? Но от кого?- мне стало еще интереснее
-От счастья
-Чего?...
-От счастья, говорю.
-Почему?- единственное что я могла спросить
-Говорят, если ты найдешь счастье, потерять его больнее всего, я не хочу, чтобы мне было больно, так что, если счастье меня не найдет, мне не будет больно, я не люблю, когда мне больно
Сама того не понимая, я очень громко рассмеялась. Похоже это обидело мальчика, так как он отвернулся ,сел на корточки и замолчал.
-Знаешь, это не совсем так работает. Счастье — это не то, что можно видеть или слышать, его можно только чувствовать, например как ты чувствуешь страх, что тебе сделают больно.
-Правда?!- вскочил он на обе ноги, с удивленным взглядом — а я то боялся, что он с меня кожу сдерет.
-Какие страшные мысли- с таким страхом, я бы из дома даже не выходила.
-Мама мне говорила, что на улице днем злодей, а злодеи когда хотят причинить боль, кожи сдирают, поэтому меня мама на улицу днем не пускает, она отпускает только ночью, когда злодей засыпает.
Какая странная у него мама, обычно детей ночью не выпускают, они наоборот этого бояться
-А ты тут один ?
-Да, мой дом по близости стоит, надо лишь подняться на этот холм.
-Ого, мой дом тоже на этом холме, похоже мы дети из одной коробки хлопьев.
-А почему хлопьев?- спросил он, сверкая своими океанными глазами с дельфинами и рыбками
-Потому что, коробка из под хлопьев вкусно пахнет, согласен?
-Да, и вправду, тогда давай это коробка будет вишневой. Я люблю вишневый компот, она тоже вкусно пахнет
-Глупый, не бывает вишневых хлопьев.- снова засмеялась я
-А вот и бывает, я покажу тебе!
-Хорошо, обещай мне.
-Обещаю.
Мы с ним знакомы всего лишь пару минут, но эти минуты такие алмазные. Разговор с ним шел как коньки по льду, мне нравится кататься на коньках. И так мы просидели еще несколько часов , ночь становилась все холодней и холодней.
Мои руки немного дрожали, а по ним как будто бы прошлась крапива.
-Держи , у меня внутри еще один свитер-, мальчик с звездами в волосах, снял и предложил мне свой свитер морского света и с небесными нитками по бокам.
-Спасибо, я верну его завтра утром.
-Не нужно, я свяжу себе еще один свитер, если надо будет
-Ты это сам связал? Ну ты прям волшебник!
-Вовсе нет, если на улицу не выходишь и сидишь дома весь день, пока злодей не уснет, тебе нужно чем — то заняться,вот я и решил начать вязать , уже 5 лет прошло.
-Ого, а когда ты родился?
-В 1992 году 15 марта
-Правда, так мы в один день родились оказывается ? Только ты младше меня, мне 16.
-Это нечестно, ты съела на 365 мисок манной каши больше, чем я.
-Хахаха
Чайное солнце уже начало выходить из под горизонта, мы так сильно засиделись... хоть и было немного холодно, но мальчик с звездной макушкой и его морской свитер спасли меня.
***
На утро я решила сходить в дом, в который я проводила мальчишку. Постучавшись в двери, я немного подождала, дверь открыла высокая женщина с впалыми щеками и безжизненными глазами. У нее были соломенные волосы и такие же океанные глаза, но дельфинов и рыбок там не было
-У вас тут, живет мальчик 15-ти лет? Весь укутанный в шарф, выглядит как овечка.
Ответа так и не было
-Меня зовут Аня, я друг этого мальчика.
-Проходи.
Заходя в дом, я сразу унюхала запах манной каши и вишневого компота.
На столе лежала бутылочка с глиттерами и звездами на нем, как на волосах мальчика, а на диване лежала морская нить с небесным оттенком. Но самого мальчика на виду не было.
-Присаживайся, пожалуйста.
-Да конечно.
-Будешь чай?
-Нет, спасибо большое.
И так мы просидели в тишине несколько минут, руки у этой тети были худыми и сухими , она держала их в замке и теребила пальцы между собой. Наконец она взяла вздох, чтобы сказать мне, то что казалось она хотела
-Наверняка, вы говорите о моем умершем сыне. Он говорил, что у нее есть героиня с родинкой на левой щеке, а у вас, как я вижу, она есть. Он умер сегодня в 5 часов утра. - я не могла вымолвить и слова.. весь мир, казалось, провалился под моими ногами, дышать становилась сложнее, а перед глазами появлялась лунная пелена вчерашней ночи- у моего сына, была редкая болезнь Гюнтера, поэтому ему нельзя было выходить в солнечный свет, так как оно вызывало у него жжение, также у него имелся выраженный диффузный гипертрихоз, рубцы и эритродотонтия. - ничего из того, что она сказала я не понимала , в моих глазах была лишь темнота, а уши зудели как кассеты в старых проигрывателях- я знала, что он вскоре умрет, даже если полностью уберечь его от солнца, но я не думала, что настолько скоро..
Из ее глаз, начали сыпаться алмазные слезы, как перед моими глазами алмазная ночь с зефирной луной, в компании мальчика с звездными волосами и его морским свитером с небесными нитками по бокам...
-Привет, у меня вроде нет планов, давай, сходим сегодня вечером в зонтик вязанных ворон? Хех.
Камила, ответила на вчерашнее сообщение.
«А вы знали, что счастье может быть мертвым и одновременно живым? Он находился в коробке из- под вишневых хлопьев. У него были воздушные теплые и мягкие шарфы, он носил теплые свитера под начало июня и имел океанные глаза с дельфинами и рыбками, а на волосах были звезды....»
Прокопьева Дайаана. Суббота, птицы и весна
Весной, когда прилетают птицы и тают сосульки, небо окрашивается в светлый голубой. Цвет этот знаменует новое начало, пробуждение жизни. Под голубым небом солнце светит ярко, но мягко, а птицы поют сладко. Под голубым небом нет забот, только покой, какого не бывает в любое другое время года.
Антон Зайцев, - или Заяц, как его прозвали одноклассники, - упивался весной лежа меж сосен в парке. Мокрый снег холодил его спину, а солнце грело щеки. Завтра был выходной день, потому он бы так и лежал там до глубокой ночи, слушая птичий оркестр и редкие собачьи серенады, если бы не громкий хохот, что донесся неподалеку. Хохот знакомый, едкий. Хохот этот был его одноклассников.
Антон был мальцом отнюдь не асоциальным - он неплохо ладил со сверстниками, умел заводить друзей. Но одноклассники эти были особым случаем. Были они стаей волков, нежели людьми. И, как полагалось хищникам, они с упоением "охотились" на зверьков поменьше - тех, кто не мог дать отпор и за кого заступиться было некому. А так как на "маленьких зверьков" внимание обращать никто не хотел, малолетние преступники оставались безнаказанными. Без угрызения совести они бродили по городу, выискивая, над кем бы поиздеваться на этот раз.
Было ли удивлением, что Зайцев не хотел лишний попадаться им на глаза. Он быстро вскочил на ноги и, схватив перед этим оставленный на земле портфель, спрятался за соснами. Заяц пригнулся, вслушиваясь в разговор волков. Говорили они несвязанно и много, непросвещенному Зайчику не было суждено понять смысл дискуссии.
Шайка бы прошла мимо Зайца, если бы не Евгений Волков с его острым нюхом. Или развитой интуицией. В любом случае, везучий Волков на секунду отвлекся от разговора своих товарищей и меж сосен сумел разглядел знакомую синюю шапку с белыми полосками. Он, облизав губы, кивком указал ребятам на местонахождение спрятавшегося зайчика. Остальные переглянулись, сверкнули глазками и бросились врассыпную. Каждый тихо окружил мальчика, ожидая дальнейшего сигнала.
Сам же Зайцев высовываться не хотел, а тишину воспринял с тревогой. Неужто заметили? Или кого еще нашли? А проверять рискованно. Может, и не заметили его, а он сам себя на блюдечке подаст. Навострив уши, Заяц медленно поднялся.
И ничего. Тишина. Нет ни хохота, ни песен птиц. Казалось, будто вся жизнь на Земле исчезла в одно мгновенье. И - Бам! - что-то большое и тяжелое набросилось на его спину. Чьи-то когти впились в его лицо, желая причинить как можно боли. Кто-то выл от радости в его уши; гиены, что взялись из ниоткуда, присоединились к жестокому веселью и начали пинать зайчика. А он в ответ пал на землю, лицом вниз.
Смех, удары, издевки. Снег, слезы, синяки. Лай собак, вой ветра, тихие всхлипы. Холодно, жарко, больно.
Танец волков, вальс, расстроенное пианино. Разбитое стекло. скрипка, плач. Занавес.
Волки разошлись. Розовое небо. Холодно. Всё болит.
Тишина. Больно. Мокрые тетради. Холодно.
Птицы. Облака. Ветер. Розовое небо.
Сухое горло, прерывистое дыхание, ровное сердцебиение.Темно.
"Вот здесь я и умру", - пронеслось в голове Зайцева. Не было сил встать, не было желания возвращаться домой. Ведь стоит ему вернуться, закончится этот день и начнется новый, такой же отвратительный, день. Лучше умереть сейчас, нежели продлевать страдания. Все равно по нему никто скучать не будет. Родители его едва ли помнят, а школьные друзья и не друзья вовсе - так, только поиграть товарищи. И будет забыт Антон Зайцев, всеми нелюбимый и всеми оставленный. Только волки поминать будут - с усмешкой.
А может, и не забудут о нем. Будет вечным призраком, судьба которого станет пугалкой для малолеток. А может, он станет символом, чуть ли не святым, представителем всех униженных и оскорбленных. И посадят виноватых в его смерти в тюрьму, где им и место.
Хруст. Хруст. Хруст.
Кто-то медленно подходил к холодному телу мальчика.
"Добить пришли, гады? Или полиция? А может… карга-смерть?" - Заяц закрыл глаза, сложив руки накрест, как обычно это делают мумии. Если помирать, то с достоинством.
- Зайцев? Ты, что ли? - над Антоном стоял удивленный Кирилл Синичкин. Тот же только сильнее зажмурил глаза, - а, понял! Мертвого играешь?
- Я мертв, уходи. Мешаешь разлагаться.
- Ну-ну, вижу я, что мертвый. Они до тебя тоже добрались, да? Они до меня тоже, вот, докапывались. Еле ноги унес! А синяк все равно получил. Большой такой! И не болит.
- Как это не болит? - Антон открыл глаза, - а ну покажи.
- Вот, на щеке. Я снег приложил, а он и болеть перестал.
- Большой…
- Ага.
Повисла пауза. Кирилл внимательно изучал побитое лицо Антона, а сам Антон смотрел на Кириллины синие глаза.
- Тебе бы тоже снег не помешал. Вон сколько синяков, а ты вот так вот…
- Нет.
- Что нет?
- Не хочу снег прикладывать, пусть болит.
- А я говорю прикладывай!
- Нет! Отстань!
Кирилл набрал горстку снега в голые руки и пытался намазать его на лицо Антона.
- А я говорю. Прикладывай!
- Отойди от меня! - Антон вскочил, но сразу же пожалел об этом. Закружилась голова, а ноги едва держали болезненное тело.
- Антон? Ты как? - Кирилл выронил из рук снег и поспешил поддержать Зайцева. Он взял того за подмышки и опер его об сосну, - может, врача?
- Отойди… - уже слабее сказал Антон, крепче держась за ствол дерева.
- Ну не дело это, Антон, - Кирилл отпустил мальчика, - только хуже будет.
- Ну и ладно, - он зажмурил глаза в попытках остановить мир от неестественного вращения.
Два мальчика стояли под сосной, один от необходимости, а другой от тревоги. Синичкин не знал, куда деть себя. Вон его товарищ корчится от боли, а помощи никакой не хочет. И что делать? Сел он под деревом и принялся ждать. Если понадобится, то он будет прямо под рукой.
А Антон корчился, кашлял, громко дышал. И, наконец, головокружение прошло, а усталость никуда не делась. Он осторожно соскользнул вниз, принимая сидячую позу. Но сидел он не возле Синичкина, а по другую сторону дерева.
Солнце окончательно село. Небо окрасилось в синий. На небе ни облачка.
- Антон?
- Чего тебе?
- Тебе не страшно? Ночью.
- Нет, не страшно.
- А мне страшно. Пойдем домой?
- Не хочу домой.
- Ну, так давай ко мне. Мама обрадуется, что друга привел.
- Побитого?
- Шарфом спрячем.
- Ты же тоже побитый. И шарфа у тебя нет.
- Ну, что-нибудь придумаем.
- …
- И как добраться тоже придумаем. Я сильный, можешь на меня опереться, а отсюда до моего дома минут десять на ногах. И моргнуть не успеешь, как будем там.
- …ладно.
- Что?
- Ладно говорю. Пошли.
- Серьезно?
- Да-да. Иди, подними меня.
- Я не думал, что ты согласишься. Удобно?
- Сойдет. Ну, что, веди дорогу.
- Так точно, капитан! …скажи, а ты часто в парке гуляешь?
- Больше гулять здесь не буду.
- А часто до этого гулял?
- Ну, часто…
- А ты видел, что они у каруселей поставили? Яблоки в карамели! Красные такие, блестящие. Пробовал?
- Нет.
- И я нет. Вот, коплю деньги с обеда. Могу и тебе взять.
- А это еще зачем?
- Как зачем? Ты же не пробовал, а обед ты берешь с собой. Откуда деньги возьмешь на яблоки-то?
- …
- Видишь? Поэтому и угощаю.
- У меня есть деньги.
- Да ну?
- Просто с собой не таскаю.
- Да какая разница? Все равно угощу.
- Я сам себе куплю.
- А я тогда второй тебе возьму.
- Зачем?
- Как зачем? Угощаю же.
- Да ты…! Тогда я тебе тоже второй куплю.
- А это зачем?
- Чтобы тебе пусто было, вот зачем.
- Злой ты, Антоша.
- Я не злой, просто устал.
- Я вот тоже устал, но я же не злой.
- Это как посмотреть.
- А я разве злой?
- …нет.
- Ну вот.
- …
- А мне нравится, когда ты злой.
- И почему же?
- Когда ты злой, то говоришь больше обычного.
- И чем тебе это нравится?
- Не знаю. Веселый ты, Антон, а с другими ты не такой. Весь серьезный, надутый…
- …
- Прямо как сейчас.
- Долго мы будем идти?
- Да не обижайся ты, я же шутя. Вон, видишь? Там, под столбом. Это мой подъезд.
- …
- Держись, Антоша, мы почти пришли.
- Я свой портфель забыл.
- Портфель? А, так это поэтому на земле тетрадки лежали. А я-то думал…
- Что думал?
- Не знаю, не подумал. Да не боись, Антон, я завтра за твоим портфелем первым делом побегу.
- …Кирилл.
- М?
- Спасибо…
- Да о чем разговор! Не за что, обращайся! …Оперись об стенку на секунду, мне нужно ключи от домофона достать… О, вот! Заходи.
Антон в последний раз взглянул на синее небо. Темное, холодное, но почему-то светлое. Видно, что холодные дни позади. Повернувшись обратно к Кириллу, он заглянул в большие синие глаза. В них он видел честную заботу, какую он не видел нигде ранее. Он видел веселье, намек на теплый смех. И он видел тревогу, страх за своего нового лучшего товарища.
Мальчики зашли внутрь.
Весной, когда прилетают птицы и тают сосульки, небо окрашивается в светлый голубой. Цвет этот знаменует новое начало, пробуждение жизни. Под голубым небом солнце светит ярко, но мягко, а птицы поют сладко. Под голубым небом нет забот, только покой, какого не бывает в любое другое время года.
Антон Зайцев, - или Заяц, как его прозвали одноклассники, - упивался весной лежа меж сосен в парке. Мокрый снег холодил его спину, а солнце грело щеки. Завтра был выходной день, потому он бы так и лежал там до глубокой ночи, слушая птичий оркестр и редкие собачьи серенады, если бы не громкий хохот, что донесся неподалеку. Хохот знакомый, едкий. Хохот этот был его одноклассников.
Антон был мальцом отнюдь не асоциальным - он неплохо ладил со сверстниками, умел заводить друзей. Но одноклассники эти были особым случаем. Были они стаей волков, нежели людьми. И, как полагалось хищникам, они с упоением "охотились" на зверьков поменьше - тех, кто не мог дать отпор и за кого заступиться было некому. А так как на "маленьких зверьков" внимание обращать никто не хотел, малолетние преступники оставались безнаказанными. Без угрызения совести они бродили по городу, выискивая, над кем бы поиздеваться на этот раз.
Было ли удивлением, что Зайцев не хотел лишний попадаться им на глаза. Он быстро вскочил на ноги и, схватив перед этим оставленный на земле портфель, спрятался за соснами. Заяц пригнулся, вслушиваясь в разговор волков. Говорили они несвязанно и много, непросвещенному Зайчику не было суждено понять смысл дискуссии.
Шайка бы прошла мимо Зайца, если бы не Евгений Волков с его острым нюхом. Или развитой интуицией. В любом случае, везучий Волков на секунду отвлекся от разговора своих товарищей и меж сосен сумел разглядел знакомую синюю шапку с белыми полосками. Он, облизав губы, кивком указал ребятам на местонахождение спрятавшегося зайчика. Остальные переглянулись, сверкнули глазками и бросились врассыпную. Каждый тихо окружил мальчика, ожидая дальнейшего сигнала.
Сам же Зайцев высовываться не хотел, а тишину воспринял с тревогой. Неужто заметили? Или кого еще нашли? А проверять рискованно. Может, и не заметили его, а он сам себя на блюдечке подаст. Навострив уши, Заяц медленно поднялся.
И ничего. Тишина. Нет ни хохота, ни песен птиц. Казалось, будто вся жизнь на Земле исчезла в одно мгновенье. И - Бам! - что-то большое и тяжелое набросилось на его спину. Чьи-то когти впились в его лицо, желая причинить как можно боли. Кто-то выл от радости в его уши; гиены, что взялись из ниоткуда, присоединились к жестокому веселью и начали пинать зайчика. А он в ответ пал на землю, лицом вниз.
Смех, удары, издевки. Снег, слезы, синяки. Лай собак, вой ветра, тихие всхлипы. Холодно, жарко, больно.
Танец волков, вальс, расстроенное пианино. Разбитое стекло. скрипка, плач. Занавес.
Волки разошлись. Розовое небо. Холодно. Всё болит.
Тишина. Больно. Мокрые тетради. Холодно.
Птицы. Облака. Ветер. Розовое небо.
Сухое горло, прерывистое дыхание, ровное сердцебиение.Темно.
"Вот здесь я и умру", - пронеслось в голове Зайцева. Не было сил встать, не было желания возвращаться домой. Ведь стоит ему вернуться, закончится этот день и начнется новый, такой же отвратительный, день. Лучше умереть сейчас, нежели продлевать страдания. Все равно по нему никто скучать не будет. Родители его едва ли помнят, а школьные друзья и не друзья вовсе - так, только поиграть товарищи. И будет забыт Антон Зайцев, всеми нелюбимый и всеми оставленный. Только волки поминать будут - с усмешкой.
А может, и не забудут о нем. Будет вечным призраком, судьба которого станет пугалкой для малолеток. А может, он станет символом, чуть ли не святым, представителем всех униженных и оскорбленных. И посадят виноватых в его смерти в тюрьму, где им и место.
Хруст. Хруст. Хруст.
Кто-то медленно подходил к холодному телу мальчика.
"Добить пришли, гады? Или полиция? А может… карга-смерть?" - Заяц закрыл глаза, сложив руки накрест, как обычно это делают мумии. Если помирать, то с достоинством.
- Зайцев? Ты, что ли? - над Антоном стоял удивленный Кирилл Синичкин. Тот же только сильнее зажмурил глаза, - а, понял! Мертвого играешь?
- Я мертв, уходи. Мешаешь разлагаться.
- Ну-ну, вижу я, что мертвый. Они до тебя тоже добрались, да? Они до меня тоже, вот, докапывались. Еле ноги унес! А синяк все равно получил. Большой такой! И не болит.
- Как это не болит? - Антон открыл глаза, - а ну покажи.
- Вот, на щеке. Я снег приложил, а он и болеть перестал.
- Большой…
- Ага.
Повисла пауза. Кирилл внимательно изучал побитое лицо Антона, а сам Антон смотрел на Кириллины синие глаза.
- Тебе бы тоже снег не помешал. Вон сколько синяков, а ты вот так вот…
- Нет.
- Что нет?
- Не хочу снег прикладывать, пусть болит.
- А я говорю прикладывай!
- Нет! Отстань!
Кирилл набрал горстку снега в голые руки и пытался намазать его на лицо Антона.
- А я говорю. Прикладывай!
- Отойди от меня! - Антон вскочил, но сразу же пожалел об этом. Закружилась голова, а ноги едва держали болезненное тело.
- Антон? Ты как? - Кирилл выронил из рук снег и поспешил поддержать Зайцева. Он взял того за подмышки и опер его об сосну, - может, врача?
- Отойди… - уже слабее сказал Антон, крепче держась за ствол дерева.
- Ну не дело это, Антон, - Кирилл отпустил мальчика, - только хуже будет.
- Ну и ладно, - он зажмурил глаза в попытках остановить мир от неестественного вращения.
Два мальчика стояли под сосной, один от необходимости, а другой от тревоги. Синичкин не знал, куда деть себя. Вон его товарищ корчится от боли, а помощи никакой не хочет. И что делать? Сел он под деревом и принялся ждать. Если понадобится, то он будет прямо под рукой.
А Антон корчился, кашлял, громко дышал. И, наконец, головокружение прошло, а усталость никуда не делась. Он осторожно соскользнул вниз, принимая сидячую позу. Но сидел он не возле Синичкина, а по другую сторону дерева.
Солнце окончательно село. Небо окрасилось в синий. На небе ни облачка.
- Антон?
- Чего тебе?
- Тебе не страшно? Ночью.
- Нет, не страшно.
- А мне страшно. Пойдем домой?
- Не хочу домой.
- Ну, так давай ко мне. Мама обрадуется, что друга привел.
- Побитого?
- Шарфом спрячем.
- Ты же тоже побитый. И шарфа у тебя нет.
- Ну, что-нибудь придумаем.
- …
- И как добраться тоже придумаем. Я сильный, можешь на меня опереться, а отсюда до моего дома минут десять на ногах. И моргнуть не успеешь, как будем там.
- …ладно.
- Что?
- Ладно говорю. Пошли.
- Серьезно?
- Да-да. Иди, подними меня.
- Я не думал, что ты согласишься. Удобно?
- Сойдет. Ну, что, веди дорогу.
- Так точно, капитан! …скажи, а ты часто в парке гуляешь?
- Больше гулять здесь не буду.
- А часто до этого гулял?
- Ну, часто…
- А ты видел, что они у каруселей поставили? Яблоки в карамели! Красные такие, блестящие. Пробовал?
- Нет.
- И я нет. Вот, коплю деньги с обеда. Могу и тебе взять.
- А это еще зачем?
- Как зачем? Ты же не пробовал, а обед ты берешь с собой. Откуда деньги возьмешь на яблоки-то?
- …
- Видишь? Поэтому и угощаю.
- У меня есть деньги.
- Да ну?
- Просто с собой не таскаю.
- Да какая разница? Все равно угощу.
- Я сам себе куплю.
- А я тогда второй тебе возьму.
- Зачем?
- Как зачем? Угощаю же.
- Да ты…! Тогда я тебе тоже второй куплю.
- А это зачем?
- Чтобы тебе пусто было, вот зачем.
- Злой ты, Антоша.
- Я не злой, просто устал.
- Я вот тоже устал, но я же не злой.
- Это как посмотреть.
- А я разве злой?
- …нет.
- Ну вот.
- …
- А мне нравится, когда ты злой.
- И почему же?
- Когда ты злой, то говоришь больше обычного.
- И чем тебе это нравится?
- Не знаю. Веселый ты, Антон, а с другими ты не такой. Весь серьезный, надутый…
- …
- Прямо как сейчас.
- Долго мы будем идти?
- Да не обижайся ты, я же шутя. Вон, видишь? Там, под столбом. Это мой подъезд.
- …
- Держись, Антоша, мы почти пришли.
- Я свой портфель забыл.
- Портфель? А, так это поэтому на земле тетрадки лежали. А я-то думал…
- Что думал?
- Не знаю, не подумал. Да не боись, Антон, я завтра за твоим портфелем первым делом побегу.
- …Кирилл.
- М?
- Спасибо…
- Да о чем разговор! Не за что, обращайся! …Оперись об стенку на секунду, мне нужно ключи от домофона достать… О, вот! Заходи.
Антон в последний раз взглянул на синее небо. Темное, холодное, но почему-то светлое. Видно, что холодные дни позади. Повернувшись обратно к Кириллу, он заглянул в большие синие глаза. В них он видел честную заботу, какую он не видел нигде ранее. Он видел веселье, намек на теплый смех. И он видел тревогу, страх за своего нового лучшего товарища.
Мальчики зашли внутрь.
Логинов Сергей. Чемодан
Говорят, возвращаться – дурная примета. Не знаю, согласен ли я с этим: иногда воспоминания возвращают нас туда, где мы были счастливы.
- Бабуль, я закончил с уборкой,- я появляюсь в дверях бабушкиной спальни, в руках синее ведро и швабра-лентяйка.
- Спасибо, мой дорогой,- бабушка оборачивается от заполненного цветочными горшками подоконника. У нее пушистые седые волосы, мягкое лицо, покрытое сетью морщинок, и красивые прозрачные глаза. В молодости бабушка походила на актрису советского кино, и, когда я был совсем маленьким, мне было сложно сопоставлять мое настоящее с ее прошлым, запечатленным на фотографиях. - А я нашла для тебя кое-что, - она медленно идет к своему широкому письменному столу и осторожно стаскивает с лакированной – советского производства - столешницы…
- Чемодан?- удивляюсь я. - Бабушка, с такими уже никто не ходит... У меня рюкзак есть,- я боюсь обидеть близкого человека, но улыбку сдержать не могу.
- Ну, для того, чтобы ходить с ним по городу, он и вправду не годится – староват,- хихикает бабушка. – Но важно то, что внутри,- улыбка становится грустной; густая, плотная серость заполняет глубину молодых – как у девчонки – глаз. – Там сочинения твоего папы,- произносит бабушка тихо. – Когда он был чуть старше, чем ты сейчас – года на три, наверное – он увлёкся литературой. Здесь не всё: часть у твоей мамы, часть – у тёти, а часть была у меня.
Я уставился на темно-терракотовый чемодан с чёрной в мелкий рубчик ручкой и металлическими заплатками по углам.
- Я уже давно не открывала его и не перечитывала рукописи, - продолжала бабушка, присаживаясь на краешек застеленной пушистым пледом кровати, - очень тяжело перечитывать сочинения умершего сына. Возьми их себе – почитай, там есть очень хорошие стихотворения и немного прозы,- бабушка снова улыбается, но выходит это так, будто ей больно. - Может быть, тебе что-то понравится.
- Хорошо, я заберу, - спешу согласиться я, - спасибо!
В тот вечер бабушка напоила меня своим любимым красным чаем, в котором чаинки распускаются, будто лепестки роз, и я, испытывая смутное чувство неловкости, отправился домой с потёртым чемоданом в руках. Чемодан я поставил в угол своей комнаты, за платяной шкаф и вспомнил о нём лишь через три года, когда, обшарив весь дом, судорожно искал старый паяльник на замену сломавшемуся новому.
Чемоданчик упал, старый замок не выдержал даже лёгкого удара и открылся. Я откинул крышку, и комнату наполнили плотные запахи чуть отсыревшей бумаги, кожи и табака, показавшиеся мне знакомыми.
По-турецки я сел на пол перед чемоданом и погрузил в него ладони, будто в воду. Старая бумага стала от времени рыхлой и маслянистой, оттиски букв, выбитых печатной машинкой, потускнели, и чернила чуть расплылись, приобретя фиолетовый оттенок… А потом я увидел среди «школьных» тетрадей и блокнотов лакированную трубку, и мир вокруг подернулся дымкой воспоминаний… Маленький я сижу на кухне в гостях у бабушки и дедушки. Дед курит трубку, а бабушка готовит овощной суп. Из приёмника, который сохранился ещё со времен Хрущёва, вырывается голос Высоцкого. Мне казалось, будто по волшебству я перенесся из своей холодной комнаты в ту самую теплую кухню, где я провёл большую часть своего детства.
Развеивая морок, я тряхнул головой, быстро и даже чуть зло откинул волосы со лба. Все это время чемодан был здесь. Я вскочил на ноги и открыл окно, чтобы развеять запах табака и избавить маму от подозрений в мой адрес. На кухне заварил себе красного чаю, который очень любит моя бабушка, и снова уселся на пол перед чемоданом.
Я читал всё подряд – без системы и хронологии: стихи и короткие очерки, записки, письма, заметки на полях, черновики, сплошь зачёрканные торопливой рукой… читал всё, что попадалось под руку в этой куче бумаг, душно пропахших плесенью и табачным духом. Кому вообще пришла в голову идея положить трубку с бумагами?
Однако почти сразу я понял, что отцовские бумаги затягивают меня, будто мягкая воронка, в те времена, когда я не мог быть с ним рядом… Я как будто оказывался на лицейской лестнице, где папа махом запрыгивал на спину лучшего друга, в парке у первой квартиры, где жили родители отца, в его институте, в камере предварительного задержания, куда он попал после драки. Время от времени я узнавал в героинях стихов свою маму, а ещё по-настоящему знакомился со своим отцом, который умер, когда мне было три года.
Казалось, что моя комната превратилась в машину времени, и я будто со стороны – чуть издалека – наблюдал за своими родителями в молодости. Я увидел, как папа ухаживал за мамой, как они с друзьями играли на гитаре в подземном переходе, как дед приезжал за своим сыном в отделение милиции, когда тот заступился за маму и сломал нос местному хулигану… Чуть отвлёкшись, я потер уставшие глаза и взглянул в зеркало. На меня смотрели папины глаза. Никогда мне ещё не казалось, что я знаю этого человека так хорошо, но теперь сомнений не оставалось: папа по-прежнему был рядом, он возвращался ко мне с каждой прочитанной страницей. Его образ отпечатывался в сознании, становясь всё чётче.
На последнем листе, лежащем на самом дне «волшебного» чемодана, быстрым почерком было написано стихотворение. Его последнее четверостишие я ношу с собой – в памяти:
«Ну а если на век всё ж прощанье,
То на груде могильных камней
Пусть напишут моё завещанье:
Никогда – ни о чем – не жалей!»
Эти строчки вернули меня из прошлого в настоящее. «Машина времени», найденная мною в старом чемодане, будто сломалась, и я – ошеломленный – принялся бездумно разглаживать руками смятые за время лежания взаперти листы. Мысли были далеко. Неужели папа знал, что его ожидает ранняя смерть? А мама, которая его очень любила, выполнила его завещанье… Я вдруг понял, что за строчки выбиты на его надгробии.
В тот день все мои планы были сорваны. Я бродил по городу от одной условной точки к другой, как бы отмечая на карте своей памяти «папины» места. Переданный мне чемодан, так долго простоявший в моей комнате без внимания, оказался невероятно мудрой и терпеливой вещицей: он обстоятельно ждал момента, когда я смогу совершить путешествие в прошлое и познакомиться с человеком, которого я почти не помнил – с моим отцом: человеком ранимым и раненым, грустным и отчаянно веселившимся, человеком свободолюбивым и любящим. Родным. Нужным мне – в любое время.
Говорят, возвращаться – дурная примета. Не знаю, согласен ли я с этим: иногда воспоминания возвращают нас туда, где мы были счастливы.
- Бабуль, я закончил с уборкой,- я появляюсь в дверях бабушкиной спальни, в руках синее ведро и швабра-лентяйка.
- Спасибо, мой дорогой,- бабушка оборачивается от заполненного цветочными горшками подоконника. У нее пушистые седые волосы, мягкое лицо, покрытое сетью морщинок, и красивые прозрачные глаза. В молодости бабушка походила на актрису советского кино, и, когда я был совсем маленьким, мне было сложно сопоставлять мое настоящее с ее прошлым, запечатленным на фотографиях. - А я нашла для тебя кое-что, - она медленно идет к своему широкому письменному столу и осторожно стаскивает с лакированной – советского производства - столешницы…
- Чемодан?- удивляюсь я. - Бабушка, с такими уже никто не ходит... У меня рюкзак есть,- я боюсь обидеть близкого человека, но улыбку сдержать не могу.
- Ну, для того, чтобы ходить с ним по городу, он и вправду не годится – староват,- хихикает бабушка. – Но важно то, что внутри,- улыбка становится грустной; густая, плотная серость заполняет глубину молодых – как у девчонки – глаз. – Там сочинения твоего папы,- произносит бабушка тихо. – Когда он был чуть старше, чем ты сейчас – года на три, наверное – он увлёкся литературой. Здесь не всё: часть у твоей мамы, часть – у тёти, а часть была у меня.
Я уставился на темно-терракотовый чемодан с чёрной в мелкий рубчик ручкой и металлическими заплатками по углам.
- Я уже давно не открывала его и не перечитывала рукописи, - продолжала бабушка, присаживаясь на краешек застеленной пушистым пледом кровати, - очень тяжело перечитывать сочинения умершего сына. Возьми их себе – почитай, там есть очень хорошие стихотворения и немного прозы,- бабушка снова улыбается, но выходит это так, будто ей больно. - Может быть, тебе что-то понравится.
- Хорошо, я заберу, - спешу согласиться я, - спасибо!
В тот вечер бабушка напоила меня своим любимым красным чаем, в котором чаинки распускаются, будто лепестки роз, и я, испытывая смутное чувство неловкости, отправился домой с потёртым чемоданом в руках. Чемодан я поставил в угол своей комнаты, за платяной шкаф и вспомнил о нём лишь через три года, когда, обшарив весь дом, судорожно искал старый паяльник на замену сломавшемуся новому.
Чемоданчик упал, старый замок не выдержал даже лёгкого удара и открылся. Я откинул крышку, и комнату наполнили плотные запахи чуть отсыревшей бумаги, кожи и табака, показавшиеся мне знакомыми.
По-турецки я сел на пол перед чемоданом и погрузил в него ладони, будто в воду. Старая бумага стала от времени рыхлой и маслянистой, оттиски букв, выбитых печатной машинкой, потускнели, и чернила чуть расплылись, приобретя фиолетовый оттенок… А потом я увидел среди «школьных» тетрадей и блокнотов лакированную трубку, и мир вокруг подернулся дымкой воспоминаний… Маленький я сижу на кухне в гостях у бабушки и дедушки. Дед курит трубку, а бабушка готовит овощной суп. Из приёмника, который сохранился ещё со времен Хрущёва, вырывается голос Высоцкого. Мне казалось, будто по волшебству я перенесся из своей холодной комнаты в ту самую теплую кухню, где я провёл большую часть своего детства.
Развеивая морок, я тряхнул головой, быстро и даже чуть зло откинул волосы со лба. Все это время чемодан был здесь. Я вскочил на ноги и открыл окно, чтобы развеять запах табака и избавить маму от подозрений в мой адрес. На кухне заварил себе красного чаю, который очень любит моя бабушка, и снова уселся на пол перед чемоданом.
Я читал всё подряд – без системы и хронологии: стихи и короткие очерки, записки, письма, заметки на полях, черновики, сплошь зачёрканные торопливой рукой… читал всё, что попадалось под руку в этой куче бумаг, душно пропахших плесенью и табачным духом. Кому вообще пришла в голову идея положить трубку с бумагами?
Однако почти сразу я понял, что отцовские бумаги затягивают меня, будто мягкая воронка, в те времена, когда я не мог быть с ним рядом… Я как будто оказывался на лицейской лестнице, где папа махом запрыгивал на спину лучшего друга, в парке у первой квартиры, где жили родители отца, в его институте, в камере предварительного задержания, куда он попал после драки. Время от времени я узнавал в героинях стихов свою маму, а ещё по-настоящему знакомился со своим отцом, который умер, когда мне было три года.
Казалось, что моя комната превратилась в машину времени, и я будто со стороны – чуть издалека – наблюдал за своими родителями в молодости. Я увидел, как папа ухаживал за мамой, как они с друзьями играли на гитаре в подземном переходе, как дед приезжал за своим сыном в отделение милиции, когда тот заступился за маму и сломал нос местному хулигану… Чуть отвлёкшись, я потер уставшие глаза и взглянул в зеркало. На меня смотрели папины глаза. Никогда мне ещё не казалось, что я знаю этого человека так хорошо, но теперь сомнений не оставалось: папа по-прежнему был рядом, он возвращался ко мне с каждой прочитанной страницей. Его образ отпечатывался в сознании, становясь всё чётче.
На последнем листе, лежащем на самом дне «волшебного» чемодана, быстрым почерком было написано стихотворение. Его последнее четверостишие я ношу с собой – в памяти:
«Ну а если на век всё ж прощанье,
То на груде могильных камней
Пусть напишут моё завещанье:
Никогда – ни о чем – не жалей!»
Эти строчки вернули меня из прошлого в настоящее. «Машина времени», найденная мною в старом чемодане, будто сломалась, и я – ошеломленный – принялся бездумно разглаживать руками смятые за время лежания взаперти листы. Мысли были далеко. Неужели папа знал, что его ожидает ранняя смерть? А мама, которая его очень любила, выполнила его завещанье… Я вдруг понял, что за строчки выбиты на его надгробии.
В тот день все мои планы были сорваны. Я бродил по городу от одной условной точки к другой, как бы отмечая на карте своей памяти «папины» места. Переданный мне чемодан, так долго простоявший в моей комнате без внимания, оказался невероятно мудрой и терпеливой вещицей: он обстоятельно ждал момента, когда я смогу совершить путешествие в прошлое и познакомиться с человеком, которого я почти не помнил – с моим отцом: человеком ранимым и раненым, грустным и отчаянно веселившимся, человеком свободолюбивым и любящим. Родным. Нужным мне – в любое время.
Таиркина Валерия. История одной вещи
- Ах, какая прелесть! Какая она стильная и красивая! Мама, пожалуйста, давай купим ее!
«Интересно, кого имела ввиду эта милая девочка с нежным голосом? Что? Что такое?» - я вдруг ощутила, как осторожно касаются меня мягкие детские ручки. «Это что? Это обо мне?» - волнение захлестнуло меня.
- Хорошо, милая, только давай ее примерим сначала.
«Да! Да! Примерьте меня, пожалуйста! Я красивая и удобная! Я обязательно вам подойду!»
Чувство радости захлестнуло меня, и вдруг вся моя недолгая жизнь вспомнилась мне.
Помню, что я родилась на фабрике, как и тысячи других моих сестер-толстовок. Потом нас упаковали в тесные коробки и отправили в разные магазины. А там нас уже ждали ярко освещенные полки и многочисленные покупатели. Мы с моими сестрами быстро подружились с остальными вещами, лежащими на полках. Футболки и джинсы оказались очень доброжелательными и дружелюбными, они такие же мягкие и удобные, как я. А когда мы вместе, то получается очень гармоничный комплект, который особенно нравится детям. Ощущение того, когда ты нравишься себе и окружающим, восхитительно! Значит, мы созданы не зря!
Но у меня есть небольшая тайна… Мне очень хочется оказаться рядом с платьем, висящим на манекене в витрине магазина. Оно такое воздушное! Такое красивое! Говорят, что оно сделано из шелка. Интересно, что это? Может быть, платье кажется великолепным благодаря переливающейся ткани? Но увы! Я этого, скорее всего, никогда не узнаю, ведь оно такое гордое и высокомерное и совсем не хочет со мной общаться.
«Ах! Как это восхитительно! Я понравилась! Меня полюбили! Боже, меня полюбили и купили!» В красивом пакете я покидаю этот радостный мир магазина. Наверное, это лучший момент моей жизни! Начинается новая жизнь…
Так я приобрела свою хозяйку. Ею оказалась маленькая девочка с забавными кудряшками, непоседливым характером и очень добрым сердцем. Моя хозяйка с радостью надевает меня и бежит на улицу похвастаться подружкам. Как же здесь шумно! Мир такой огромный! Как много здесь непонятных вещей…
- Кира, какая у тебя классная толстовка!
- Ты в ней такая модная!
- Тебе очень идет!
Девочки, окружившие Киру, трогали меня и восхищенно разглядывали. Волна радости и гордости захлестнула меня. «Да, мы отлично смотримся вместе!»
«О Боже! Что ЭТО?! О-о-о нет! Нет! Нет! Нет! Только не это!» - отчаяние наполнило меня. «Ну почему жизнь так несправедлива?! Почему это случилось со мной? И именно сейчас, когда все складывалось так чудесно?!» Такие мысли промелькнули у меня, когда я увидела, что Кира берет на руки и прижимает к себе маленькое, трясущееся от страха и холода, грязное существо.
- Не бойся, малыш, тебя больше не обидят дрянные мальчишки. Ты такой милый! Пойдем к нам, я тебя согрею и накормлю…
Оказывается, это существо называется «щенок»! Из-за него я стала грязной и некрасивой! Мало того, что он испачкал меня, он еще вонзал в меня свои когти! А это, между прочим, очень больно! Что же? Что же будет? Меня выкинут?! Я больше не буду радовать свою девочку?!
- Доченька, что произошло? Почему ты такая грязная?
- Мама, мы гуляли с девочками и увидели, как мальчишки издевались над щенком, а потом его бросили и убежали. На улице уже холодно, а он совсем маленький. Можно мы его возьмем себе?
- Если только у него не окажется хозяев. А пока помой его и накорми. И не забудь постирать толстовку, жалко будет, если она испортится…
Уфф! Отлегло! Я опять стану чистой и красивой!!! Неожиданно в корзине для грязных вещей я оказалась рядом с платьем. Да! Да! Это то самое восхитительное платье из магазина! Сбылась еще одна моя мечта!
- Здравствуйте, а можно с Вами познакомиться?
- Конечно! А я Вас где-то уже видела! Кажется, Вы лежали на полке магазина среди одежды из новой коллекции.
- Да-да! Совершенно верно! Вы так красивы! Скажите, пожалуйста, Вы правда сделаны из шелка?
- Да, меня привезли из самого Китая.
Так в моей жизни появился настоящий друг. Платье оказалось совсем не заносчивым, а довольно приветливым. Просто оно чувствовало себя очень одиноко на витрине. Хотя мы проживали в разных шкафах, мы иногда встречались в корзине и рассказывали друг другу события, произошедшие с нами…
Нас еще будет ждать много приключений и историй. Сколько всего я увижу! Но, что бы не происходило, я всегда все свое тепло и нежность буду отдавать своей любимой девочке, заботливо оберегая и защищая её. И я знаю, что она тоже будет заботиться обо мне…
- Ах, какая прелесть! Какая она стильная и красивая! Мама, пожалуйста, давай купим ее!
«Интересно, кого имела ввиду эта милая девочка с нежным голосом? Что? Что такое?» - я вдруг ощутила, как осторожно касаются меня мягкие детские ручки. «Это что? Это обо мне?» - волнение захлестнуло меня.
- Хорошо, милая, только давай ее примерим сначала.
«Да! Да! Примерьте меня, пожалуйста! Я красивая и удобная! Я обязательно вам подойду!»
Чувство радости захлестнуло меня, и вдруг вся моя недолгая жизнь вспомнилась мне.
Помню, что я родилась на фабрике, как и тысячи других моих сестер-толстовок. Потом нас упаковали в тесные коробки и отправили в разные магазины. А там нас уже ждали ярко освещенные полки и многочисленные покупатели. Мы с моими сестрами быстро подружились с остальными вещами, лежащими на полках. Футболки и джинсы оказались очень доброжелательными и дружелюбными, они такие же мягкие и удобные, как я. А когда мы вместе, то получается очень гармоничный комплект, который особенно нравится детям. Ощущение того, когда ты нравишься себе и окружающим, восхитительно! Значит, мы созданы не зря!
Но у меня есть небольшая тайна… Мне очень хочется оказаться рядом с платьем, висящим на манекене в витрине магазина. Оно такое воздушное! Такое красивое! Говорят, что оно сделано из шелка. Интересно, что это? Может быть, платье кажется великолепным благодаря переливающейся ткани? Но увы! Я этого, скорее всего, никогда не узнаю, ведь оно такое гордое и высокомерное и совсем не хочет со мной общаться.
«Ах! Как это восхитительно! Я понравилась! Меня полюбили! Боже, меня полюбили и купили!» В красивом пакете я покидаю этот радостный мир магазина. Наверное, это лучший момент моей жизни! Начинается новая жизнь…
Так я приобрела свою хозяйку. Ею оказалась маленькая девочка с забавными кудряшками, непоседливым характером и очень добрым сердцем. Моя хозяйка с радостью надевает меня и бежит на улицу похвастаться подружкам. Как же здесь шумно! Мир такой огромный! Как много здесь непонятных вещей…
- Кира, какая у тебя классная толстовка!
- Ты в ней такая модная!
- Тебе очень идет!
Девочки, окружившие Киру, трогали меня и восхищенно разглядывали. Волна радости и гордости захлестнула меня. «Да, мы отлично смотримся вместе!»
«О Боже! Что ЭТО?! О-о-о нет! Нет! Нет! Нет! Только не это!» - отчаяние наполнило меня. «Ну почему жизнь так несправедлива?! Почему это случилось со мной? И именно сейчас, когда все складывалось так чудесно?!» Такие мысли промелькнули у меня, когда я увидела, что Кира берет на руки и прижимает к себе маленькое, трясущееся от страха и холода, грязное существо.
- Не бойся, малыш, тебя больше не обидят дрянные мальчишки. Ты такой милый! Пойдем к нам, я тебя согрею и накормлю…
Оказывается, это существо называется «щенок»! Из-за него я стала грязной и некрасивой! Мало того, что он испачкал меня, он еще вонзал в меня свои когти! А это, между прочим, очень больно! Что же? Что же будет? Меня выкинут?! Я больше не буду радовать свою девочку?!
- Доченька, что произошло? Почему ты такая грязная?
- Мама, мы гуляли с девочками и увидели, как мальчишки издевались над щенком, а потом его бросили и убежали. На улице уже холодно, а он совсем маленький. Можно мы его возьмем себе?
- Если только у него не окажется хозяев. А пока помой его и накорми. И не забудь постирать толстовку, жалко будет, если она испортится…
Уфф! Отлегло! Я опять стану чистой и красивой!!! Неожиданно в корзине для грязных вещей я оказалась рядом с платьем. Да! Да! Это то самое восхитительное платье из магазина! Сбылась еще одна моя мечта!
- Здравствуйте, а можно с Вами познакомиться?
- Конечно! А я Вас где-то уже видела! Кажется, Вы лежали на полке магазина среди одежды из новой коллекции.
- Да-да! Совершенно верно! Вы так красивы! Скажите, пожалуйста, Вы правда сделаны из шелка?
- Да, меня привезли из самого Китая.
Так в моей жизни появился настоящий друг. Платье оказалось совсем не заносчивым, а довольно приветливым. Просто оно чувствовало себя очень одиноко на витрине. Хотя мы проживали в разных шкафах, мы иногда встречались в корзине и рассказывали друг другу события, произошедшие с нами…
Нас еще будет ждать много приключений и историй. Сколько всего я увижу! Но, что бы не происходило, я всегда все свое тепло и нежность буду отдавать своей любимой девочке, заботливо оберегая и защищая её. И я знаю, что она тоже будет заботиться обо мне…
Талакова Татьяна. Король спит - квартира живёт
Короли смотрят на мир просто: для них все люди - подданные. Любовь народа - вот единственное, чем по-настоящему владеют короли. В случае Юлика ещё и собственным лотком.
Рыжее усатое величество в этот день изволило встать с вязаного трона и устроить аудиенцию своей соседке - Аннушке, дочери ныне покойной хозяйки квартиры.
«Жалко её, - плоская прямоугольная морда задумчиво опустилась на лапы. Аннушка носилась по кухне, обжигаясь и спотыкаясь о стулья. - И чего добилась к тридцати? Никаких амбиций и перспектив. Рано вы меня, Любовь Пал-лна покинули, мы б таких дел наворотили! С вашими связями и деньгами, да с моими мозгами…»
Кот с гордо поднятым хвостом потрусил к ванной проверить сохранность второй собственности, как в дверь внезапно постучали, следом раздались три коротких нервных звонка.
«Кого нелегкая несёт?»
На кухню вошёл сосед, большеглазый мужчина в безвкусной фиолетовой жилетке поверх рубашки. Живёт в квартире напротив со своей мамой-кошатницей. Уж Юлик не знал, кому везет меньше: этому соседу или котам. Воняло у них там будь здоров!
«И сюда принёс эту заразу!»
Вслед за мужчиной по квартире тоже стал распространяться неприятный сладковатый запах.
- Я чего пришёл-то к вам? Помощь не нужна? - он замялся у входа.
«Так ты для этого полчаса в дверь тарабанил? Думал, у нас тут потоп, и решил водички попросить?» - Юлик скептически поджал щеки и занял наблюдательный пункт на подоконнике. Отдать простофилю Аннушку в лапы этому неудачнику он не мог, даже если вонь стояла невообразимая.
Между людьми завязалась пустая беседа, пропитанная неловкостью и нелепыми вопросами по типу «Любишь варенье?». Сосед от сладкого отказался категорически, так что Юлик быстро решил:
«Он нам не пара».
–Мрряяяу! – оба человека одновременно вздрогнули и растерянно обернулись к рыжему пятну у холодильника. Тот исподлобья сверлил их недовольным взглядом, усы воинственно подергивались.
«И не таких обламывали!»
- Мррооуу! - Юлик ещё пронзительней замурчал, разворачивая голос на все две октавы. Ради того, чтоб выгнать соседа, он был готов поднапрячься, и неважно, сколько времени это в итоге заняло.
– Юлик, ну вот что тебе нужно? – отчаянно воскликнула Аня, вышагивая вдоль кухни, после того, как знакомый в спешке покинул квартиру. А вонь, как заметил рыжий, выветривалась еще час.
«Деньги, слава, мировое господство» – без запинки выдал кот, гордо вздернул нос и продефилировал к комнате, где завалился спать до самого утра.
Однако около пяти часов его разбудил странный грохот из гостиной. Пребывая в ленивой дреме, Юлик заключил, что это всего лишь Аннушка ищет свои таблетки, поэтому со спокойной совестью перегруппировался и вновь мирно засопел. Но выспаться сегодня ему было не суждено.
Вот уже полчаса кот наблюдал за работой представителей закона, сидя в проходе между развороченными шкафами, пока где-то рядом бродил полицейский пёс по кличке Маяк – огромная серовато-коричневая дворняга с острыми треугольными ушами и вытянутой мордой. Тот моментально погрузился в работу, рыская по всему дому, пока двое в форме осматривали место происшествия, а один опрашивал Аню. Где-то позади толпились любопытные сплетники, то есть понятые.
Уж как Юлик потешался над псом, когда тот ни грабителя не смог учуять, ни улики найти. А гонору-то было!
«Не умничай, варежка! Сиди себе в углу, пока другие работают - хмуро прорычал пёс, расхаживая вокруг шкафа. - Я же не виноват, что тут всё затоптали! Кроме хозяйки, того соседа запах чую и твой. Может ты и спер деньги?» – подозрительно прищурился Маяк.
Кот фыркнул и отвернулся, демонстрируя своё мнение об умственных способностях дворняги.
–...Вот так... А потом я услышала шорохи и грохот, ну встала, думаю, Юлик набедокурил, а тут он...– Аннушка к тому времени уже была залита соплями и слезами, но мужественно рассказывала детективам о произошедшем. – Извините... Стоит посреди гостиной, в руках деньги, я так испугалась! – под конец женщина всё-таки разрыдалась. Ей тут же протянул стакан воды сосед, который выглядел не менее нелепо, чем всегда. Юлик до сих пор не понимал, что он тут делает. Даже куртку снять не удосужился, как вбежал сюда на крики Анечки, так убираться не спешит.
– Вы рассказывайте, Анна Андреевна, рассказывайте. Куда потом побежал грабитель? – голос у полицейского, чья куртка пахла жареными пирожками, приятный, он не торопил, но и не позволял женщине останавливаться. Эксперт и детектив в то время снимали отпечатки пальцев со шкафа и замочной скважины. Следов взлома не было.
– Я-я не знаю, извините, я так испугалась... Он выбежал за дверь и куда-то вниз по лестнице, – она махнула рукой в сторону выхода. На лице Анечки отражались все старания, которые она прикладывала, чтобы вспомнить. – А потом почти сразу пришёл Дмитрий, он мой сосед, я давно его знаю. Он и вызывал вас.
«Мало того что наследил, так ещё и все улики потоптал, помош-шничек...»
– Ничего, Анечка, всё позади, – предмет обсуждения продолжал поддакивать. Кот отвернулся и выплюнул:
«Вот же пристал! Только болтать и может!»
«А ты чем лучше? – неожиданно вмешался пёс. Он казался разочарованным и даже злым, каждое слово выдавливал с брезгливостью.
«Ты на что намекаешь, блохастый? »
«Называл меня бесполезным, а сам! Твой дом ограбили, хозяйку напугали, а могли и чего похуже!.. А ты спал! Дрых, как сурок в своей уютной постельке. И кто из нас бесполезный? »
«А что я мог?! – возмутился уязвленный Юлик, даже выбрался из укрытия. – Не все из нас, между прочим, обучены преступников ловить! »
«Как будто ты сможешь! Трусам в полиции не место!» – жестко припечатал Маяк и отвернулся. Юлик тоже молчал, у носа собрались жирные складки, а хвост отражал тяжёлую работу мысли.
«Я был здесь сразу после грабителя» - вдруг серьёзно заявил кот, сел напротив и склонил голову. Со стороны это смотрелось забавно.
«И что с того?»
«А то, ошибка природы, что я мог учуять его запах, - на этих словах пёс воодушевлённо вскочил и замахал хвостом. - Но его не было. Только амбре этого идиота, как будто пару часов в квартире провел».
Юлик кивнул в сторону соседа. Оба смерили человека хмурым взглядом.
«Чем от него так разит? - нос Маяка сморщился, а уши поджались.
«Понятия не имею, безысходностью? - рыжий неспеша вылизывал лапу, одним глазом наблюдая за мужчиной. - Но самое интересное, что от него даже не пахло улицей, хотя сейчас утверждает, что пришёл с работы. Хотя какая работа у этого неудачника в пять утра?».
«Думаешь, это он квартиру обчистил?»
«Вряд ли он способен украсть что-то ценнее зубочистки».
«Не скажи, - мотнул головой пес, - я и не таких преступников видел. В любом случае ты...- он отвернулся, сморщился и выдавил, - молодец. Нашел улику».
«Конечно, я великолепен, - были бы плечи, кот бы ими пожал. - Теперь дело за тобой. Не облажайся с доказательствами».
- ...Вы утверждаете, что возвращались с подработки в пять утра, зашли в подъезд, стали подниматься, услышали крики и побежали к квартире Анны, - зачитывал русый полицейский. Сосед прищурился, кивнул, но так резко, что чуть не расплескал остатки воды в стакане. Пёс зарычал, и мужчина предпочёл оставить бокал на столе.
- Отвечайте, пожалуйста, прямо: да или нет, - оперативник бросил взгляд на пушистого напарника, который внимательно следил за соседом.
- Вы были на работе этим утром?
- Да, конечно, я так и...
Громкий лай разнёсся по квартире. Полицейский скосил взгляд, но не прокомментировал.
«Так-то! Топи его, ушастый!» - горячо болел Юлик.
- По пути домой встретили кого-нибудь необычного? Подозрительного?
- Нет, - тишина. Собеседник чуть наклонился вперед.
- У вас был доступ в квартиру потерпевшей?
Мужчина в куртке вскочил, опрокинув стакан, и с дрожащей от негодования губой воскликнул:
- Вы что меня подозреваете?! Что за допрос?
- Это моя работа– подозревать всех и находить виновного, - спокойно отбил полицейский. Кот уже предвкушал, как он расколет этого болвана, но вдруг того окликнул другой эксперт. Оказалось, он нашёл улику– след от ботинка на ворсе ковра, причём довольно четкий.
«А ты как это пропустил?» - удивился Юлик, но подходить ближе не решился, пока там столпились все служащие. Наоборот, уверенно потерся о ногу Аннушки и устроился на ее коленях.
«На тебя отвлёкся» - пробурчал Маяк, Юлик расплылся в ухмылке.
«Конечно, хорошей ищейке всегда насморк мешает».
-... И что, эти протекторы определённой обуви?
- Нет, но вероятность больше пятидесяти процентов, что наш преступник диабетик. Есть фирмы, изготавливающие обувь для больных, она имеет некоторые особенности: форма, ткань, стелька. Я собрал образцы и скоро смогу сказать точно.
Аня сидела, о чём-то задумавшись, и рассеянно чесала за ухом кота, но вдруг нахмурилась и приоткрыла рот.
- Дмитрий, помнишь, ты вчера говорил, что тебе сладкое нельзя? У тебя тоже диабет, да? - прозвучало неловко, даже по-детски, но Юлик почувствовал, как на его теле сомкнулись стальные женские руки, и поспешил вырваться. И был шокирован, заметив, как на привычном глуповатом выражении лица соседа проступает гнев вперемешку со страхом. Глаза пылают, руки трясутся. Он стоял позади дивана, где разместилась Аня, так что никто не успел отреагировать, когда тот бросился на женщину, прижимая к её шее ножницы.
-Не подходите! Не подходите, иначе она пострадает!
«Оп-па Штирлиц! А ну брось мою хозяйку, псих!»
Напряжение мгновенно сковало комнату. Казалось, мужчина обезумел. Он часто задышал, глядя в упор рычащему псу, пока полицейские старались его отвлечь и обойти со стороны. Маяк вытянулся как стрела в ожидании команды.
- Отпустите Анну, не нужно жертв,- убеждал офицер.
Полицейские были готовы схватить нападавшего, как внезапно их опередила воинственная рыжая молния, поразившая врага прямо в лицо смертоносными когтями. Атака была столь стремительной, что шокированного вора легко скрутили и заключили в наручники.
«Из тебя вышел бы неплохой полицейский пес!»- на радостях оповестил Маяк, пока вокруг суетились люди.
«Ерунду не говори,- Юлик фыркнул, приглаживая языком шерсть.- Зачем королю гоняться за бандитами? Меня ждет сон, еда и богатая Анечка, кто-то же должен за ней присматривать».
Короли смотрят на мир просто: для них все люди - подданные. Любовь народа - вот единственное, чем по-настоящему владеют короли. В случае Юлика ещё и собственным лотком.
Рыжее усатое величество в этот день изволило встать с вязаного трона и устроить аудиенцию своей соседке - Аннушке, дочери ныне покойной хозяйки квартиры.
«Жалко её, - плоская прямоугольная морда задумчиво опустилась на лапы. Аннушка носилась по кухне, обжигаясь и спотыкаясь о стулья. - И чего добилась к тридцати? Никаких амбиций и перспектив. Рано вы меня, Любовь Пал-лна покинули, мы б таких дел наворотили! С вашими связями и деньгами, да с моими мозгами…»
Кот с гордо поднятым хвостом потрусил к ванной проверить сохранность второй собственности, как в дверь внезапно постучали, следом раздались три коротких нервных звонка.
«Кого нелегкая несёт?»
На кухню вошёл сосед, большеглазый мужчина в безвкусной фиолетовой жилетке поверх рубашки. Живёт в квартире напротив со своей мамой-кошатницей. Уж Юлик не знал, кому везет меньше: этому соседу или котам. Воняло у них там будь здоров!
«И сюда принёс эту заразу!»
Вслед за мужчиной по квартире тоже стал распространяться неприятный сладковатый запах.
- Я чего пришёл-то к вам? Помощь не нужна? - он замялся у входа.
«Так ты для этого полчаса в дверь тарабанил? Думал, у нас тут потоп, и решил водички попросить?» - Юлик скептически поджал щеки и занял наблюдательный пункт на подоконнике. Отдать простофилю Аннушку в лапы этому неудачнику он не мог, даже если вонь стояла невообразимая.
Между людьми завязалась пустая беседа, пропитанная неловкостью и нелепыми вопросами по типу «Любишь варенье?». Сосед от сладкого отказался категорически, так что Юлик быстро решил:
«Он нам не пара».
–Мрряяяу! – оба человека одновременно вздрогнули и растерянно обернулись к рыжему пятну у холодильника. Тот исподлобья сверлил их недовольным взглядом, усы воинственно подергивались.
«И не таких обламывали!»
- Мррооуу! - Юлик ещё пронзительней замурчал, разворачивая голос на все две октавы. Ради того, чтоб выгнать соседа, он был готов поднапрячься, и неважно, сколько времени это в итоге заняло.
– Юлик, ну вот что тебе нужно? – отчаянно воскликнула Аня, вышагивая вдоль кухни, после того, как знакомый в спешке покинул квартиру. А вонь, как заметил рыжий, выветривалась еще час.
«Деньги, слава, мировое господство» – без запинки выдал кот, гордо вздернул нос и продефилировал к комнате, где завалился спать до самого утра.
Однако около пяти часов его разбудил странный грохот из гостиной. Пребывая в ленивой дреме, Юлик заключил, что это всего лишь Аннушка ищет свои таблетки, поэтому со спокойной совестью перегруппировался и вновь мирно засопел. Но выспаться сегодня ему было не суждено.
Вот уже полчаса кот наблюдал за работой представителей закона, сидя в проходе между развороченными шкафами, пока где-то рядом бродил полицейский пёс по кличке Маяк – огромная серовато-коричневая дворняга с острыми треугольными ушами и вытянутой мордой. Тот моментально погрузился в работу, рыская по всему дому, пока двое в форме осматривали место происшествия, а один опрашивал Аню. Где-то позади толпились любопытные сплетники, то есть понятые.
Уж как Юлик потешался над псом, когда тот ни грабителя не смог учуять, ни улики найти. А гонору-то было!
«Не умничай, варежка! Сиди себе в углу, пока другие работают - хмуро прорычал пёс, расхаживая вокруг шкафа. - Я же не виноват, что тут всё затоптали! Кроме хозяйки, того соседа запах чую и твой. Может ты и спер деньги?» – подозрительно прищурился Маяк.
Кот фыркнул и отвернулся, демонстрируя своё мнение об умственных способностях дворняги.
–...Вот так... А потом я услышала шорохи и грохот, ну встала, думаю, Юлик набедокурил, а тут он...– Аннушка к тому времени уже была залита соплями и слезами, но мужественно рассказывала детективам о произошедшем. – Извините... Стоит посреди гостиной, в руках деньги, я так испугалась! – под конец женщина всё-таки разрыдалась. Ей тут же протянул стакан воды сосед, который выглядел не менее нелепо, чем всегда. Юлик до сих пор не понимал, что он тут делает. Даже куртку снять не удосужился, как вбежал сюда на крики Анечки, так убираться не спешит.
– Вы рассказывайте, Анна Андреевна, рассказывайте. Куда потом побежал грабитель? – голос у полицейского, чья куртка пахла жареными пирожками, приятный, он не торопил, но и не позволял женщине останавливаться. Эксперт и детектив в то время снимали отпечатки пальцев со шкафа и замочной скважины. Следов взлома не было.
– Я-я не знаю, извините, я так испугалась... Он выбежал за дверь и куда-то вниз по лестнице, – она махнула рукой в сторону выхода. На лице Анечки отражались все старания, которые она прикладывала, чтобы вспомнить. – А потом почти сразу пришёл Дмитрий, он мой сосед, я давно его знаю. Он и вызывал вас.
«Мало того что наследил, так ещё и все улики потоптал, помош-шничек...»
– Ничего, Анечка, всё позади, – предмет обсуждения продолжал поддакивать. Кот отвернулся и выплюнул:
«Вот же пристал! Только болтать и может!»
«А ты чем лучше? – неожиданно вмешался пёс. Он казался разочарованным и даже злым, каждое слово выдавливал с брезгливостью.
«Ты на что намекаешь, блохастый? »
«Называл меня бесполезным, а сам! Твой дом ограбили, хозяйку напугали, а могли и чего похуже!.. А ты спал! Дрых, как сурок в своей уютной постельке. И кто из нас бесполезный? »
«А что я мог?! – возмутился уязвленный Юлик, даже выбрался из укрытия. – Не все из нас, между прочим, обучены преступников ловить! »
«Как будто ты сможешь! Трусам в полиции не место!» – жестко припечатал Маяк и отвернулся. Юлик тоже молчал, у носа собрались жирные складки, а хвост отражал тяжёлую работу мысли.
«Я был здесь сразу после грабителя» - вдруг серьёзно заявил кот, сел напротив и склонил голову. Со стороны это смотрелось забавно.
«И что с того?»
«А то, ошибка природы, что я мог учуять его запах, - на этих словах пёс воодушевлённо вскочил и замахал хвостом. - Но его не было. Только амбре этого идиота, как будто пару часов в квартире провел».
Юлик кивнул в сторону соседа. Оба смерили человека хмурым взглядом.
«Чем от него так разит? - нос Маяка сморщился, а уши поджались.
«Понятия не имею, безысходностью? - рыжий неспеша вылизывал лапу, одним глазом наблюдая за мужчиной. - Но самое интересное, что от него даже не пахло улицей, хотя сейчас утверждает, что пришёл с работы. Хотя какая работа у этого неудачника в пять утра?».
«Думаешь, это он квартиру обчистил?»
«Вряд ли он способен украсть что-то ценнее зубочистки».
«Не скажи, - мотнул головой пес, - я и не таких преступников видел. В любом случае ты...- он отвернулся, сморщился и выдавил, - молодец. Нашел улику».
«Конечно, я великолепен, - были бы плечи, кот бы ими пожал. - Теперь дело за тобой. Не облажайся с доказательствами».
- ...Вы утверждаете, что возвращались с подработки в пять утра, зашли в подъезд, стали подниматься, услышали крики и побежали к квартире Анны, - зачитывал русый полицейский. Сосед прищурился, кивнул, но так резко, что чуть не расплескал остатки воды в стакане. Пёс зарычал, и мужчина предпочёл оставить бокал на столе.
- Отвечайте, пожалуйста, прямо: да или нет, - оперативник бросил взгляд на пушистого напарника, который внимательно следил за соседом.
- Вы были на работе этим утром?
- Да, конечно, я так и...
Громкий лай разнёсся по квартире. Полицейский скосил взгляд, но не прокомментировал.
«Так-то! Топи его, ушастый!» - горячо болел Юлик.
- По пути домой встретили кого-нибудь необычного? Подозрительного?
- Нет, - тишина. Собеседник чуть наклонился вперед.
- У вас был доступ в квартиру потерпевшей?
Мужчина в куртке вскочил, опрокинув стакан, и с дрожащей от негодования губой воскликнул:
- Вы что меня подозреваете?! Что за допрос?
- Это моя работа– подозревать всех и находить виновного, - спокойно отбил полицейский. Кот уже предвкушал, как он расколет этого болвана, но вдруг того окликнул другой эксперт. Оказалось, он нашёл улику– след от ботинка на ворсе ковра, причём довольно четкий.
«А ты как это пропустил?» - удивился Юлик, но подходить ближе не решился, пока там столпились все служащие. Наоборот, уверенно потерся о ногу Аннушки и устроился на ее коленях.
«На тебя отвлёкся» - пробурчал Маяк, Юлик расплылся в ухмылке.
«Конечно, хорошей ищейке всегда насморк мешает».
-... И что, эти протекторы определённой обуви?
- Нет, но вероятность больше пятидесяти процентов, что наш преступник диабетик. Есть фирмы, изготавливающие обувь для больных, она имеет некоторые особенности: форма, ткань, стелька. Я собрал образцы и скоро смогу сказать точно.
Аня сидела, о чём-то задумавшись, и рассеянно чесала за ухом кота, но вдруг нахмурилась и приоткрыла рот.
- Дмитрий, помнишь, ты вчера говорил, что тебе сладкое нельзя? У тебя тоже диабет, да? - прозвучало неловко, даже по-детски, но Юлик почувствовал, как на его теле сомкнулись стальные женские руки, и поспешил вырваться. И был шокирован, заметив, как на привычном глуповатом выражении лица соседа проступает гнев вперемешку со страхом. Глаза пылают, руки трясутся. Он стоял позади дивана, где разместилась Аня, так что никто не успел отреагировать, когда тот бросился на женщину, прижимая к её шее ножницы.
-Не подходите! Не подходите, иначе она пострадает!
«Оп-па Штирлиц! А ну брось мою хозяйку, псих!»
Напряжение мгновенно сковало комнату. Казалось, мужчина обезумел. Он часто задышал, глядя в упор рычащему псу, пока полицейские старались его отвлечь и обойти со стороны. Маяк вытянулся как стрела в ожидании команды.
- Отпустите Анну, не нужно жертв,- убеждал офицер.
Полицейские были готовы схватить нападавшего, как внезапно их опередила воинственная рыжая молния, поразившая врага прямо в лицо смертоносными когтями. Атака была столь стремительной, что шокированного вора легко скрутили и заключили в наручники.
«Из тебя вышел бы неплохой полицейский пес!»- на радостях оповестил Маяк, пока вокруг суетились люди.
«Ерунду не говори,- Юлик фыркнул, приглаживая языком шерсть.- Зачем королю гоняться за бандитами? Меня ждет сон, еда и богатая Анечка, кто-то же должен за ней присматривать».
Мазго Екатерина. Настоящий спасатель
Двери автобуса открылись со скрипом, и салон заполнили пассажиры, отчего сразу стало шумно. Молодой человек с несколькими пустыми коробками в руках зашёл последним и, заплатив за проезд, сел на свободное место.
Унылый городской пейзаж за окном, медленно растворяясь в туманной дымке, превращался в ярко-зеленое полотно. Капли дождя, как бы соревнуясь между собой, кто быстрее добежит до края стекла, и дальше продолжали бы убаюкивать парня, если бы не зазвонил телефон:
– Алло, Сенечка! Ты не забыл взять ключи? – из трубки донёсся женский голос.
– Не переживай, мам, я не забыл. Скоро уже моя остановка, так что позвоню позже, – Арсений попрощался с матерью и сунул телефон в карман.
Старенький автобус остановился на развилке, и люди поспешно выпорхнули из него, раскрывая свои цветные зонтики, похожие на разноцветных бабочек. Несмотря на середину августа, было довольно прохладно. Оказавшись на свежем воздухе, Арсений полной грудью вдохнул бодрящий аромат влажной степной травы и зашагал в сторону небольшой деревушки, видневшейся вдали.
Чувство невыразимой тоски и печали тут же накрыло парня с головой. Два месяца назад умер его дедушка, который был ему другом и опорой во всем. Арсений сожалел, что не был рядом с дедом в последний час, и даже похороны прошли в его отсутствие. Но на то были веские причины, и молодой человек понимал, что не мог поступить иначе.
Постепенно грустные мысли сменились теплыми, греющими душу воспоминаниями: как дед учил его плавать, как они вместе ходили на рыбалку с ночевкой на дальнее озеро, как делали зарядку по утрам и закалялись зимой, обтираясь снегом.
– Как же мне тебя не хватает! - выдохнул Арсений, переступая порог родного дома. Он зажёг свет и стал осматривать комнаты. В спальне деда на стене среди фотографий в самом центре красовался детский рисунок. Соседская девчонка старательно нарисовала его и подарила своему герою. Хотя ей было всего лет пять-шесть тогда, на листке четко угадывалась личность Арсения, а также она - счастливая Нюрка, с улыбкой до ушей и котом Барсиком на руках. События, произошедшие десять лет назад, предопределили дальнейшую жизнь пятнадцатилетнего юноши, и поэтому дедушка спустя годы, понимая важность момента, подписал на обороте рисунка: «Лето 2003 года».
В тот день надвигалась гроза. Черные тучи все наползали и наползали, и вот они уже тяжело нависли над крышами домов. Арсений с дедом Николаем Петровичем, поспешно смотав удочки и прихватив с собой богатый улов, спешили домой. Возле калитки их встретила Нюра. Захлебываясь от слез, девочка твердила:
– Барсик, мой Барсик! Он пропал! Его нет уже несколько дней. А теперь пойдет дождь, и он точно погибнет! Помогите! Его срочно нужно найти.
Мальчик посмотрел на деда, как бы спрашивая разрешения. Видя желание внука помочь, дед одобрительно кивнул.
– Нюра, а ты останься. Не дело маленьким девочкам в непогоду гулять, – строго сказал Николай Петрович. – Пойдем в дом. Поможешь мне.
Все еще всхлипывая, девочка подчинилась. Едва она вошла в дом, сверкнула молния, а секунд через десять прогремел гром. Крупные капли забарабанили по крыше. Вздрогнув, но тут же собравшись с силами, девочка решительно шмыгнула к двери, прокричав:
– Я мигом, он без меня не найдет!
Дед только успел всплеснуть руками.
– Арсений! – закричала Нюрка, выбежав за калитку и несясь вниз по пригорку.
Обернувшись, мальчик с ужасом увидел, как ноги девчушки, разъезжаясь в разные стороны по скользкой от дождя тропинке, подкосились. Девочка кубарем скатилась по склону и замерла. Ни секунды не медля, Арсений подбежал к ней, подхватил ее на руки и понес домой. Ливень больно хлестал лицо, но мальчишка, крепко прижимая к себе Нюру, шел и шел вперед. Сочившаяся из грязных разбитых коленок кровь размывалась дождем и пугала Арсения. К счастью, мама девочки, выбежавшая на ее крик, уже оказалась рядом. Передавая Нюру на руки матери, паренек услышал тихий отчаянный шепот:
– Барсик…
От переживаний мальчишка уже и забыл, из-за чего все началось.
Летний ливень закончился так же быстро, как и начался. Подросток промок до нитки, но, помня переживания соседки, продолжил поиски. Безрезультатно обойдя окрестности, Арсений добрел до берега реки, где увидел небольшой прохудившийся сарай. Когда-то в нем рыбаки оставляли свои лодки, а теперь там находился всякий хлам: старые весла, коряги, обломки досок – в общем, все, что могло сгодиться для костра.
– Барсик, Барсик, – тихонько позвал мальчик и прислушался.
Какой-то еле различимый звук донесся из-под кучи досок в углу. Арсений осторожно подошел поближе. Из темноты на него смотрели чьи-то глаза. Больше ничего не было видно. Сначала мальчишка обрадовался, что нашел кота, но тут же понял, что он завален всеми этими досками и, вероятно, сильно покалечен. Он как будто на себе почувствовал боль и отчаяние бедного животного и опять осторожно поглядел вглубь этой кучи. Глаза все еще смотрели и смотрели прямо в душу Арсения. И он решился! Осторожно одну за другой он убирал доски и коряги, боясь нарушить хрупкий баланс этой конструкции. Расчистив завал, мальчишка увидел грязного рыжего кота, который лежал без сил и не шевелился.
– Как же ты здесь оказался, бедняга? – сквозь подступившие слезы жалости пробормотал парнишка. – Держись, попробую тебе помочь. Одна очень хорошая девочка ждет тебя.
В сарае нашелся кусок фанеры, который потихоньку получилось подсунуть под кота. Арсений аккуратно поднял животное и понес хозяйке.
Счастью девочки не было предела. Она, забыв про разбитые коленки и ушибы, вскочила с кровати и принялась обнимать своего героя.
– Ты же настоящий спасатель! Понимаешь? Ты спас меня и Барсика! Я знала, знала, что ты его обязательно спасешь!
И Нюра, и Барсик очень быстро поправились. А в награду Арсений получил великолепный рисунок.
Прошли годы. Арсений окончил академию и действительно стал работать в поисково-спасательной службе МЧС России. Но о своем дедушке он никогда не забывал. Как только выдавалась возможность, всегда приезжал к нему в деревню. Николай Петрович трепетно хранил у себя игрушки Сени, его рисунки и поделки, которые они мастерили вместе. Дед одобрял выбор внука, гордился им и поддерживал во всем.
– Дедуль, ты прости меня, что не смог приехать, – окинув тоскливым взглядом комнату, произнес Арсений. На глаза навернулись слезы. – Я был очень далеко, в Кемеровской области. Там произошло землетрясение. Рано утром, когда еще все спали. Пострадало много людей, – как бы оправдываясь, продолжал внук. – Ты знаешь, спустя пять дней я нашел мальчишку лет пяти. По глазам. Фонариком светил в какой-то жуткий завал, а там он. Смотрит на меня и молчит. Я сразу вспомнил Барсика. Малыша мы, конечно, вытащили. Но глаза… Его глаза я никогда не забуду. В них было все: испуг, надежда, радость!
Молодой человек еще какое-то время просидел молча, прощаясь и с дедом, и с детством, потом заботливо уложил в привезенные коробки дорогие сердцу вещи, еще немного постоял на пороге дома и вышел. Дождь давно закончился. Светило яркое солнце. На душе тоже стало гораздо легче. Арсений, закрыв за собой калитку, еще на минуту задержался и зашагал в сторону автобусной остановки.
Двери автобуса открылись со скрипом, и салон заполнили пассажиры, отчего сразу стало шумно. Молодой человек с несколькими пустыми коробками в руках зашёл последним и, заплатив за проезд, сел на свободное место.
Унылый городской пейзаж за окном, медленно растворяясь в туманной дымке, превращался в ярко-зеленое полотно. Капли дождя, как бы соревнуясь между собой, кто быстрее добежит до края стекла, и дальше продолжали бы убаюкивать парня, если бы не зазвонил телефон:
– Алло, Сенечка! Ты не забыл взять ключи? – из трубки донёсся женский голос.
– Не переживай, мам, я не забыл. Скоро уже моя остановка, так что позвоню позже, – Арсений попрощался с матерью и сунул телефон в карман.
Старенький автобус остановился на развилке, и люди поспешно выпорхнули из него, раскрывая свои цветные зонтики, похожие на разноцветных бабочек. Несмотря на середину августа, было довольно прохладно. Оказавшись на свежем воздухе, Арсений полной грудью вдохнул бодрящий аромат влажной степной травы и зашагал в сторону небольшой деревушки, видневшейся вдали.
Чувство невыразимой тоски и печали тут же накрыло парня с головой. Два месяца назад умер его дедушка, который был ему другом и опорой во всем. Арсений сожалел, что не был рядом с дедом в последний час, и даже похороны прошли в его отсутствие. Но на то были веские причины, и молодой человек понимал, что не мог поступить иначе.
Постепенно грустные мысли сменились теплыми, греющими душу воспоминаниями: как дед учил его плавать, как они вместе ходили на рыбалку с ночевкой на дальнее озеро, как делали зарядку по утрам и закалялись зимой, обтираясь снегом.
– Как же мне тебя не хватает! - выдохнул Арсений, переступая порог родного дома. Он зажёг свет и стал осматривать комнаты. В спальне деда на стене среди фотографий в самом центре красовался детский рисунок. Соседская девчонка старательно нарисовала его и подарила своему герою. Хотя ей было всего лет пять-шесть тогда, на листке четко угадывалась личность Арсения, а также она - счастливая Нюрка, с улыбкой до ушей и котом Барсиком на руках. События, произошедшие десять лет назад, предопределили дальнейшую жизнь пятнадцатилетнего юноши, и поэтому дедушка спустя годы, понимая важность момента, подписал на обороте рисунка: «Лето 2003 года».
В тот день надвигалась гроза. Черные тучи все наползали и наползали, и вот они уже тяжело нависли над крышами домов. Арсений с дедом Николаем Петровичем, поспешно смотав удочки и прихватив с собой богатый улов, спешили домой. Возле калитки их встретила Нюра. Захлебываясь от слез, девочка твердила:
– Барсик, мой Барсик! Он пропал! Его нет уже несколько дней. А теперь пойдет дождь, и он точно погибнет! Помогите! Его срочно нужно найти.
Мальчик посмотрел на деда, как бы спрашивая разрешения. Видя желание внука помочь, дед одобрительно кивнул.
– Нюра, а ты останься. Не дело маленьким девочкам в непогоду гулять, – строго сказал Николай Петрович. – Пойдем в дом. Поможешь мне.
Все еще всхлипывая, девочка подчинилась. Едва она вошла в дом, сверкнула молния, а секунд через десять прогремел гром. Крупные капли забарабанили по крыше. Вздрогнув, но тут же собравшись с силами, девочка решительно шмыгнула к двери, прокричав:
– Я мигом, он без меня не найдет!
Дед только успел всплеснуть руками.
– Арсений! – закричала Нюрка, выбежав за калитку и несясь вниз по пригорку.
Обернувшись, мальчик с ужасом увидел, как ноги девчушки, разъезжаясь в разные стороны по скользкой от дождя тропинке, подкосились. Девочка кубарем скатилась по склону и замерла. Ни секунды не медля, Арсений подбежал к ней, подхватил ее на руки и понес домой. Ливень больно хлестал лицо, но мальчишка, крепко прижимая к себе Нюру, шел и шел вперед. Сочившаяся из грязных разбитых коленок кровь размывалась дождем и пугала Арсения. К счастью, мама девочки, выбежавшая на ее крик, уже оказалась рядом. Передавая Нюру на руки матери, паренек услышал тихий отчаянный шепот:
– Барсик…
От переживаний мальчишка уже и забыл, из-за чего все началось.
Летний ливень закончился так же быстро, как и начался. Подросток промок до нитки, но, помня переживания соседки, продолжил поиски. Безрезультатно обойдя окрестности, Арсений добрел до берега реки, где увидел небольшой прохудившийся сарай. Когда-то в нем рыбаки оставляли свои лодки, а теперь там находился всякий хлам: старые весла, коряги, обломки досок – в общем, все, что могло сгодиться для костра.
– Барсик, Барсик, – тихонько позвал мальчик и прислушался.
Какой-то еле различимый звук донесся из-под кучи досок в углу. Арсений осторожно подошел поближе. Из темноты на него смотрели чьи-то глаза. Больше ничего не было видно. Сначала мальчишка обрадовался, что нашел кота, но тут же понял, что он завален всеми этими досками и, вероятно, сильно покалечен. Он как будто на себе почувствовал боль и отчаяние бедного животного и опять осторожно поглядел вглубь этой кучи. Глаза все еще смотрели и смотрели прямо в душу Арсения. И он решился! Осторожно одну за другой он убирал доски и коряги, боясь нарушить хрупкий баланс этой конструкции. Расчистив завал, мальчишка увидел грязного рыжего кота, который лежал без сил и не шевелился.
– Как же ты здесь оказался, бедняга? – сквозь подступившие слезы жалости пробормотал парнишка. – Держись, попробую тебе помочь. Одна очень хорошая девочка ждет тебя.
В сарае нашелся кусок фанеры, который потихоньку получилось подсунуть под кота. Арсений аккуратно поднял животное и понес хозяйке.
Счастью девочки не было предела. Она, забыв про разбитые коленки и ушибы, вскочила с кровати и принялась обнимать своего героя.
– Ты же настоящий спасатель! Понимаешь? Ты спас меня и Барсика! Я знала, знала, что ты его обязательно спасешь!
И Нюра, и Барсик очень быстро поправились. А в награду Арсений получил великолепный рисунок.
Прошли годы. Арсений окончил академию и действительно стал работать в поисково-спасательной службе МЧС России. Но о своем дедушке он никогда не забывал. Как только выдавалась возможность, всегда приезжал к нему в деревню. Николай Петрович трепетно хранил у себя игрушки Сени, его рисунки и поделки, которые они мастерили вместе. Дед одобрял выбор внука, гордился им и поддерживал во всем.
– Дедуль, ты прости меня, что не смог приехать, – окинув тоскливым взглядом комнату, произнес Арсений. На глаза навернулись слезы. – Я был очень далеко, в Кемеровской области. Там произошло землетрясение. Рано утром, когда еще все спали. Пострадало много людей, – как бы оправдываясь, продолжал внук. – Ты знаешь, спустя пять дней я нашел мальчишку лет пяти. По глазам. Фонариком светил в какой-то жуткий завал, а там он. Смотрит на меня и молчит. Я сразу вспомнил Барсика. Малыша мы, конечно, вытащили. Но глаза… Его глаза я никогда не забуду. В них было все: испуг, надежда, радость!
Молодой человек еще какое-то время просидел молча, прощаясь и с дедом, и с детством, потом заботливо уложил в привезенные коробки дорогие сердцу вещи, еще немного постоял на пороге дома и вышел. Дождь давно закончился. Светило яркое солнце. На душе тоже стало гораздо легче. Арсений, закрыв за собой калитку, еще на минуту задержался и зашагал в сторону автобусной остановки.
Репка Артем. Мой детский страх
Живу я в хуторе, у нас небольшая школа. Я учусь в 8 классе и думаю, что уже довольно взрослый. Мне почти пятнадцать, и я считаю себя мужчиной. Я не должен ничего бояться, потому что девчонки засмеют. Но… Есть у меня давнишняя глубокая тайна, тайна страха. Я боюсь козлов…
Когда мне предложили написать небольшой рассказ на данную тему, я сразу решил, что буду писать про этого проклятого козла, который приходит ко мне часто «в гости» во сне.
Случилось это происшествие, когда я заканчивал 3 класс. Иду в школу. На улице весна, середина мая, тепло. Ярко светит солнышко. И вдруг… вот оно – чудо. Прямо передо мной он – козел. Белый, красивый, высокий, с длинной бородой и, как мне тогда показалось, с огромными рогами. Козел произнес: «Мэ-э-э!». От страха я не мог шевельнуться. Думаю: обойду. Только ногу хотел переставить, как козел тряхнул головой и грозно ударил о землю копытом. Я замер, козел тоже не двигался, только рассматривал меня своими огромными козлиными глазищами.
Взрослых рядом не было, только на школьной площадке играли в футбол старшеклассники. На меня никто не обращал внимания.
Надо было что-то делать. Я тихонько снял рюкзак и размахнулся, чтобы прогнать козла. Он тут же отреагировал и рогом зацепил за одну лямку моего рюкзака. За другую держался я. Мне надо было отпустить рюкзак, но как же… Мне ведь жалко было рюкзачок. Но, оказывается, козел сам испугался, повернулся и побежал по направлению к школе. От страха я ничего не чувствовал и бежал следом.
В школе увидели наш бег и помчались наперерез. Ребята схватили козла, держали его за рога, а я тянул лямку рюкзака с козлиного рога. Козел вытаращил глаза и опять заорал: «Мэ-э-э». Я упал от страха и заплакал…
Ребята меня подняли, отряхнули, надели на плечи рюкзачок, вытерли слезы и сказали: «Герой! С таким козлом встретиться никому не пожелаешь!». Это я в их глазах был героем, а на самом деле я был трусишкой. И это чувство меня преследовало очень долго.
Но, оказывается, это был еще не конец моим испытаниям. В сентябре, уже в четвертом классе (а учился я во вторую смену), у нас шел урок. Я смотрел в окно и вдруг увидел своего знакомого: он заходил в открытую калитку школьного двора. У меня замерло сердце. Двери школы тоже были открытыми, так как на улице стояла жара.
Я уже не слышал, о чем говорила учительница, а только смотрел в окно и почему-то прислушивался. А надо сказать, что в то время полы в школе были деревянными. В тот момент все были на уроках, в коридоре стояла тишина, и вдруг эту тишину прервал звук каблучков: цок-цок, цок-цок… Думаю: слава Богу, наверное, директор идет. Только подумал, а в дверь просовывается козлиная голова и опять: «Мэ-э-э!!!»
Учительница завизжала, дети захохотали, а я залез под стол, умирая от страха. Меня еле вытащили оттуда. Я упирался, брыкался, и кричал…
Этот страх преследовал меня долго. Я боялся ходить по улице, мне казалось, что все знают о моей слабости, смеются надо мной. А ночами было еще тяжелее. Козел как будто хохотал надо мной, его козлиная голова словно хотела меня съесть.
Я и сейчас боюсь козлов, но о своей беде я никому не рассказываю. Может быть, эта история поможет мне преодолеть страх?
Живу я в хуторе, у нас небольшая школа. Я учусь в 8 классе и думаю, что уже довольно взрослый. Мне почти пятнадцать, и я считаю себя мужчиной. Я не должен ничего бояться, потому что девчонки засмеют. Но… Есть у меня давнишняя глубокая тайна, тайна страха. Я боюсь козлов…
Когда мне предложили написать небольшой рассказ на данную тему, я сразу решил, что буду писать про этого проклятого козла, который приходит ко мне часто «в гости» во сне.
Случилось это происшествие, когда я заканчивал 3 класс. Иду в школу. На улице весна, середина мая, тепло. Ярко светит солнышко. И вдруг… вот оно – чудо. Прямо передо мной он – козел. Белый, красивый, высокий, с длинной бородой и, как мне тогда показалось, с огромными рогами. Козел произнес: «Мэ-э-э!». От страха я не мог шевельнуться. Думаю: обойду. Только ногу хотел переставить, как козел тряхнул головой и грозно ударил о землю копытом. Я замер, козел тоже не двигался, только рассматривал меня своими огромными козлиными глазищами.
Взрослых рядом не было, только на школьной площадке играли в футбол старшеклассники. На меня никто не обращал внимания.
Надо было что-то делать. Я тихонько снял рюкзак и размахнулся, чтобы прогнать козла. Он тут же отреагировал и рогом зацепил за одну лямку моего рюкзака. За другую держался я. Мне надо было отпустить рюкзак, но как же… Мне ведь жалко было рюкзачок. Но, оказывается, козел сам испугался, повернулся и побежал по направлению к школе. От страха я ничего не чувствовал и бежал следом.
В школе увидели наш бег и помчались наперерез. Ребята схватили козла, держали его за рога, а я тянул лямку рюкзака с козлиного рога. Козел вытаращил глаза и опять заорал: «Мэ-э-э». Я упал от страха и заплакал…
Ребята меня подняли, отряхнули, надели на плечи рюкзачок, вытерли слезы и сказали: «Герой! С таким козлом встретиться никому не пожелаешь!». Это я в их глазах был героем, а на самом деле я был трусишкой. И это чувство меня преследовало очень долго.
Но, оказывается, это был еще не конец моим испытаниям. В сентябре, уже в четвертом классе (а учился я во вторую смену), у нас шел урок. Я смотрел в окно и вдруг увидел своего знакомого: он заходил в открытую калитку школьного двора. У меня замерло сердце. Двери школы тоже были открытыми, так как на улице стояла жара.
Я уже не слышал, о чем говорила учительница, а только смотрел в окно и почему-то прислушивался. А надо сказать, что в то время полы в школе были деревянными. В тот момент все были на уроках, в коридоре стояла тишина, и вдруг эту тишину прервал звук каблучков: цок-цок, цок-цок… Думаю: слава Богу, наверное, директор идет. Только подумал, а в дверь просовывается козлиная голова и опять: «Мэ-э-э!!!»
Учительница завизжала, дети захохотали, а я залез под стол, умирая от страха. Меня еле вытащили оттуда. Я упирался, брыкался, и кричал…
Этот страх преследовал меня долго. Я боялся ходить по улице, мне казалось, что все знают о моей слабости, смеются надо мной. А ночами было еще тяжелее. Козел как будто хохотал надо мной, его козлиная голова словно хотела меня съесть.
Я и сейчас боюсь козлов, но о своей беде я никому не рассказываю. Может быть, эта история поможет мне преодолеть страх?
Чумак Сергей. Как я нашел машину времени
Однажды я поехал в гости к бабушке. Встреча, как всегда, была тёплой, долгожданной, приятной. Вкусности и разносолы ждали меня. Нескончаемые бабушкины расспросы и вопросы иногда смешили. Бабушка всё еще считала меня маленьким. Чтобы доказать обратное, я потребовал серьёзную работу.
Я вырос, теперь моя очередь заботиться о бабушке. Она попросила разобрать старые вещи. И тут произошло чудо! Я нашёл машину времени! Да- да! Сбылась моя мечта. Эта чудо – машина лежала в коробочке и состояла из старых фотографий. Начало двадцатого века… Я даже представить не мог, как выглядит первый трактор. Вы мне можете возразить: тебе интернет для чего? Да просто в голову никогда не приходило посмотреть, вот и всё. А на этом первом тракторе мой прапрадед сеял хлеб, потом убирал урожай. Это создание и на трактор – то не очень похоже. А вот сфотографирована прабабушка со своими подругами на ферме. Все улыбаются, счастливые! А коров сколько! Телят, лошадей! И опять трактор. Но этот уже более современный, еду животным раздаёт. Правда, и он не очень похож на наши, сегодняшние.
И я увлекся. Вот старая фотография, а на ней изображены люди в казачьей форме. На следующей – новенький ЗИЛ, а из кабины выглядывает мой молодой дедуля, тоже улыбается, счастливый. Ему, как передовику производства, предоставили новую машину. Сколько зерна на ней было перевезено – не сосчитать! Дальше лежали «афганские фотографии». Мой дедушка служил в Афганистане. Он не любит об этом говорить. Потом снова бабушкино фото с каким – то странным инструментом. Бухгалтер она у меня.
Оказывается, бабушка этот инструмент сохранила и начала учить меня считать на нём. Я достал калькулятор, и мы долго смеялись, потому что мне не удавалось освоить сложение на счётах. А бабушка сотням человек насчитывала зарплату на этом мудрёном инструменте. Разбор архива затянулся до вечера. Много интересного и познавательного я увидел и услышал в тот день. Долго не мог уснуть. И следующий день я начал с «машины времени». С тех пор я дорожу каждой фотографией. Собираю свою «машину времени», чтобы не растерять то ценное и нужное, что имеет моя семья.
Однажды я поехал в гости к бабушке. Встреча, как всегда, была тёплой, долгожданной, приятной. Вкусности и разносолы ждали меня. Нескончаемые бабушкины расспросы и вопросы иногда смешили. Бабушка всё еще считала меня маленьким. Чтобы доказать обратное, я потребовал серьёзную работу.
Я вырос, теперь моя очередь заботиться о бабушке. Она попросила разобрать старые вещи. И тут произошло чудо! Я нашёл машину времени! Да- да! Сбылась моя мечта. Эта чудо – машина лежала в коробочке и состояла из старых фотографий. Начало двадцатого века… Я даже представить не мог, как выглядит первый трактор. Вы мне можете возразить: тебе интернет для чего? Да просто в голову никогда не приходило посмотреть, вот и всё. А на этом первом тракторе мой прапрадед сеял хлеб, потом убирал урожай. Это создание и на трактор – то не очень похоже. А вот сфотографирована прабабушка со своими подругами на ферме. Все улыбаются, счастливые! А коров сколько! Телят, лошадей! И опять трактор. Но этот уже более современный, еду животным раздаёт. Правда, и он не очень похож на наши, сегодняшние.
И я увлекся. Вот старая фотография, а на ней изображены люди в казачьей форме. На следующей – новенький ЗИЛ, а из кабины выглядывает мой молодой дедуля, тоже улыбается, счастливый. Ему, как передовику производства, предоставили новую машину. Сколько зерна на ней было перевезено – не сосчитать! Дальше лежали «афганские фотографии». Мой дедушка служил в Афганистане. Он не любит об этом говорить. Потом снова бабушкино фото с каким – то странным инструментом. Бухгалтер она у меня.
Оказывается, бабушка этот инструмент сохранила и начала учить меня считать на нём. Я достал калькулятор, и мы долго смеялись, потому что мне не удавалось освоить сложение на счётах. А бабушка сотням человек насчитывала зарплату на этом мудрёном инструменте. Разбор архива затянулся до вечера. Много интересного и познавательного я увидел и услышал в тот день. Долго не мог уснуть. И следующий день я начал с «машины времени». С тех пор я дорожу каждой фотографией. Собираю свою «машину времени», чтобы не растерять то ценное и нужное, что имеет моя семья.
Колдаев Артем. Наше место
Солнце светило так ярко, что хотелось закрыть глаза и идти по этой полевой дороге на ощупь, чувствуя на левой щеке горячую струю света. Казалось, что всё замерло: замолчали птицы, спрятавшись в густой листве, скрылись стрекозы и бабочки в траве, больше похожей на сено. И даже редкие облака застыли на месте, как парусные корабли в море в полный штиль. Я шёл по этой дороге, по которой не ступала моя нога долгих 10 лет. Закончил школу, поступил в университет. Родители почти сразу же переехали в город. Я полностью погрузился в бурную студенческую жизнь: учёба, новые друзья, море интересов и увлечений. О доме, где провел детство, вспоминал только тогда, когда случайно встречал на улице тех, с кем учился в школе. Да, наверное, еще в те моменты, когда отдыхал за городом в кругу весёлой компании.
Но неделю назад мне позвонил Вовка, разговорились, вспомнили старое. А в конце он и говорит:
-Тебя что, братан, совсем не тянет сюда, к нам, совсем огородился?
-В каком смысле?
-Да даже в двух смыслах: городским стал, боишься скуки, а во-вторых, как будто забор между нами. Слушай, надумаешь- приезжай, ты же знаешь, что я всегда рад тебя видеть.
И я приехал, вчера. И вот, пока друг на работе, решил пройтись по столь знакомым местам. Куда бы я ни направился, всё здесь мной исхожено-перехожено вдоль и поперёк. И я видел эту дорогу глазами того мальчишки, у которого всё впереди. Очень хотелось вернуться в то время.
Вовка, или Вовик, как мы его называли, был моим лучшим другом. Мы с ним жили, как говорится, не разлей вода. В школу - вместе, после школы – вместе. У нас находилось столько дел, что и поесть было некогда. Забежав к нему или ко мне домой, мы быстренько бросали в рот «что Бог послал» и снова неслись на улицу, дожёвывая на ходу. Разных идей и планов у нас было много: не успев сделать одно, мы уже думали о другом. И это другое было для нас важнее, и мы часто оставляли начатое дело «на потом».
Незаметно я очутился на берегу нашей речки. Дальше дорога шла вдоль берега, повторяя изгибы реки Вертушки. Мы с Вовкой обычно поворачивали в другую сторону: метрах в 400 было наше место. Пробраться туда было нелегко: переплетенные корни и ветви ивняка были похожи на непроходимые джунгли. Но у нас была тропа, по которой мы без потерь добирались до любимой полянки, хотя дорога удлинялась раза в три. Мои ноги понесли меня к зарослям, хотя голова говорила, что наша Сим-сим за это время закрылась навсегда. Но, к удивлению, я без труда нашел начало тропы и с удовольствием нырнул в зарослевую прохладу. Дорога показалась мне довольно долгой и неприветливой: одна враждебная ветка поцарапала лицо, другая воткнулась в рукав рубашки, оставив рваную дырку. Но вот последний рывок – и свобода. А главное: я увидел две сосны и за ними уверенно и крепко стоящий дуб-кавалер, который своими мощными сучками пытался обнять стройняшек. Я медленно пошёл вперёд. За дубом было то место, где мы с другом просиживали,ловили рыбу, строили планы и разгадывали тайны Вселенной. Я замер на месте: мне показалось, что я слышу чьи-то голоса. Из-за дуба я увидел двух пареньков лет 10-11.Первый, в плавках, лежал на песке, закинув ногу за ногу. Второй, в шортах,сидел на обрывистом берегу, свесив ноги к воде, и ловил рыбу. «Наверное, верхоплавок, - подумал я.- В такую жару другой рыбы не поймаешь!».
-Вась, а какое сегодня число? – спросил рыбак.
- Седьмое, седьмое июля.
- А давай договоримся, пообещаем друг другу, что будем каждый год в этот день встречаться и приходить на это наше тайное место?
-Зачем? Мы и так летом почти каждый день приходим сюда.
- Нет, это сейчас, когда мы дети, когда каникулы. А потом, когда станем взрослыми? Давай поклянемся, что ничто не помешает нашей дружбе, никогда.
Васька встал, бросил в сторону удочку, подошёл к другу и протянул руку: «Клянусь!».
-Клянусь!! - прозвучало твердо в ответ.
Я вздрогнул (что-то коснулось моего плеча) и обернулся. За спиной стоял Вовка с прижатым к губам пальцем. Мы осторожно отошли от дуба и исчезли в незаметном окошке зарослей.
- Ты как меня здесь нашел? - удивился я.
- Интуиция. Представил себя на твоем месте. Дома нет, значит куда-то пошел. Куда ты мог пойти?
- Я думал, что нашего места больше нет, как не стало многого из того, что было раньше.
- Ты ошибаешься, все главное в жизни осталось прежним, как мы с тобой.
Вовка помолчал, а потом добавил:
- Просто ты эти 10 лет не приходил на наше место. А я здесь бываю. Посижу-посижу и иду домой. Хорошо здесь.
«Да, хорошо, - подумал я, - даже очень хорошо. Как тем ребятишкам, что случайно встретились мне».
Солнце светило так ярко, что хотелось закрыть глаза и идти по этой полевой дороге на ощупь, чувствуя на левой щеке горячую струю света. Казалось, что всё замерло: замолчали птицы, спрятавшись в густой листве, скрылись стрекозы и бабочки в траве, больше похожей на сено. И даже редкие облака застыли на месте, как парусные корабли в море в полный штиль. Я шёл по этой дороге, по которой не ступала моя нога долгих 10 лет. Закончил школу, поступил в университет. Родители почти сразу же переехали в город. Я полностью погрузился в бурную студенческую жизнь: учёба, новые друзья, море интересов и увлечений. О доме, где провел детство, вспоминал только тогда, когда случайно встречал на улице тех, с кем учился в школе. Да, наверное, еще в те моменты, когда отдыхал за городом в кругу весёлой компании.
Но неделю назад мне позвонил Вовка, разговорились, вспомнили старое. А в конце он и говорит:
-Тебя что, братан, совсем не тянет сюда, к нам, совсем огородился?
-В каком смысле?
-Да даже в двух смыслах: городским стал, боишься скуки, а во-вторых, как будто забор между нами. Слушай, надумаешь- приезжай, ты же знаешь, что я всегда рад тебя видеть.
И я приехал, вчера. И вот, пока друг на работе, решил пройтись по столь знакомым местам. Куда бы я ни направился, всё здесь мной исхожено-перехожено вдоль и поперёк. И я видел эту дорогу глазами того мальчишки, у которого всё впереди. Очень хотелось вернуться в то время.
Вовка, или Вовик, как мы его называли, был моим лучшим другом. Мы с ним жили, как говорится, не разлей вода. В школу - вместе, после школы – вместе. У нас находилось столько дел, что и поесть было некогда. Забежав к нему или ко мне домой, мы быстренько бросали в рот «что Бог послал» и снова неслись на улицу, дожёвывая на ходу. Разных идей и планов у нас было много: не успев сделать одно, мы уже думали о другом. И это другое было для нас важнее, и мы часто оставляли начатое дело «на потом».
Незаметно я очутился на берегу нашей речки. Дальше дорога шла вдоль берега, повторяя изгибы реки Вертушки. Мы с Вовкой обычно поворачивали в другую сторону: метрах в 400 было наше место. Пробраться туда было нелегко: переплетенные корни и ветви ивняка были похожи на непроходимые джунгли. Но у нас была тропа, по которой мы без потерь добирались до любимой полянки, хотя дорога удлинялась раза в три. Мои ноги понесли меня к зарослям, хотя голова говорила, что наша Сим-сим за это время закрылась навсегда. Но, к удивлению, я без труда нашел начало тропы и с удовольствием нырнул в зарослевую прохладу. Дорога показалась мне довольно долгой и неприветливой: одна враждебная ветка поцарапала лицо, другая воткнулась в рукав рубашки, оставив рваную дырку. Но вот последний рывок – и свобода. А главное: я увидел две сосны и за ними уверенно и крепко стоящий дуб-кавалер, который своими мощными сучками пытался обнять стройняшек. Я медленно пошёл вперёд. За дубом было то место, где мы с другом просиживали,ловили рыбу, строили планы и разгадывали тайны Вселенной. Я замер на месте: мне показалось, что я слышу чьи-то голоса. Из-за дуба я увидел двух пареньков лет 10-11.Первый, в плавках, лежал на песке, закинув ногу за ногу. Второй, в шортах,сидел на обрывистом берегу, свесив ноги к воде, и ловил рыбу. «Наверное, верхоплавок, - подумал я.- В такую жару другой рыбы не поймаешь!».
-Вась, а какое сегодня число? – спросил рыбак.
- Седьмое, седьмое июля.
- А давай договоримся, пообещаем друг другу, что будем каждый год в этот день встречаться и приходить на это наше тайное место?
-Зачем? Мы и так летом почти каждый день приходим сюда.
- Нет, это сейчас, когда мы дети, когда каникулы. А потом, когда станем взрослыми? Давай поклянемся, что ничто не помешает нашей дружбе, никогда.
Васька встал, бросил в сторону удочку, подошёл к другу и протянул руку: «Клянусь!».
-Клянусь!! - прозвучало твердо в ответ.
Я вздрогнул (что-то коснулось моего плеча) и обернулся. За спиной стоял Вовка с прижатым к губам пальцем. Мы осторожно отошли от дуба и исчезли в незаметном окошке зарослей.
- Ты как меня здесь нашел? - удивился я.
- Интуиция. Представил себя на твоем месте. Дома нет, значит куда-то пошел. Куда ты мог пойти?
- Я думал, что нашего места больше нет, как не стало многого из того, что было раньше.
- Ты ошибаешься, все главное в жизни осталось прежним, как мы с тобой.
Вовка помолчал, а потом добавил:
- Просто ты эти 10 лет не приходил на наше место. А я здесь бываю. Посижу-посижу и иду домой. Хорошо здесь.
«Да, хорошо, - подумал я, - даже очень хорошо. Как тем ребятишкам, что случайно встретились мне».
Морозова Юлия. Мои неизведанные вселенные
Для меня существование параллельных миров – данность. В нашем доме уже два года функционируют две совершенно неизведанные вселенные – серая и рыжая. И я, как учёный-естествоиспытатель, имею возможность каждый день изучать эти миры, наблюдать за ними и удивляться.
Эти вселенные зовут Шипа и Скрипа. Они не сестрёнки, не одногодки и даже не подружки. Просто собрались вместе на весьма скромной жилплощади, по стечению обстоятельств и с согласия высших сил в лице так называемых «хозяев». Говорят, человек – царь зверей. Но как почувствуешь себя царём, убирая за подданными мусор и распахивая им двери? И ведь никто из них в благодарность не подтвердит, что ты – высший разум. Так и живём, изучаем друг друга и радуемся, что мы есть на этом свете, такие разные и замечательные.
Шипа – интеллигентка в ином поколении. Изящна, грациозна, тонка, голос ангельский, глаза небесно-голубые. Есть просит взглядом, гулять – изящным жестом, возлечь – грациозным изгибом спинки. Когда наш пёс Рональд пристаёт к ней с игрой «потрепать мяч», в роли которого должна выступать эта Снежная королева, она ему позволяет, но с таким видом, что даже Ронику становится стыдно играть в полную силу. Треплет её как бы понарошку, мягко и нерешительно. Без обид. Снизошла – и то радость.
А имя ей дали такое, потому что котёнком она отчаянно шипела, если к ней опасно приближался любопытный собачий нос.
Скрипа – барышня-крестьянка. Рыжая, мохнатая, с жёлтыми круглыми глазами, короткими лапами и хвостом. Не отягощённая стыдливостью и душевными муками. Пустое это всё, лишнее. Однажды осенью её просто подкинули на наш участок.
К дому мы её приучать не хотели, но она не уходила. Понаблюдали за ней, понаблюдали, да и пригласили зайти на лишнюю тарелку супа с возможностью дальнейшего проживания. И эту возможность красотка не упустила.
За время вынужденной бездомности её голос приобрёл скрипучий тембр. Поэтому мы решили быть последовательными в именовании вселенных. Где есть Шипа, там будет и Скрипа, решено! Так и появилась в нашем доме нахалка, хитрюга и просто красавица. Если просит есть – то во весь скрипучий голос, если гулять – то немедленно. Обучила нас выпускать её на улицу по звонку цепочки от жалюзи. Это происходит в 5 часов утра.
Этой осенью интеллигентка и нахалка объединились в банду по части лова пернатых и хвостатых. Домой занесли пару раз, на освидетельствование хозяевам, а потом наперегонки уничтожали неучтёнку. Шипа всё вкусное сразу съедала, а Скрипа устроила себе тайник. Видим – ныряет в подпол с добычей, заглянули, а там чего только нет. Полный склад и малых, и больших, и чёрненьких, и беленьких, а так же цветных и в крапинку. Одно слово – купчиха!
Недавно со Скрипой подружился соседский кот Кузя. Наблюдаю однажды: медленно движется рыжуня, во рту большая крыса. Подходит ко мне, кладёт у ног – полюбоваться. Я, как положено, восхищаюсь. А как же! Спасает мир от символа 2020 года, изрядно набедокурившего с человечеством. Как не похвалить! А тут из-за угла Кузьма, интересуется, что да как. Наша добычу снисходительно отдаёт. Бери, мол, друзьям не жалко. И что я вижу! Кузьма галопом тащит трофей в сторону своего дома и триумфально брякает к ногам своего хозяина. Вот, мол, знай наших! За счёт Скрипы оправдал звание охотника. А что? Многие так делают. Даже среди высших разумов – сплошь и рядом.
Зимой Шипа и Скрипа греют свой блестящий мех по кроватям да диванам. Живут мирно, без скандалов, у мисок не дерутся. Наверно, это Шипа так построила, она же старшая. А Скрипе лень ругаться.
Так и живём – Рональд, Шипа, Скрипа и при них два венца природы, обслуга с высшим разумом.
Для меня существование параллельных миров – данность. В нашем доме уже два года функционируют две совершенно неизведанные вселенные – серая и рыжая. И я, как учёный-естествоиспытатель, имею возможность каждый день изучать эти миры, наблюдать за ними и удивляться.
Эти вселенные зовут Шипа и Скрипа. Они не сестрёнки, не одногодки и даже не подружки. Просто собрались вместе на весьма скромной жилплощади, по стечению обстоятельств и с согласия высших сил в лице так называемых «хозяев». Говорят, человек – царь зверей. Но как почувствуешь себя царём, убирая за подданными мусор и распахивая им двери? И ведь никто из них в благодарность не подтвердит, что ты – высший разум. Так и живём, изучаем друг друга и радуемся, что мы есть на этом свете, такие разные и замечательные.
Шипа – интеллигентка в ином поколении. Изящна, грациозна, тонка, голос ангельский, глаза небесно-голубые. Есть просит взглядом, гулять – изящным жестом, возлечь – грациозным изгибом спинки. Когда наш пёс Рональд пристаёт к ней с игрой «потрепать мяч», в роли которого должна выступать эта Снежная королева, она ему позволяет, но с таким видом, что даже Ронику становится стыдно играть в полную силу. Треплет её как бы понарошку, мягко и нерешительно. Без обид. Снизошла – и то радость.
А имя ей дали такое, потому что котёнком она отчаянно шипела, если к ней опасно приближался любопытный собачий нос.
Скрипа – барышня-крестьянка. Рыжая, мохнатая, с жёлтыми круглыми глазами, короткими лапами и хвостом. Не отягощённая стыдливостью и душевными муками. Пустое это всё, лишнее. Однажды осенью её просто подкинули на наш участок.
К дому мы её приучать не хотели, но она не уходила. Понаблюдали за ней, понаблюдали, да и пригласили зайти на лишнюю тарелку супа с возможностью дальнейшего проживания. И эту возможность красотка не упустила.
За время вынужденной бездомности её голос приобрёл скрипучий тембр. Поэтому мы решили быть последовательными в именовании вселенных. Где есть Шипа, там будет и Скрипа, решено! Так и появилась в нашем доме нахалка, хитрюга и просто красавица. Если просит есть – то во весь скрипучий голос, если гулять – то немедленно. Обучила нас выпускать её на улицу по звонку цепочки от жалюзи. Это происходит в 5 часов утра.
Этой осенью интеллигентка и нахалка объединились в банду по части лова пернатых и хвостатых. Домой занесли пару раз, на освидетельствование хозяевам, а потом наперегонки уничтожали неучтёнку. Шипа всё вкусное сразу съедала, а Скрипа устроила себе тайник. Видим – ныряет в подпол с добычей, заглянули, а там чего только нет. Полный склад и малых, и больших, и чёрненьких, и беленьких, а так же цветных и в крапинку. Одно слово – купчиха!
Недавно со Скрипой подружился соседский кот Кузя. Наблюдаю однажды: медленно движется рыжуня, во рту большая крыса. Подходит ко мне, кладёт у ног – полюбоваться. Я, как положено, восхищаюсь. А как же! Спасает мир от символа 2020 года, изрядно набедокурившего с человечеством. Как не похвалить! А тут из-за угла Кузьма, интересуется, что да как. Наша добычу снисходительно отдаёт. Бери, мол, друзьям не жалко. И что я вижу! Кузьма галопом тащит трофей в сторону своего дома и триумфально брякает к ногам своего хозяина. Вот, мол, знай наших! За счёт Скрипы оправдал звание охотника. А что? Многие так делают. Даже среди высших разумов – сплошь и рядом.
Зимой Шипа и Скрипа греют свой блестящий мех по кроватям да диванам. Живут мирно, без скандалов, у мисок не дерутся. Наверно, это Шипа так построила, она же старшая. А Скрипе лень ругаться.
Так и живём – Рональд, Шипа, Скрипа и при них два венца природы, обслуга с высшим разумом.
Токарева Марина. Вовкин Талисман
Этим летом Вовка приехал в деревню позже обычного: сдавал экзамены за девятый класс. Влетев на крыльцо, он бросил взгляд на гнездо под самым козырьком крыши, из которого высовывались клювики его закадычных друзей – ласточек.
- Тут уже! Вот и хорошо! Здорово живёте! – подмигнув птицам, радостно крикнул Вовка и зашёл в дом.
Бабушка с дедушкой очень обрадовались внуку: помощник приехал!
Наспех переодевшись, Вовка побежал оглядывать родные с детства места. Денёк был жарким, и парень решил первой поприветствовать речку и узнать, ждёт ли она своих героев. Тропинка к реке вела через заливные луга, которые теперь благоухали разнотравьем. Вовка с разбегу упал на спину в самую гущу пёстрого ковра, раскинув руки в стороны. Годами ранее, когда у стариков была корова, бабушка непременно прикрикнула бы на внука: «Не толки покосную траву!» А теперь эта роскошь лишь радовала глаз человека. Какое – то время мальчик лежал с закрытыми глазами, вдыхая тонкий аромат луговых цветов. Резвая бабочка поцеловала Вовку в самый нос, и он открыл глаза. Его вниманию предстало бесконечное голубое небо с пышными облаками. Вовка стал рассматривать, как на его глазах ломаются воздушные замки, превращаясь в избушку с печной трубой. Ещё мгновение – и перед ним древний рыцарь в шлеме, а вот и он превратился в какого – то забавного медвежонка, похожего на Умку. Потом все картинки рассыпались и бесследно исчезли. В следующий момент Вовка залюбовался бреющим полётом большой хищной птицы. Высоко в небе она казалась гордой и независимой. Мальчик улыбнулся и подумал: «Красиво парит, но всё же для меня дороже ласточки нет птицы!», и тут же вспомнил давнюю историю, связанную с этими пернатыми.
До семи лет в силу семейных обстоятельств Вовка жил у бабушки с дедушкой: мама работала проводником на поезде дальнего следования, а папа служил на флоте и потому часто уходил в длительное плавание. Вовка не помнил, с какого времени, но ему казалось, что с того момента, как начал ходить, каждое утро, как только весной прилетали ласточки, он бежал на кухню, ставил к окошку стул и наблюдал за жизнью суетливых птиц. Кухонное окно выходило на задний двор, где стоял старый сарай. Когда – то в нём хранились дрова для печи, а с тех пор, как в деревне появился газ, старая покосившаяся постройка пустовала и служила лишь домом для ласточек. Бабушка давно говорила деду, чтобы он сломал сарай, что только место занимает, но у деда как – то всё руки не доходили. А Вовка и рад был, потому что там жили его друзья. Как только весной малыш замечал, что появились ласточки, счастливый бежал к бабушке и торжественно докладывал: «Ласточки прилетели!»
Про них он знал всё или почти всё: бабушка много рассказывала. Знал, что деревенскую ласточку в народе называют касаткой, что эти маленькие птички у людей ассоциируются с теплом, молодой зеленью и ласковым солнцем, что ласточка-касатка в христианстве является символом воскрешения. Вовка верил, что эта крошечная птичка пыталась сбросить терновый венок с головы Христа и потому стала символом надежды и доброты. Он любил наблюдать, как эти юркие птички весь день носятся и носятся, ненадолго взмывая из – под крыши сарая в небо и так же быстро возвращаясь назад к своим гнёздам. Знал, что, если низко летают ласточки, быть дождю, высоко – дождя не будет.
Знал, что пока самка сидит на яйцах, самцы ловят мошек и букашек, которыми кормят самку. Когда из гнезда высовываются клювики птенчиков, родители вместе продолжают ловить на лету мошкару, чтобы вырастить своё потомство. Потом птенцы учатся летать, и к концу лета ласточки собираются к отлёту в тёплые страны, чтобы переждать холодную зиму и снова вернуться к Вовке. Так каждую весну мальчик встречал своих друзей, проживал с ними недолгое лето и прощался до следующего года. Весна для него стала любимым временем года.
Шёл месяц март. Вовке на тот момент уже исполнилось шесть лет. Он с нетерпением ждал, когда растает последний снег, наступят тёплые деньки и приблизят прилёт любимых птиц. Каждый день он наблюдал за изменениями в природе и задавал бабушке один и тот же вопрос:
- Бабуль, скоро?
- Скоро…скоро, сердечный ты мой! – ласково говорила бабушка, гладив внука по голове тёплой ладонью.
И Вовка продолжал ждать.
Как – то утром мальчика разбудил неясный стук во дворе. Вовка, потягиваясь, подошёл к окошку на кухне и увидел, как дед с соседом, долговязым дядей Колей, сломали сарай, а теперь отбирали хорошие доски и бросали их друг на друга около забора. Вовка был ошеломлён. «А как же теперь ласточки? Куда же они прилетят?» - мгновенно проскочила мысль, и крупные слёзы покатились по щекам, падая на подоконник. Этот день стал самым несчастным днём в Вовкиной жизни. Бабушка пыталась успокоить внука. Говорила, что ласточки найдут новое место. Дед клятвенно обещал что – нибудь придумать. Всё напрасно: Вовка был безутешен. Он долго плакал, а потом стал рисовать на альбомном листе любимых птиц, которые лишились крова. Он слышал, как дед ворчал на бабушку:
- Всё ты со своим сараем. Дался он тебе. Стоял и пусть бы дальше стоял! Что вот теперь с мальцом делать?
Бабушка только вздыхала.
«Да не со мной, а что делать с жильём для птиц? Ведь совсем скоро прилетят, а дома нет», - всё ещё всхлипывая, мысленно отвечал Вовка на дедов вопрос.
На другой день бабушка уехала в город, а дед хлопотал во дворе. Вовка встал, подошёл к столу, поднял льняную салфетку: заботливая бабуля оставила ему завтрак. Он съел ещё тёплый ароматный блинчик и выпил стакан молока, глубоко вздохнул и стал думать, как вернуть ласточкам жильё. Он неприкаянно ходил из угла в угол, из комнаты в комнату, но никаких идей не рождалось. Вовка вышел в террасу, где находилась кладовая. В ней бабушка хранила пустые банки, разные кастрюли и всякую мелочь, нужную в хозяйстве. Но больше всего Вовку привлекал огромный старый деревянный сундук. Внук как – то спросил у бабушки:
- Бабуль, а что в этом ящике?
- Да так…хлам всякий. Нужно заняться как – нибудь да пожечь всё. Этот сундук ещё от твоей прабабушки Татьяны остался.
Вспомнив теперь этот разговор, Вовка подумал: «Ну вот, деда сарай заставила сломать, а свой хлам всё никак не выбросит». Мальчик не без труда поднял громоздкую крышку. Сверху всё было укрыто старым покрывалом. Вовка снял его и стал изучать содержимое: какие – то аккуратной стопкой сложенные кухонные полотенца, шапка-ушанка, которую давно никто не носит, деревянные ложки, расписанные яркими цветами, валенки (Вовка даже примерил их и ушанку надел – смешно вышло!), носовые платочки с сохранившимися на них ценниками… Чтобы всё это не выкладывать, малец запустил руку в довольно глубокий сундук, пошарил наощупь и наткнулся на что - то жёсткое, но легко проминающееся при нажатии пальцем. Мальчик потянул за какую – то лямку и вынул удивительную вещицу – старенький, в мелкий цветочек ситцевый бюстгальтер! Он приложил его к своей груди и засмеялся. «Но что же тут жёсткое?» - не унимался паренёк. Вовка взял ножницы, разрезал полинявший материал и извлёк из лифа две довольно глубокие пластмассовые в мелкую сеточку чашки.
- Да чем не гнёзда для ласточек!!! – осенило вдруг Вовку, и прямо в валенках и шапке – ушанке он побежал к деду рассказать о своём открытии.
Дед, увидев внука в таком наряде, схватился за живот, а когда насилу разобрал из торопливого, сбивчивого рассказа, какое жильё он придумал для ласточек, то расхохотался так, что слёзы потекли из глаз. Когда в калитке появилась бабушка и вникла, по какому поводу неуёмное веселье, тоже от души рассмеялась и, глядя на внука, с трудом выговаривая слова сквозь приступы смеха, произнесла:
- Во-о-т…воо-о-т…и прабабка твоя, царствие ей небесное, внесла вклад в доброе дело!
Ещё минут пять все не могли успокоиться, потому что откуда-то вдруг появившийся во дворе отряд индюков без остановки вторил весёлой компании своим забавным кулдыканьем: «бл-бл-бл».
Отложив все дела, дедушка принёс длинную лестницу и, забравшись по ней под самый козырёк крыши дома, прибил гвоздями новые гнёзда для ласточек.
- Крепко держатся, деда? Ты проверь получше! – руководил Вовка снизу.
- Крепко, Вовка, крепко! Бабку твою выдержат! – снова рассмеялся дед.
С этого дня малец стал ждать ласточек ещё усерднее. Каждый день начинался с того, что он выбегал на улицу и смотрел наверх.
- Рано ещё, Вовка! Снег только сошёл, земля тепло набирает, - ласково говорила бабушка.
Наконец настал тот счастливый день, когда до спящего внука донёсся бабушкин голос:
- Беги, сердечный мой! Прилетели твои касатки!
Вовка не поверил своим ушам. Он вскочил с постели и выбежал во двор, в чём был. Да! Ласточки прилетели, и они по – прежнему суетились, только теперь обживая придуманные Вовкой гнёзда.
- Мебель новую заносят, - пошутил дед, накинув лёгкую курточку на внука. – Может, вырастешь, архитектором станешь? А, Вовка? – добавил он.
Вовка расплылся в широкой доброй улыбке и прижался к деду. Теперь он точно знал, что у них в семье всё будет хорошо и что совсем скоро он увидит своих маму и папу, по которым сильно соскучился.
С тех пор и стали ласточки Вовкиным талисманом.
Этим летом Вовка приехал в деревню позже обычного: сдавал экзамены за девятый класс. Влетев на крыльцо, он бросил взгляд на гнездо под самым козырьком крыши, из которого высовывались клювики его закадычных друзей – ласточек.
- Тут уже! Вот и хорошо! Здорово живёте! – подмигнув птицам, радостно крикнул Вовка и зашёл в дом.
Бабушка с дедушкой очень обрадовались внуку: помощник приехал!
Наспех переодевшись, Вовка побежал оглядывать родные с детства места. Денёк был жарким, и парень решил первой поприветствовать речку и узнать, ждёт ли она своих героев. Тропинка к реке вела через заливные луга, которые теперь благоухали разнотравьем. Вовка с разбегу упал на спину в самую гущу пёстрого ковра, раскинув руки в стороны. Годами ранее, когда у стариков была корова, бабушка непременно прикрикнула бы на внука: «Не толки покосную траву!» А теперь эта роскошь лишь радовала глаз человека. Какое – то время мальчик лежал с закрытыми глазами, вдыхая тонкий аромат луговых цветов. Резвая бабочка поцеловала Вовку в самый нос, и он открыл глаза. Его вниманию предстало бесконечное голубое небо с пышными облаками. Вовка стал рассматривать, как на его глазах ломаются воздушные замки, превращаясь в избушку с печной трубой. Ещё мгновение – и перед ним древний рыцарь в шлеме, а вот и он превратился в какого – то забавного медвежонка, похожего на Умку. Потом все картинки рассыпались и бесследно исчезли. В следующий момент Вовка залюбовался бреющим полётом большой хищной птицы. Высоко в небе она казалась гордой и независимой. Мальчик улыбнулся и подумал: «Красиво парит, но всё же для меня дороже ласточки нет птицы!», и тут же вспомнил давнюю историю, связанную с этими пернатыми.
До семи лет в силу семейных обстоятельств Вовка жил у бабушки с дедушкой: мама работала проводником на поезде дальнего следования, а папа служил на флоте и потому часто уходил в длительное плавание. Вовка не помнил, с какого времени, но ему казалось, что с того момента, как начал ходить, каждое утро, как только весной прилетали ласточки, он бежал на кухню, ставил к окошку стул и наблюдал за жизнью суетливых птиц. Кухонное окно выходило на задний двор, где стоял старый сарай. Когда – то в нём хранились дрова для печи, а с тех пор, как в деревне появился газ, старая покосившаяся постройка пустовала и служила лишь домом для ласточек. Бабушка давно говорила деду, чтобы он сломал сарай, что только место занимает, но у деда как – то всё руки не доходили. А Вовка и рад был, потому что там жили его друзья. Как только весной малыш замечал, что появились ласточки, счастливый бежал к бабушке и торжественно докладывал: «Ласточки прилетели!»
Про них он знал всё или почти всё: бабушка много рассказывала. Знал, что деревенскую ласточку в народе называют касаткой, что эти маленькие птички у людей ассоциируются с теплом, молодой зеленью и ласковым солнцем, что ласточка-касатка в христианстве является символом воскрешения. Вовка верил, что эта крошечная птичка пыталась сбросить терновый венок с головы Христа и потому стала символом надежды и доброты. Он любил наблюдать, как эти юркие птички весь день носятся и носятся, ненадолго взмывая из – под крыши сарая в небо и так же быстро возвращаясь назад к своим гнёздам. Знал, что, если низко летают ласточки, быть дождю, высоко – дождя не будет.
Знал, что пока самка сидит на яйцах, самцы ловят мошек и букашек, которыми кормят самку. Когда из гнезда высовываются клювики птенчиков, родители вместе продолжают ловить на лету мошкару, чтобы вырастить своё потомство. Потом птенцы учатся летать, и к концу лета ласточки собираются к отлёту в тёплые страны, чтобы переждать холодную зиму и снова вернуться к Вовке. Так каждую весну мальчик встречал своих друзей, проживал с ними недолгое лето и прощался до следующего года. Весна для него стала любимым временем года.
Шёл месяц март. Вовке на тот момент уже исполнилось шесть лет. Он с нетерпением ждал, когда растает последний снег, наступят тёплые деньки и приблизят прилёт любимых птиц. Каждый день он наблюдал за изменениями в природе и задавал бабушке один и тот же вопрос:
- Бабуль, скоро?
- Скоро…скоро, сердечный ты мой! – ласково говорила бабушка, гладив внука по голове тёплой ладонью.
И Вовка продолжал ждать.
Как – то утром мальчика разбудил неясный стук во дворе. Вовка, потягиваясь, подошёл к окошку на кухне и увидел, как дед с соседом, долговязым дядей Колей, сломали сарай, а теперь отбирали хорошие доски и бросали их друг на друга около забора. Вовка был ошеломлён. «А как же теперь ласточки? Куда же они прилетят?» - мгновенно проскочила мысль, и крупные слёзы покатились по щекам, падая на подоконник. Этот день стал самым несчастным днём в Вовкиной жизни. Бабушка пыталась успокоить внука. Говорила, что ласточки найдут новое место. Дед клятвенно обещал что – нибудь придумать. Всё напрасно: Вовка был безутешен. Он долго плакал, а потом стал рисовать на альбомном листе любимых птиц, которые лишились крова. Он слышал, как дед ворчал на бабушку:
- Всё ты со своим сараем. Дался он тебе. Стоял и пусть бы дальше стоял! Что вот теперь с мальцом делать?
Бабушка только вздыхала.
«Да не со мной, а что делать с жильём для птиц? Ведь совсем скоро прилетят, а дома нет», - всё ещё всхлипывая, мысленно отвечал Вовка на дедов вопрос.
На другой день бабушка уехала в город, а дед хлопотал во дворе. Вовка встал, подошёл к столу, поднял льняную салфетку: заботливая бабуля оставила ему завтрак. Он съел ещё тёплый ароматный блинчик и выпил стакан молока, глубоко вздохнул и стал думать, как вернуть ласточкам жильё. Он неприкаянно ходил из угла в угол, из комнаты в комнату, но никаких идей не рождалось. Вовка вышел в террасу, где находилась кладовая. В ней бабушка хранила пустые банки, разные кастрюли и всякую мелочь, нужную в хозяйстве. Но больше всего Вовку привлекал огромный старый деревянный сундук. Внук как – то спросил у бабушки:
- Бабуль, а что в этом ящике?
- Да так…хлам всякий. Нужно заняться как – нибудь да пожечь всё. Этот сундук ещё от твоей прабабушки Татьяны остался.
Вспомнив теперь этот разговор, Вовка подумал: «Ну вот, деда сарай заставила сломать, а свой хлам всё никак не выбросит». Мальчик не без труда поднял громоздкую крышку. Сверху всё было укрыто старым покрывалом. Вовка снял его и стал изучать содержимое: какие – то аккуратной стопкой сложенные кухонные полотенца, шапка-ушанка, которую давно никто не носит, деревянные ложки, расписанные яркими цветами, валенки (Вовка даже примерил их и ушанку надел – смешно вышло!), носовые платочки с сохранившимися на них ценниками… Чтобы всё это не выкладывать, малец запустил руку в довольно глубокий сундук, пошарил наощупь и наткнулся на что - то жёсткое, но легко проминающееся при нажатии пальцем. Мальчик потянул за какую – то лямку и вынул удивительную вещицу – старенький, в мелкий цветочек ситцевый бюстгальтер! Он приложил его к своей груди и засмеялся. «Но что же тут жёсткое?» - не унимался паренёк. Вовка взял ножницы, разрезал полинявший материал и извлёк из лифа две довольно глубокие пластмассовые в мелкую сеточку чашки.
- Да чем не гнёзда для ласточек!!! – осенило вдруг Вовку, и прямо в валенках и шапке – ушанке он побежал к деду рассказать о своём открытии.
Дед, увидев внука в таком наряде, схватился за живот, а когда насилу разобрал из торопливого, сбивчивого рассказа, какое жильё он придумал для ласточек, то расхохотался так, что слёзы потекли из глаз. Когда в калитке появилась бабушка и вникла, по какому поводу неуёмное веселье, тоже от души рассмеялась и, глядя на внука, с трудом выговаривая слова сквозь приступы смеха, произнесла:
- Во-о-т…воо-о-т…и прабабка твоя, царствие ей небесное, внесла вклад в доброе дело!
Ещё минут пять все не могли успокоиться, потому что откуда-то вдруг появившийся во дворе отряд индюков без остановки вторил весёлой компании своим забавным кулдыканьем: «бл-бл-бл».
Отложив все дела, дедушка принёс длинную лестницу и, забравшись по ней под самый козырёк крыши дома, прибил гвоздями новые гнёзда для ласточек.
- Крепко держатся, деда? Ты проверь получше! – руководил Вовка снизу.
- Крепко, Вовка, крепко! Бабку твою выдержат! – снова рассмеялся дед.
С этого дня малец стал ждать ласточек ещё усерднее. Каждый день начинался с того, что он выбегал на улицу и смотрел наверх.
- Рано ещё, Вовка! Снег только сошёл, земля тепло набирает, - ласково говорила бабушка.
Наконец настал тот счастливый день, когда до спящего внука донёсся бабушкин голос:
- Беги, сердечный мой! Прилетели твои касатки!
Вовка не поверил своим ушам. Он вскочил с постели и выбежал во двор, в чём был. Да! Ласточки прилетели, и они по – прежнему суетились, только теперь обживая придуманные Вовкой гнёзда.
- Мебель новую заносят, - пошутил дед, накинув лёгкую курточку на внука. – Может, вырастешь, архитектором станешь? А, Вовка? – добавил он.
Вовка расплылся в широкой доброй улыбке и прижался к деду. Теперь он точно знал, что у них в семье всё будет хорошо и что совсем скоро он увидит своих маму и папу, по которым сильно соскучился.
С тех пор и стали ласточки Вовкиным талисманом.
Гаврилова Анастасия. За закрытыми дверями
Выпустите меня! Я не сумасшедшая, - пытаясь вырваться, кричала пациентка, - произошла ошибка!
Девушка не унималась, но белые халаты упрямо тащили её в специальную палату.- Да-да, все вы так говорите, - вторил ей врач, вкалывая успокаивающее, - отдохни, а завтра все станет хорошо, - продолжал он ее успокаивать, но девушка склонила голову как подкошенный цветок.***
Бесчисленное количество дней, проведенных Амандой в больнице, не прошли даром. Все время там она старалась собрать как можно больше информации о преступлениях, которые творились в этом месте, о том, какие методы использовались, чтобы "наказать" неугодных пациентов. Аманда Уокер хотела проникнуть в клинику и написать всю правду о больнице для душевнобольных «Saint Monica». Попасть в это учреждение было довольно просто: подговорив мужа, чтобы тот обратился за помощью, которая якобы необходима его жене, девушка тщательно готовилась. Она изучала литературу, смотрела видео, читала дневники докторов только для того, чтобы провести несколько дней в этой больнице. После ряда тестов ей был поставлен диагноз шизофрения, без доли сомнения врачи выделили ей отдельную палату. Многие были удивлены новому пациенту, ведь журналистка была довольно известна и никто не мог подумать, что у нее едет крыша. В клинике Аманде даже понравилось: комнаты для игр, занятия рукоделием, библиотека, заполненная старыми книгами, и даже бильярдная. По рассказам сестер, иногда устраивались танцевальные вечера. Хороший санаторий, но что творится за закрытыми дверьми?
Попрощавшись с мужем, Аманда отправилась на обед.
Кухонный работник толкнул ее в бок:
- Новенькая? У нас ходячие на раздаче стоят!
Холодное пюре прилипало к нёбу, а черствый хлеб неприятно хрустел. Из холла послышались крики. По спине пробежал холодок.
***
Ночью Аманда достала из-под матраса небольшой блокнот с компактной ручкой, который надежно припрятала утром. Лечебница была будто пропитана страхом и странными звуками, которые ни на секунду не замолкали. Шорох, стук, стоны, крики – это пугало, и ее койка за закрытой дверью казалась единственным безопасным местом. Девушка так увлеклась записями, что не заметила, как к ее комнате подошёл медбрат. Дверное окошко резко открылось, и сердце девушки также резко подскочило.
Мужчина зашёл в комнату и грубым движением вырвал блокнот из рук Аманды.- Так, что это тут у нас, - тот начал зачитывать вслух, - 18 октября, обыск и санобработка. Кормят отвратительно, бьют пациентов. Телефон не дали, - он прыснул, - Куда будете звонить, мисс Уокер? В союз защиты психопатов? – и отвратительно посмеялся.Аманда поморщилась. - Редактор знает, что я собираю материал, и видит бог, у меня его уже предостаточно. - девушка попыталась не поддаваться страху.- Да, да, я читал ваши заметки про пюре. Захватывающе, - съязвил он, - ещё бы талант под стать амбициям... - забрав с собой записи, мужчина направился к двери.- Мне не нужны записки, - крикнула журналистка в след, - у меня отличная память.- Правда? Это поправимо, - холодно произнес мужчина и покинул помещение. Аманда села на край кровати, стараясь успокоиться. «Все хорошо. Он ушел. Ты в порядке.» - говорила она себе, но страшные мысли не давали покоя. Ее никто не вытащит. Никто не знает правды. Ей нужно выбираться самой.
Дверь в плату снова отворилась. В ту же секунду ворвались четыре мужчины, закатывая койку, к которой были прицеплены ремни. Они приковали хрупкую девушку и повезли в неизвестном направлении. Аманда просила о помощи, пыталась вырываться, узнать, куда ее везут, но все было тщетно. - Что происходит? Что вы собираетесь делать?! Нет, пожалуйста, не нужно. Я никому ничего не скажу. Отпустите меня, - содрогаясь в рыданиях, девушка вырывалась, не давая врачам надеть на ее голову прибор, через который пускают ток, - Выпустите меня! Мне здесь не место! ***
На следующий день Аманда не могла подняться с кровати. Ее голова разрывалась от боли, а виски горели. Дотронувшись, девушка обнаружила круглые ожоги по обе стороны. Горькие слезы бессилия покатились по ее щекам. Стиснув зубы, чтобы не издать и звука, журналистка отвернулась к окну. Осеннее солнце стыдливо заглядывало в палату, чтобы обнажить преступления, которые творились в стенах клиники.***
Кажется, Аманда и правда начала сходить с ума. После нескольких неудачных попыток ее поместили в специальную палату, сбежать оттуда не удавалось никому. В ее сознании начались помутнения. После уколов девушка словно выпадала из реальности. В такие моменты становилось страшнее всего. Бежать она больше не решалась, боялась, что крайняя попытка может стать последней. ***
Сирена. Резкие звуки ударов. Кажется, будто гигантский мяч кидают об пол, потом снова и снова… Обычно все двери закрывались на электрический замок, но из-за перепада электричества в эту ночь случился хаос.
Аманда приоткрыла дверь. Все метались, кричали, кто-то от страха забился в угол, словно нашкодивший котенок, а старушка, которая сторонилась всех, прыгала вокруг сцепившихся больных, хлопая в ладоши, каждый раз, когда кто-то получал удар. Врачи не справлялись.
Девушка поняла – это ее шанс. Она помчалась на кухню, где находился черный выход для персонала. Дверь открывалась только специальной ключ-картой, но перебой с электричеством сыграл ей как на руку. Сейчас дверь была отворена, как и все другие. Все казалось слишком просто, но на размышления времени совершенно не было: в любой момент электричество могут починить и замок притянется к магниту навсегда. В последнюю минуту, попросив у Бога помощи, Аманда ринулась к двери. ***
После побега прошло 10 лет. Чудом добравшись до дома, девушка впала в истерику, которая продолжалась несколько часов. Муж вызвал врача из частной клиники. Несколько недель Аманде помогали вернуться к нормальной жизни несколько врачей. Девушка всегда была под присмотром: врачи ставили капельницы и регулярно следили за состоянием девушки, а муж сидел у её кровати.
Через несколько месяцев Аманда решилась написать статью. Тяжело было даже вспоминать о том ужасе, который окружал её: больных лечили электрошоком, кровопусканием, окунали в ледяную воду, избивали, подвешивали с помощью различным приспособлений и часами раскручивали, после чего пациенты видели галлюцинации и не могли ориентироваться в пространстве.
Статья сразу же вызвала бурную реакцию. Представители власти тут же отправились в лечебницу. В кабинете хирурга были найдены доклады о жутком оборудовании для опытов над людьми и дневники пациентов. Под зданием была обнаружена лаборатория, где были найдены банки с различными человеческими органами. Больницу сразу же закрыли, а весь персонал был арестован.
На протяжении этих 10 лет Аманда обращалась к психологу, стараясь восстановить психику. Они с мужем приняли решение переехать в другой город, чтобы оградить себя от воспоминаний. У них появилась чудесная дочка Мия, которая была окружена любовью и заботой. После громкой статьи Аманда хотела тихой и спокойной жизни. Если бы не ожоги и шрамы на теле, можно было бы подумать, что произошедшее ранее ей привиделось.
Поцеловав дочку на ночь, Аманда вернулась в комнату, где уже тихо посапывал ее любимый. В темноте ей до сих пор становилось не по себе, поэтому пододвинувшись ближе к мужу и прошептав слова любви, девушка свернулась клубочком, засыпая.***- Подъем! - резко раздавшийся крик отразился от стен. Не понимая, что происходит, Аманда, села на кушетку. Перед ней стояла женщина в белом халате.- Что уставилась? – резко бросила она, хватая девушку за руку, - водные процедуры, красавица!
Выпустите меня! Я не сумасшедшая, - пытаясь вырваться, кричала пациентка, - произошла ошибка!
Девушка не унималась, но белые халаты упрямо тащили её в специальную палату.- Да-да, все вы так говорите, - вторил ей врач, вкалывая успокаивающее, - отдохни, а завтра все станет хорошо, - продолжал он ее успокаивать, но девушка склонила голову как подкошенный цветок.***
Бесчисленное количество дней, проведенных Амандой в больнице, не прошли даром. Все время там она старалась собрать как можно больше информации о преступлениях, которые творились в этом месте, о том, какие методы использовались, чтобы "наказать" неугодных пациентов. Аманда Уокер хотела проникнуть в клинику и написать всю правду о больнице для душевнобольных «Saint Monica». Попасть в это учреждение было довольно просто: подговорив мужа, чтобы тот обратился за помощью, которая якобы необходима его жене, девушка тщательно готовилась. Она изучала литературу, смотрела видео, читала дневники докторов только для того, чтобы провести несколько дней в этой больнице. После ряда тестов ей был поставлен диагноз шизофрения, без доли сомнения врачи выделили ей отдельную палату. Многие были удивлены новому пациенту, ведь журналистка была довольно известна и никто не мог подумать, что у нее едет крыша. В клинике Аманде даже понравилось: комнаты для игр, занятия рукоделием, библиотека, заполненная старыми книгами, и даже бильярдная. По рассказам сестер, иногда устраивались танцевальные вечера. Хороший санаторий, но что творится за закрытыми дверьми?
Попрощавшись с мужем, Аманда отправилась на обед.
Кухонный работник толкнул ее в бок:
- Новенькая? У нас ходячие на раздаче стоят!
Холодное пюре прилипало к нёбу, а черствый хлеб неприятно хрустел. Из холла послышались крики. По спине пробежал холодок.
***
Ночью Аманда достала из-под матраса небольшой блокнот с компактной ручкой, который надежно припрятала утром. Лечебница была будто пропитана страхом и странными звуками, которые ни на секунду не замолкали. Шорох, стук, стоны, крики – это пугало, и ее койка за закрытой дверью казалась единственным безопасным местом. Девушка так увлеклась записями, что не заметила, как к ее комнате подошёл медбрат. Дверное окошко резко открылось, и сердце девушки также резко подскочило.
Мужчина зашёл в комнату и грубым движением вырвал блокнот из рук Аманды.- Так, что это тут у нас, - тот начал зачитывать вслух, - 18 октября, обыск и санобработка. Кормят отвратительно, бьют пациентов. Телефон не дали, - он прыснул, - Куда будете звонить, мисс Уокер? В союз защиты психопатов? – и отвратительно посмеялся.Аманда поморщилась. - Редактор знает, что я собираю материал, и видит бог, у меня его уже предостаточно. - девушка попыталась не поддаваться страху.- Да, да, я читал ваши заметки про пюре. Захватывающе, - съязвил он, - ещё бы талант под стать амбициям... - забрав с собой записи, мужчина направился к двери.- Мне не нужны записки, - крикнула журналистка в след, - у меня отличная память.- Правда? Это поправимо, - холодно произнес мужчина и покинул помещение. Аманда села на край кровати, стараясь успокоиться. «Все хорошо. Он ушел. Ты в порядке.» - говорила она себе, но страшные мысли не давали покоя. Ее никто не вытащит. Никто не знает правды. Ей нужно выбираться самой.
Дверь в плату снова отворилась. В ту же секунду ворвались четыре мужчины, закатывая койку, к которой были прицеплены ремни. Они приковали хрупкую девушку и повезли в неизвестном направлении. Аманда просила о помощи, пыталась вырываться, узнать, куда ее везут, но все было тщетно. - Что происходит? Что вы собираетесь делать?! Нет, пожалуйста, не нужно. Я никому ничего не скажу. Отпустите меня, - содрогаясь в рыданиях, девушка вырывалась, не давая врачам надеть на ее голову прибор, через который пускают ток, - Выпустите меня! Мне здесь не место! ***
На следующий день Аманда не могла подняться с кровати. Ее голова разрывалась от боли, а виски горели. Дотронувшись, девушка обнаружила круглые ожоги по обе стороны. Горькие слезы бессилия покатились по ее щекам. Стиснув зубы, чтобы не издать и звука, журналистка отвернулась к окну. Осеннее солнце стыдливо заглядывало в палату, чтобы обнажить преступления, которые творились в стенах клиники.***
Кажется, Аманда и правда начала сходить с ума. После нескольких неудачных попыток ее поместили в специальную палату, сбежать оттуда не удавалось никому. В ее сознании начались помутнения. После уколов девушка словно выпадала из реальности. В такие моменты становилось страшнее всего. Бежать она больше не решалась, боялась, что крайняя попытка может стать последней. ***
Сирена. Резкие звуки ударов. Кажется, будто гигантский мяч кидают об пол, потом снова и снова… Обычно все двери закрывались на электрический замок, но из-за перепада электричества в эту ночь случился хаос.
Аманда приоткрыла дверь. Все метались, кричали, кто-то от страха забился в угол, словно нашкодивший котенок, а старушка, которая сторонилась всех, прыгала вокруг сцепившихся больных, хлопая в ладоши, каждый раз, когда кто-то получал удар. Врачи не справлялись.
Девушка поняла – это ее шанс. Она помчалась на кухню, где находился черный выход для персонала. Дверь открывалась только специальной ключ-картой, но перебой с электричеством сыграл ей как на руку. Сейчас дверь была отворена, как и все другие. Все казалось слишком просто, но на размышления времени совершенно не было: в любой момент электричество могут починить и замок притянется к магниту навсегда. В последнюю минуту, попросив у Бога помощи, Аманда ринулась к двери. ***
После побега прошло 10 лет. Чудом добравшись до дома, девушка впала в истерику, которая продолжалась несколько часов. Муж вызвал врача из частной клиники. Несколько недель Аманде помогали вернуться к нормальной жизни несколько врачей. Девушка всегда была под присмотром: врачи ставили капельницы и регулярно следили за состоянием девушки, а муж сидел у её кровати.
Через несколько месяцев Аманда решилась написать статью. Тяжело было даже вспоминать о том ужасе, который окружал её: больных лечили электрошоком, кровопусканием, окунали в ледяную воду, избивали, подвешивали с помощью различным приспособлений и часами раскручивали, после чего пациенты видели галлюцинации и не могли ориентироваться в пространстве.
Статья сразу же вызвала бурную реакцию. Представители власти тут же отправились в лечебницу. В кабинете хирурга были найдены доклады о жутком оборудовании для опытов над людьми и дневники пациентов. Под зданием была обнаружена лаборатория, где были найдены банки с различными человеческими органами. Больницу сразу же закрыли, а весь персонал был арестован.
На протяжении этих 10 лет Аманда обращалась к психологу, стараясь восстановить психику. Они с мужем приняли решение переехать в другой город, чтобы оградить себя от воспоминаний. У них появилась чудесная дочка Мия, которая была окружена любовью и заботой. После громкой статьи Аманда хотела тихой и спокойной жизни. Если бы не ожоги и шрамы на теле, можно было бы подумать, что произошедшее ранее ей привиделось.
Поцеловав дочку на ночь, Аманда вернулась в комнату, где уже тихо посапывал ее любимый. В темноте ей до сих пор становилось не по себе, поэтому пододвинувшись ближе к мужу и прошептав слова любви, девушка свернулась клубочком, засыпая.***- Подъем! - резко раздавшийся крик отразился от стен. Не понимая, что происходит, Аманда, села на кушетку. Перед ней стояла женщина в белом халате.- Что уставилась? – резко бросила она, хватая девушку за руку, - водные процедуры, красавица!
Папилова Полина. Он с собой ее в ад забрал
С протяжным скрипом открылась дверь. Мария Степановна прошла в комнату с подносом в руках и грустно улыбнулась. Её дорогой сын вновь сидел на подоконнике, как будто умер давно. Но, к счастью или нет, сказать сложно, не так это было. Мужчина повернулся к Марии Степановне и даже улыбнулся, зажигая слабый огонек надежды, а потом чуть ли не шепотом сказал:
— Вы-с садитесь, Фомас Владимирович, — и тут огонек потух. Её сын заговорил. Казалось бы, она радоваться должна. Столько лет не разговаривал. Но не к ней он обращался.
Она ставит поднос на стол, ждет ещё какое-то время, надеясь, что ещё что-то услышит. Может… Да нет, точно не ей адресованное, но это ничего. Ничего она не услышит. Мария Степановна выходит, дверь за собой закрывает и вздыхает тяжело, судорожно.
— Alors, comment? ¹ —скорее по привычке, нежели из-за настоящего интереса, спрашивает Ирина Петровна – дочь Марии Степановны, решившая с неделю назад навестить матушку и, конечно, своего старшего брата.
—Всё так же, — тихо, еле слышно отвечает она. — Зашла, и мне даже показалось, что он узнал меня! Точно посмотрел на меня так, как раньше, присесть предложил, но не мне, — начали нервно подрагивать её пальцы.
— Je devine à qui il parlait ², — усмехнулась горько Ирина Петровна, — после того, как этот бес жизни себя лишил и Гавриила душу прихватил! Он с собой её в ад забрал, не вернуть нам его больше, пора бы уже смириться с этим, матушка.
Мария Степановна слушает и слезы сдерживает. Вот вроде бы десять лет уже прошло, слезы давно кончиться должны были, но не всё так просто забывается, как хотелось бы. Счастливое время, время, когда Гавриил не обезумел еще, в памяти возникало постоянно.
Дверь, закрытая минуты три назад, отворилась. Выбежал оттуда Гавриил, не играла на его лице теплая улыбка, как раньше, он только шептал что-то. Как удачно, как вовремя за руку его матушка схватилась и, запинаясь – то ли все ещё слезы пытаясь сдержать, то ли просто ошарашена подобными действиями была – спросила:
— К-куда? Куда же ты... собираешься?
— Я…— он замирает, даже моргать перестает, на Марию Степановну взгляд не переводит, вновь шептать начинает, и только удается разобрать: "Через десять... Месте…" – а потом вдруг говорит:
— Я должен идти! Матушка, прошу вас, отпустите!
Губы её побелели, слёзы сдерживать больше не получалось, и руку сына своего держать она тоже больше не могла. Отпустила.
— Que faites-vous, mère³?! — спохватившись воскликнула Ирина Петровна, хоть и поздно уже было, — души теперь, бесу этому, мало стало! Он всего Гавриила забрать себе захотел!
***
" Если ты так хочешь, давай встретимся. На том же месте через десять лет. На том же месте, где мы познакомились," — кажется, что он шутит, насмехается надо мной, но верить всё равно хочется.
Десять лет прошло. Не знаю, откуда мне это известно, да и не важно. Важно вообще лишь одно – успеть. Я точно знаю, что он меня ждать не станет.
"… давай встретимся. На том же месте через десять лет. Там, где мы познакомились".
В лицее мы познакомились. Кажется, что только там я себе друзей находить мог.
"На том же месте через десять лет".
Десять лет прошло. Не знаю, откуда мне это известно, да и не важно.
"На том же месте через десять лет".
Десять лет прошло. Я почти на том же месте. Я почти рядом с лицеем.
"На том же месте через десять лет".
***
На лестнице стоит девочка лет десяти — с трудом могу понять, что она тут делает — держится за перила обеими руками и так сильно сжимает, что через просветы бинтов видны белые полосы. Смотрит на ступеньки перед собой, по крайней мере голову наклоняет вперед, ждёт чего-то, не двигается совсем. Глаза ее за волосами светлыми, хоть и в косички завязанными, прячутся.
Прямо рядом с ней прохожу, а она поворачивает голову резко, хруст даже слышится, и пристально рассматривать начинает, а потом как закричит:
— Гавриил! Господи, спасибо тебе. Правда ведь, ты это?
Кончики губ взметаются вверх, и ещё пару секунд назад серьезное лицо её становится слишком спокойным. И каким-то слишком знакомым. И ведь как же иначе! Фомас это. И, вероятно, заметив осознание на моем лице, мне на шею бросается с радостными возгласами. А я только и могу ответить:
— П-привет... а ты… изменился.
Меня отпускают, Фомас делает шаг назад.
— Пф… а как же иначе! Если уж доведётся тебе переродиться, ты тоже как сейчас выглядеть не будешь, — говорит он так, как будто и не прошло десять лет, как будто только вчера виделись.
— Это я и без объяснений понимаю.
— Ага, понимать понимаешь, а принять не можешь.
— Вот испытаю всю тяжесть перерождения и приму.
— Вспомнить не сможешь. Памяти лишишься, у вас, у людей, так всегда бывает, — сказав это, Фомас почти складывается пополам, а потом падает на лестницу, усаживаясь на одной ступеньке поудобнее. А потом, наклонив голову, принимается выжидающе смотреть на меня, заставляя сесть рядом.
Кажется, что тут нет никого больше, совершенно. Ничего и никого, кроме лестницы, почему-то почерневших деревьев, где-то в стороне стоящих, пары скамеек, двадцати осьми ступенек, двадцати пальцев, четырех пар глаз, осьм…
— … Ненавидит. Но это вам, как я заметил, и не мешает особо, как живете-то, а! Получше нас уж точно. На земле всё равно лучше, кто бы там что ни говорил. Тут и веселее, и интереснее. Да и личностей неоднозначных больше раз в двести! — всё продолжает Фомас, даже не проверяя, слушаю ли я. Если честно, так происходило всегда. Ему просто нужно было постоянно о чем-то говорить, иногда повторять одно и то же по семь раз, и уж не важно было, слушает его кто-то иль он в пустоту говорит, а всё лишь потому, что не желал он оставаться наедине с мыслями человеческими. Он часто говорил, что это почти единственное, что ему мешало жить спокойно на земле.
— … Страдаем, в частности, лишь от того, что правильные слишком. Да и за грехи нас всегда сильнее, чем вас, наказывают. Вот, казалось бы, Бог вас недолюбливает, а по итогу? Это нас низвергают только за неудобные вопросы, за то, что мы начинаем задумываться о том, что весь этот мир какой-то неправильный, а вы можете даже человека убить и всё равно по итогу в райский сад отправиться, — а иногда Фомас начинает говорить совсем уж глупые вещи, но это ничего, я давно к этому привык, всё-таки… Фомас- ангел. Ангел, слишком сильно заинтересовавшийся людьми. Настолько сильно, что несколько тысяч лет назад он, по собственному желанию, решил покинуть небеса и отправиться на землю. И всё лишь ради людей!
Ангел. Когда узнал об этом, уже и не вспомню. Но уж уверен, я выглядел так же удивленно, как и вы сейчас, а может, и ещё сильнее. Но это была ещё совсем чепуха. В какой-то из дней Фомас сказал, что больше не может оставаться в этом времени, что сосуд уже слишком стар, так что пришло время нам попрощаться. И это произошло ровно десять лет назад. Это я помню гораздо лучше, чем то, что происходило уже после.
—… Как поздно всё-таки встретились...
— Ты сам предложил через десять лет.
— Конечно, это я помню. Но, как думаешь, откуда мне было знать, что к этому времени новое тело совсем уж износится? Кто же знал, что в этот раз всё-так неудачно сложится. С большим трудом я могу сейчас сохранять тело в нормальном состоянии и не давать ему разложиться, — он пожал плечами, как будто это всё было очевидно даже ребенку пятилетнему, но уж не так это, в этом я уверен.
— Не позволять разлагаться?
— Конечно, а как ина…, — он запнулся, повернулся ко мне и виновато улыбнулся, — ой, прости-прости, ты же не знаешь, скорее всего. Известно ли тебе, друг мой, что такие, как я, не имеют собственного физического тела? Это чуть ли не самая большая проблема. Казалось бы, оно нам и не нужно, но не может дух бесплотный с человеком разговаривать. И вот задумайся, как наставлять людей на путь истинный, если даже заговаривать нельзя? Вот и приходится использовать тела человеческие. Но, сам подумай, не вытеснять же сознание ещё живого человека! Так и получается, что приходится использовать тела, ещё не мертвые, но душой покинутые. Только вот приходится тратить слишком много энергии на поддержание в достойном виде, и с каждым годом это всё сложнее. Да ты и сам наверняка видишь, что я уже не справляюсь, — вижу. Вижу слишком хорошо, чтобы не не обратить на это внимание, но…
— Но разве ничего нельзя сделать?
— Нет, друг мой. Всё уже решено. Ещё позавчера. Сегодня мой последний день здесь.
— Да как же это так…
— Кто ж знает! Но ничего не поделаешь, — Фомас вдруг вскакивает и протягивает мне руку, улыбаясь ещё шире, чем раньше, и мне начинает казаться, что он светится, ну а как иначе…
— Поднимайся. Уже пора мне идти, да и тебя, уверен, дома ждет Мария Степановна. Как она поживает, кстати? Хорошо ли всё? Здорова ли? А как дела у…
Он всё продолжает говорить. А я не мешаю. Перестаю слушать, хватаю его за руку только и сжимаю, похоже, слишком крепко, так, что Фомас даже ойкает недовольно.
— И что же получается? Ты не можешь остаться даже на один день подольше? Прошу тебя!
— Я-то, может, и могу, но что это изменит? Пройдет день, и ты попросишь меня остаться снова. А уж этого я позволить себе не могу. Ты же знаешь, у меня есть работа. Я должен помогать людям, даровать им счастье…
— А я, по-твоему, не человек?
— …, — он как-то слишком разочарованно смотрит на меня, молчит тридцать четыре секунды (кто-кто, а я посчитал), а потом тихо отвечает:
— Человек, конечно. Но… но не ты один человек, есть и другие... Это время слишком неспокойное, чтобы я мог тратить его на кого-то одного. Прости. Это просто невозможно. Я не могу оставаться здесь дольше.
Я отпускаю его руку. Он ждет ещё чего-то, но я молчу, не знаю, что ещё-то можно сказать. А можно ли сказать хоть что-то?
Фомас с благодарностью кивает мне:
— Спасибо, Гавриил. Пока, может, мы ещё встретимся, когда-нибудь, — отворачивается и, перепрыгнув две ступеньки, ступает на землю.
— Встретимся. Конечно. На том же месте через десять лет. На том же месте, где мы познакомились, хорошо?
¹ ну и как? (фр.)
² догадываюсь я с кем он говорил. (фр.)
³ что же вы, матушка! (фр.)
С протяжным скрипом открылась дверь. Мария Степановна прошла в комнату с подносом в руках и грустно улыбнулась. Её дорогой сын вновь сидел на подоконнике, как будто умер давно. Но, к счастью или нет, сказать сложно, не так это было. Мужчина повернулся к Марии Степановне и даже улыбнулся, зажигая слабый огонек надежды, а потом чуть ли не шепотом сказал:
— Вы-с садитесь, Фомас Владимирович, — и тут огонек потух. Её сын заговорил. Казалось бы, она радоваться должна. Столько лет не разговаривал. Но не к ней он обращался.
Она ставит поднос на стол, ждет ещё какое-то время, надеясь, что ещё что-то услышит. Может… Да нет, точно не ей адресованное, но это ничего. Ничего она не услышит. Мария Степановна выходит, дверь за собой закрывает и вздыхает тяжело, судорожно.
— Alors, comment? ¹ —скорее по привычке, нежели из-за настоящего интереса, спрашивает Ирина Петровна – дочь Марии Степановны, решившая с неделю назад навестить матушку и, конечно, своего старшего брата.
—Всё так же, — тихо, еле слышно отвечает она. — Зашла, и мне даже показалось, что он узнал меня! Точно посмотрел на меня так, как раньше, присесть предложил, но не мне, — начали нервно подрагивать её пальцы.
— Je devine à qui il parlait ², — усмехнулась горько Ирина Петровна, — после того, как этот бес жизни себя лишил и Гавриила душу прихватил! Он с собой её в ад забрал, не вернуть нам его больше, пора бы уже смириться с этим, матушка.
Мария Степановна слушает и слезы сдерживает. Вот вроде бы десять лет уже прошло, слезы давно кончиться должны были, но не всё так просто забывается, как хотелось бы. Счастливое время, время, когда Гавриил не обезумел еще, в памяти возникало постоянно.
Дверь, закрытая минуты три назад, отворилась. Выбежал оттуда Гавриил, не играла на его лице теплая улыбка, как раньше, он только шептал что-то. Как удачно, как вовремя за руку его матушка схватилась и, запинаясь – то ли все ещё слезы пытаясь сдержать, то ли просто ошарашена подобными действиями была – спросила:
— К-куда? Куда же ты... собираешься?
— Я…— он замирает, даже моргать перестает, на Марию Степановну взгляд не переводит, вновь шептать начинает, и только удается разобрать: "Через десять... Месте…" – а потом вдруг говорит:
— Я должен идти! Матушка, прошу вас, отпустите!
Губы её побелели, слёзы сдерживать больше не получалось, и руку сына своего держать она тоже больше не могла. Отпустила.
— Que faites-vous, mère³?! — спохватившись воскликнула Ирина Петровна, хоть и поздно уже было, — души теперь, бесу этому, мало стало! Он всего Гавриила забрать себе захотел!
***
" Если ты так хочешь, давай встретимся. На том же месте через десять лет. На том же месте, где мы познакомились," — кажется, что он шутит, насмехается надо мной, но верить всё равно хочется.
Десять лет прошло. Не знаю, откуда мне это известно, да и не важно. Важно вообще лишь одно – успеть. Я точно знаю, что он меня ждать не станет.
"… давай встретимся. На том же месте через десять лет. Там, где мы познакомились".
В лицее мы познакомились. Кажется, что только там я себе друзей находить мог.
"На том же месте через десять лет".
Десять лет прошло. Не знаю, откуда мне это известно, да и не важно.
"На том же месте через десять лет".
Десять лет прошло. Я почти на том же месте. Я почти рядом с лицеем.
"На том же месте через десять лет".
***
На лестнице стоит девочка лет десяти — с трудом могу понять, что она тут делает — держится за перила обеими руками и так сильно сжимает, что через просветы бинтов видны белые полосы. Смотрит на ступеньки перед собой, по крайней мере голову наклоняет вперед, ждёт чего-то, не двигается совсем. Глаза ее за волосами светлыми, хоть и в косички завязанными, прячутся.
Прямо рядом с ней прохожу, а она поворачивает голову резко, хруст даже слышится, и пристально рассматривать начинает, а потом как закричит:
— Гавриил! Господи, спасибо тебе. Правда ведь, ты это?
Кончики губ взметаются вверх, и ещё пару секунд назад серьезное лицо её становится слишком спокойным. И каким-то слишком знакомым. И ведь как же иначе! Фомас это. И, вероятно, заметив осознание на моем лице, мне на шею бросается с радостными возгласами. А я только и могу ответить:
— П-привет... а ты… изменился.
Меня отпускают, Фомас делает шаг назад.
— Пф… а как же иначе! Если уж доведётся тебе переродиться, ты тоже как сейчас выглядеть не будешь, — говорит он так, как будто и не прошло десять лет, как будто только вчера виделись.
— Это я и без объяснений понимаю.
— Ага, понимать понимаешь, а принять не можешь.
— Вот испытаю всю тяжесть перерождения и приму.
— Вспомнить не сможешь. Памяти лишишься, у вас, у людей, так всегда бывает, — сказав это, Фомас почти складывается пополам, а потом падает на лестницу, усаживаясь на одной ступеньке поудобнее. А потом, наклонив голову, принимается выжидающе смотреть на меня, заставляя сесть рядом.
Кажется, что тут нет никого больше, совершенно. Ничего и никого, кроме лестницы, почему-то почерневших деревьев, где-то в стороне стоящих, пары скамеек, двадцати осьми ступенек, двадцати пальцев, четырех пар глаз, осьм…
— … Ненавидит. Но это вам, как я заметил, и не мешает особо, как живете-то, а! Получше нас уж точно. На земле всё равно лучше, кто бы там что ни говорил. Тут и веселее, и интереснее. Да и личностей неоднозначных больше раз в двести! — всё продолжает Фомас, даже не проверяя, слушаю ли я. Если честно, так происходило всегда. Ему просто нужно было постоянно о чем-то говорить, иногда повторять одно и то же по семь раз, и уж не важно было, слушает его кто-то иль он в пустоту говорит, а всё лишь потому, что не желал он оставаться наедине с мыслями человеческими. Он часто говорил, что это почти единственное, что ему мешало жить спокойно на земле.
— … Страдаем, в частности, лишь от того, что правильные слишком. Да и за грехи нас всегда сильнее, чем вас, наказывают. Вот, казалось бы, Бог вас недолюбливает, а по итогу? Это нас низвергают только за неудобные вопросы, за то, что мы начинаем задумываться о том, что весь этот мир какой-то неправильный, а вы можете даже человека убить и всё равно по итогу в райский сад отправиться, — а иногда Фомас начинает говорить совсем уж глупые вещи, но это ничего, я давно к этому привык, всё-таки… Фомас- ангел. Ангел, слишком сильно заинтересовавшийся людьми. Настолько сильно, что несколько тысяч лет назад он, по собственному желанию, решил покинуть небеса и отправиться на землю. И всё лишь ради людей!
Ангел. Когда узнал об этом, уже и не вспомню. Но уж уверен, я выглядел так же удивленно, как и вы сейчас, а может, и ещё сильнее. Но это была ещё совсем чепуха. В какой-то из дней Фомас сказал, что больше не может оставаться в этом времени, что сосуд уже слишком стар, так что пришло время нам попрощаться. И это произошло ровно десять лет назад. Это я помню гораздо лучше, чем то, что происходило уже после.
—… Как поздно всё-таки встретились...
— Ты сам предложил через десять лет.
— Конечно, это я помню. Но, как думаешь, откуда мне было знать, что к этому времени новое тело совсем уж износится? Кто же знал, что в этот раз всё-так неудачно сложится. С большим трудом я могу сейчас сохранять тело в нормальном состоянии и не давать ему разложиться, — он пожал плечами, как будто это всё было очевидно даже ребенку пятилетнему, но уж не так это, в этом я уверен.
— Не позволять разлагаться?
— Конечно, а как ина…, — он запнулся, повернулся ко мне и виновато улыбнулся, — ой, прости-прости, ты же не знаешь, скорее всего. Известно ли тебе, друг мой, что такие, как я, не имеют собственного физического тела? Это чуть ли не самая большая проблема. Казалось бы, оно нам и не нужно, но не может дух бесплотный с человеком разговаривать. И вот задумайся, как наставлять людей на путь истинный, если даже заговаривать нельзя? Вот и приходится использовать тела человеческие. Но, сам подумай, не вытеснять же сознание ещё живого человека! Так и получается, что приходится использовать тела, ещё не мертвые, но душой покинутые. Только вот приходится тратить слишком много энергии на поддержание в достойном виде, и с каждым годом это всё сложнее. Да ты и сам наверняка видишь, что я уже не справляюсь, — вижу. Вижу слишком хорошо, чтобы не не обратить на это внимание, но…
— Но разве ничего нельзя сделать?
— Нет, друг мой. Всё уже решено. Ещё позавчера. Сегодня мой последний день здесь.
— Да как же это так…
— Кто ж знает! Но ничего не поделаешь, — Фомас вдруг вскакивает и протягивает мне руку, улыбаясь ещё шире, чем раньше, и мне начинает казаться, что он светится, ну а как иначе…
— Поднимайся. Уже пора мне идти, да и тебя, уверен, дома ждет Мария Степановна. Как она поживает, кстати? Хорошо ли всё? Здорова ли? А как дела у…
Он всё продолжает говорить. А я не мешаю. Перестаю слушать, хватаю его за руку только и сжимаю, похоже, слишком крепко, так, что Фомас даже ойкает недовольно.
— И что же получается? Ты не можешь остаться даже на один день подольше? Прошу тебя!
— Я-то, может, и могу, но что это изменит? Пройдет день, и ты попросишь меня остаться снова. А уж этого я позволить себе не могу. Ты же знаешь, у меня есть работа. Я должен помогать людям, даровать им счастье…
— А я, по-твоему, не человек?
— …, — он как-то слишком разочарованно смотрит на меня, молчит тридцать четыре секунды (кто-кто, а я посчитал), а потом тихо отвечает:
— Человек, конечно. Но… но не ты один человек, есть и другие... Это время слишком неспокойное, чтобы я мог тратить его на кого-то одного. Прости. Это просто невозможно. Я не могу оставаться здесь дольше.
Я отпускаю его руку. Он ждет ещё чего-то, но я молчу, не знаю, что ещё-то можно сказать. А можно ли сказать хоть что-то?
Фомас с благодарностью кивает мне:
— Спасибо, Гавриил. Пока, может, мы ещё встретимся, когда-нибудь, — отворачивается и, перепрыгнув две ступеньки, ступает на землю.
— Встретимся. Конечно. На том же месте через десять лет. На том же месте, где мы познакомились, хорошо?
¹ ну и как? (фр.)
² догадываюсь я с кем он говорил. (фр.)
³ что же вы, матушка! (фр.)
Гуменник Иван. Страх моего детства
— Паша, бегом в кровать, ты видел время?
— Мама, я не понимаю часы, еще светло.
— Белые ночи! Сколько раз тебе объясняла! Видишь, узкая стрелка показывает на двенадцать.
Мальчик, сведя брови, перебирает пальцы.
— Это десять и два?
— Да, и если ты немедленно не ляжешь в кровать и быстро не уснешь, то придут Петрень и Чесночи. Засунут они тебя в мешок и утащат. И съедят, конечно. Ты будешь дергать своими ножками, пытаться кричать, а голос-то пропадет. А знаешь, что самое страшное?
— Что? — шепчет мальчик, уже натягивая на подбородок одеяло.
— То, что им будет все равно. Души-то у них нет. Ты понял?
— Да, да, это так страшно. А что у них там вместо души?
— Вместо души у Петрени топкое болото, в котором пропадешь, если до часу уснуть не сможешь. Ну спи, спи давай.
Мальчик крепко зажмуривается и засыпает, боясь пошевелиться.
Я провернула ключ. Громыхнуло железо. Пасть опустевшей комнаты захлопнулась. В полночь мне нужно выгуливать своего питомца. Его зовут Чесночи, у него странный вид: единственный зеленый глаз искрится какой-то непонятной хитростью, коротенькие ножки упираются и протестуют против прогулки, либо смиренно волочатся по асфальту, зубы кривые, а в животе все время урчит. Кто-нибудь другой сказал бы, что его надо сводить к ветеринару. Но я и сама хороша: долговязое телосложение, бледное как мел лицо с четырьмя рядами зубов, которым необходимы брекеты, и наконец, ледяная вода узких каналов вместо крови, которую гонит по телу сердце… а может его и вовсе... Хм...
Ночь выдалась теплой и светлой. Асфальт и бетон домов еще не остыли от жаркого дня. Я была похожа на влажную жабу, которую положили иссыхать на нагретом асфальте. Обычно я себя хранила при температуре ниже двадцати градусов, избегая света, и в недоступном для детей месте, но сегодняшний день и даже ночь противоречили возможности моего существования: ни одно из абиотических условий моей среды обитания соблюдено не было. Да и биотические тоже, кругом люди. Пора возвращаться.
С прошлого хлопка этой двери прошел час. Домой я вернулась одна. После прогулки у моего песика разыгрывается аппетит. Обычно к часу ночи Чесночи отправляется искать себе ужин. Как правило он делает это сам, а мне кажется, что свежатина полезней сухого корма. Раздался скрежет люка, ведущего на крышу и какой-то вскрик, значит, скоро Чесночи вернётся. Надеюсь, строитель в этот раз окажется покрупнее.
Эх, что бы я без работников ЖКХ делала, сидела бы, наверное, в сквозняках и с пустым желудком. Я уютненько завернулась в картонку, Чесночи лежал в ногах, есть не хотелось. Было сыро и наконец-то прохладно, видимо, завтра будет дождь. Да, именно из-за таких моментов хочется жить. Строительную каску я приспособлю под миску. Идея хорошая, можно спать.
Утром я в обязательном порядке решила посетить общественное место, чтобы не подхватить асоциалиоз. Эти выходы нужны мне как витамины, от которых становится хорошо на душе… Которой может и…Я вспомнила про сказку, которую однажды подслушала и содрогнулась. Вот же придумают. А что, если это правда, и ее нет? Об этом думать не хотелось.
Я вышла. Погода оказалась просто прекрасной: дождь, да и людей не было видно. Нельзя сказать, что их я не любила. По-отдельности никакого отвращения во мне они не вызывали, скорее наоборот, вызывали только аппетит. Чего нельзя сказать про человечество в целом с их отвратительной коммуникацией. Но ведь в малых дозах она нужна и мне. Витамины…
Я вышла и заставила себя сесть в автобус. Проездной не нужен. Скорее всего меня, как всегда, не заметят. А если заметят, тогда я просто сниму капюшон, водитель увидит жабры, не поверит себе, зажмурится, снова откроет глаза и, как человек, обладающий рациональным мышлением, станет смотреть в другую сторону. Кстати, о жабрах. Когда-то они даже имели свое назначение. Несколько веков назад тут было только моё болото, и я жила в воде. Да, теперь все иначе.
По дороге мне встретилось множество «остатков» или «объедков», но я предпочитаю именовать их - «огрызками». Тех, кого я видела уже не в первый раз. Своих жертв я высасывала изнутри, забирала у них то, чему определение подобрать невозможно, но чем я пытаюсь утолить свой голод. Огрызка почти ничто не выделяет. Неестественная походка вскоре проходит, укус заживает, но лицо… Сложно. Наверное, оно становится, как студень.
Люди... Вопреки новомодным мультикам, увиденным мной через окна первых этажей, нам всем противны инаковые. Почему люди инаковые? У несъеденных людей что-то есть, какой-то выпячивающий излишек, которого я так люблю их лишать, делая похожими на себя. Но сейчас я не собираюсь их есть, обычно я не завтракаю, мне всего лишь нужны витамины, и я иду в музей. Я слегка растянула губы в разные стороны и подошла кассе.
— Билетики берём?
Меня опять заметили, от этого щекотно в животе. Я сразу пошаркала по паркету к натюрмортам. На табличке они были обозначены как портреты. Как вкусно от них пахло! Давно съеденные смотрительницы залов никак не реагировали на этот аромат. У меня же вскоре разыгрался аппетит и пришлось срочно отправиться на поиски закуски.
Я хожу аккуратно, надо беречь обувь. Новую я никогда не ношу, а подшиваю старую. На носке можно разглядеть помпон от турецких туфель, где-то проглядывает береста от лаптей и эмблема кроссовок. Несмотря на дождь, мне не было холодно. Я слишком старомодна, чтобы иметь постоянную температуру тела.
Что у меня точно было, так это чуйка на полных. Никаких особых ощущений, запахов или следов нет. Просто бродишь, и все получается само собой. Я подошла к спальному кварталу и завернула во двор. Из дома выходил тусклый женоподобный огрызок с худощавым, при этом совершенно полным ребенком, которому было где-то года три-четыре. Послышались крики.
— В следующий раз будешь знать, как штору резать! Оставить одного невозможно! Сволочь.
Мальчик что-то пробурчал неразборчиво. Мать побагровела.
— Одни проблемы! Вот отдам тебя Петрени.
Я вздрогнула и задержала дыхание, чтобы услышать ответ ребенка.
— Мама, прости, я тебя люблю, я больше не буду.
— Сто раз обещал – «не буду». Стой здесь, жди меня, а я в магазин зайду.
Мальчик ничего не ответил, только глянул исподлобья и вздохнул. Внезапно до меня долетело это ощущение полности. Оно, как ветер, обдувающий тебя и подгоняющий вперед ненавязчивыми толчками в спину. Оно ощущается, как запах, который ты внезапно чувствуешь, а потом не можешь даже вспомнить. Я медленно подошла к ребенку сзади, одну руку положила ему на плечо, а второй закрыла глаза. Теперь он спал. Я подхватила голову, расслабленно склонившуюся набок, подняла тело и положила мальчика на плечо. Домой! Метровыми шагами я перепрыгивала лужи. Ветер морозил кожу и трепал верхушки деревьев. По сторонам мелькали припаркованные машины, стены, люди.
Но вот уже и знакомый двор, лестница, которую я быстро пролетела, и чердак. Чесночи спал и на мой приход внимания никакого не обратил. Положив мальчика на свою картонку, я стала отряхивать плащ от воды, чтобы его укрыть. Он спал тревожно и часто жмурил глаза. Я присела рядом и стала на него смотреть. Вся моя одежда пропиталась этой наполненностью. Вдруг мальчик стал крутить головой и шептать:
— Мама, мамочка, ты тут? Мама?
Я вперила взгляд в стену, на несколько секунд заглушив свои мысли, но сопротивляться уже было невозможно. Меня тошнило от того, что я недавно хотела его съесть, превратить в пустой огрызок. А сейчас я как будто наполняюсь сама, ничего не отбирая и не откусывая. Я больше не хочу есть. Что это? Так не бывает. Это противоречит физике. Мне не хочется, но я должна питаться. Я медленно подошла к Паше и аккуратно лизнула его ухо. В этот момент в брюхе у меня все ухнуло, сжалось и опять потянуло пустотой изнутри. Я отошла и снова стала медленно наполняться. Экспериментально я поняла, что стала другой. Это не тот театральный катарсис с вырыванием волос и покаянием. Просто я не хочу есть, я полна. Раньше, когда огрызков было гораздо меньше, прием пищи не был чем-то большим, нежели приятным утолением голода. Кто-то убежал? Ничего страшного, найдется другой. Ходячие куски (иногда сильно потрепанной) души. Их для меня не было ни до момента приема пищи, ни после. А его для меня нет как пищи. Я не могу его изменить, а он меня смог. Я не голодна.
Выход был только один. Я взяла сонного, потного ребенка, завернула в картон и уже бежала. Я грела дрожащие руки об него и совершенно физиологически чувствовала, как нечто проходит через кожные поры, и шипя разливается.
Как только я поставила еще спящего мальчика у крыльца, прислонив к стене дома, из подъезда вышла мать. Её речь на этот раз я уже не слышала, но видела её лицо, когда она заметила своего сына. На её лице, как капли освежающего дождя оседала полность, брызжущая и искрящаяся.
Теперь мне просто хотелось посидеть одной. Пустой соседний двор как нельзя лучше подходил для того, чтобы осознать свою полность. Там я сидела на асфальте и чувствовала еле заметное тепло где-то в районе живота, причем, это была не изжога, да, определенно не изжога. И оно точно не было остатком полноты мальчика. Оно моё. Водянистое, мутное, но моё. Кажется, я вся наполнилась. Главный страх моего детства, да и жизни в целом, не оправдался. Она у меня все-таки есть… Понимая это, и не понимая, что теперь делать, я просидела тут до утра…
В дома стороны Петроградской
Я всматриваюсь все чаще.
На днище могилы братской,
В колодце ворон, молчащих
Сижу я, дрожу немного.
Уплыли ночные духи-
Сосущие свет миноги,
Теперь золотые мухи.
Забылся уже мой голод,
Забылся и вид еды.
Где был я насквозь проколот,
Лишь шрамов теперь ряды.
На дне моём плещется влага,
Счастье течёт по коже.
Жалко, что я бумага,
Теперь растворюсь похоже.
Чесночи. Совсем забыла про него. Я должна ему все объяснить.
— Паша, бегом в кровать, ты видел время?
— Мама, я не понимаю часы, еще светло.
— Белые ночи! Сколько раз тебе объясняла! Видишь, узкая стрелка показывает на двенадцать.
Мальчик, сведя брови, перебирает пальцы.
— Это десять и два?
— Да, и если ты немедленно не ляжешь в кровать и быстро не уснешь, то придут Петрень и Чесночи. Засунут они тебя в мешок и утащат. И съедят, конечно. Ты будешь дергать своими ножками, пытаться кричать, а голос-то пропадет. А знаешь, что самое страшное?
— Что? — шепчет мальчик, уже натягивая на подбородок одеяло.
— То, что им будет все равно. Души-то у них нет. Ты понял?
— Да, да, это так страшно. А что у них там вместо души?
— Вместо души у Петрени топкое болото, в котором пропадешь, если до часу уснуть не сможешь. Ну спи, спи давай.
Мальчик крепко зажмуривается и засыпает, боясь пошевелиться.
Я провернула ключ. Громыхнуло железо. Пасть опустевшей комнаты захлопнулась. В полночь мне нужно выгуливать своего питомца. Его зовут Чесночи, у него странный вид: единственный зеленый глаз искрится какой-то непонятной хитростью, коротенькие ножки упираются и протестуют против прогулки, либо смиренно волочатся по асфальту, зубы кривые, а в животе все время урчит. Кто-нибудь другой сказал бы, что его надо сводить к ветеринару. Но я и сама хороша: долговязое телосложение, бледное как мел лицо с четырьмя рядами зубов, которым необходимы брекеты, и наконец, ледяная вода узких каналов вместо крови, которую гонит по телу сердце… а может его и вовсе... Хм...
Ночь выдалась теплой и светлой. Асфальт и бетон домов еще не остыли от жаркого дня. Я была похожа на влажную жабу, которую положили иссыхать на нагретом асфальте. Обычно я себя хранила при температуре ниже двадцати градусов, избегая света, и в недоступном для детей месте, но сегодняшний день и даже ночь противоречили возможности моего существования: ни одно из абиотических условий моей среды обитания соблюдено не было. Да и биотические тоже, кругом люди. Пора возвращаться.
С прошлого хлопка этой двери прошел час. Домой я вернулась одна. После прогулки у моего песика разыгрывается аппетит. Обычно к часу ночи Чесночи отправляется искать себе ужин. Как правило он делает это сам, а мне кажется, что свежатина полезней сухого корма. Раздался скрежет люка, ведущего на крышу и какой-то вскрик, значит, скоро Чесночи вернётся. Надеюсь, строитель в этот раз окажется покрупнее.
Эх, что бы я без работников ЖКХ делала, сидела бы, наверное, в сквозняках и с пустым желудком. Я уютненько завернулась в картонку, Чесночи лежал в ногах, есть не хотелось. Было сыро и наконец-то прохладно, видимо, завтра будет дождь. Да, именно из-за таких моментов хочется жить. Строительную каску я приспособлю под миску. Идея хорошая, можно спать.
Утром я в обязательном порядке решила посетить общественное место, чтобы не подхватить асоциалиоз. Эти выходы нужны мне как витамины, от которых становится хорошо на душе… Которой может и…Я вспомнила про сказку, которую однажды подслушала и содрогнулась. Вот же придумают. А что, если это правда, и ее нет? Об этом думать не хотелось.
Я вышла. Погода оказалась просто прекрасной: дождь, да и людей не было видно. Нельзя сказать, что их я не любила. По-отдельности никакого отвращения во мне они не вызывали, скорее наоборот, вызывали только аппетит. Чего нельзя сказать про человечество в целом с их отвратительной коммуникацией. Но ведь в малых дозах она нужна и мне. Витамины…
Я вышла и заставила себя сесть в автобус. Проездной не нужен. Скорее всего меня, как всегда, не заметят. А если заметят, тогда я просто сниму капюшон, водитель увидит жабры, не поверит себе, зажмурится, снова откроет глаза и, как человек, обладающий рациональным мышлением, станет смотреть в другую сторону. Кстати, о жабрах. Когда-то они даже имели свое назначение. Несколько веков назад тут было только моё болото, и я жила в воде. Да, теперь все иначе.
По дороге мне встретилось множество «остатков» или «объедков», но я предпочитаю именовать их - «огрызками». Тех, кого я видела уже не в первый раз. Своих жертв я высасывала изнутри, забирала у них то, чему определение подобрать невозможно, но чем я пытаюсь утолить свой голод. Огрызка почти ничто не выделяет. Неестественная походка вскоре проходит, укус заживает, но лицо… Сложно. Наверное, оно становится, как студень.
Люди... Вопреки новомодным мультикам, увиденным мной через окна первых этажей, нам всем противны инаковые. Почему люди инаковые? У несъеденных людей что-то есть, какой-то выпячивающий излишек, которого я так люблю их лишать, делая похожими на себя. Но сейчас я не собираюсь их есть, обычно я не завтракаю, мне всего лишь нужны витамины, и я иду в музей. Я слегка растянула губы в разные стороны и подошла кассе.
— Билетики берём?
Меня опять заметили, от этого щекотно в животе. Я сразу пошаркала по паркету к натюрмортам. На табличке они были обозначены как портреты. Как вкусно от них пахло! Давно съеденные смотрительницы залов никак не реагировали на этот аромат. У меня же вскоре разыгрался аппетит и пришлось срочно отправиться на поиски закуски.
Я хожу аккуратно, надо беречь обувь. Новую я никогда не ношу, а подшиваю старую. На носке можно разглядеть помпон от турецких туфель, где-то проглядывает береста от лаптей и эмблема кроссовок. Несмотря на дождь, мне не было холодно. Я слишком старомодна, чтобы иметь постоянную температуру тела.
Что у меня точно было, так это чуйка на полных. Никаких особых ощущений, запахов или следов нет. Просто бродишь, и все получается само собой. Я подошла к спальному кварталу и завернула во двор. Из дома выходил тусклый женоподобный огрызок с худощавым, при этом совершенно полным ребенком, которому было где-то года три-четыре. Послышались крики.
— В следующий раз будешь знать, как штору резать! Оставить одного невозможно! Сволочь.
Мальчик что-то пробурчал неразборчиво. Мать побагровела.
— Одни проблемы! Вот отдам тебя Петрени.
Я вздрогнула и задержала дыхание, чтобы услышать ответ ребенка.
— Мама, прости, я тебя люблю, я больше не буду.
— Сто раз обещал – «не буду». Стой здесь, жди меня, а я в магазин зайду.
Мальчик ничего не ответил, только глянул исподлобья и вздохнул. Внезапно до меня долетело это ощущение полности. Оно, как ветер, обдувающий тебя и подгоняющий вперед ненавязчивыми толчками в спину. Оно ощущается, как запах, который ты внезапно чувствуешь, а потом не можешь даже вспомнить. Я медленно подошла к ребенку сзади, одну руку положила ему на плечо, а второй закрыла глаза. Теперь он спал. Я подхватила голову, расслабленно склонившуюся набок, подняла тело и положила мальчика на плечо. Домой! Метровыми шагами я перепрыгивала лужи. Ветер морозил кожу и трепал верхушки деревьев. По сторонам мелькали припаркованные машины, стены, люди.
Но вот уже и знакомый двор, лестница, которую я быстро пролетела, и чердак. Чесночи спал и на мой приход внимания никакого не обратил. Положив мальчика на свою картонку, я стала отряхивать плащ от воды, чтобы его укрыть. Он спал тревожно и часто жмурил глаза. Я присела рядом и стала на него смотреть. Вся моя одежда пропиталась этой наполненностью. Вдруг мальчик стал крутить головой и шептать:
— Мама, мамочка, ты тут? Мама?
Я вперила взгляд в стену, на несколько секунд заглушив свои мысли, но сопротивляться уже было невозможно. Меня тошнило от того, что я недавно хотела его съесть, превратить в пустой огрызок. А сейчас я как будто наполняюсь сама, ничего не отбирая и не откусывая. Я больше не хочу есть. Что это? Так не бывает. Это противоречит физике. Мне не хочется, но я должна питаться. Я медленно подошла к Паше и аккуратно лизнула его ухо. В этот момент в брюхе у меня все ухнуло, сжалось и опять потянуло пустотой изнутри. Я отошла и снова стала медленно наполняться. Экспериментально я поняла, что стала другой. Это не тот театральный катарсис с вырыванием волос и покаянием. Просто я не хочу есть, я полна. Раньше, когда огрызков было гораздо меньше, прием пищи не был чем-то большим, нежели приятным утолением голода. Кто-то убежал? Ничего страшного, найдется другой. Ходячие куски (иногда сильно потрепанной) души. Их для меня не было ни до момента приема пищи, ни после. А его для меня нет как пищи. Я не могу его изменить, а он меня смог. Я не голодна.
Выход был только один. Я взяла сонного, потного ребенка, завернула в картон и уже бежала. Я грела дрожащие руки об него и совершенно физиологически чувствовала, как нечто проходит через кожные поры, и шипя разливается.
Как только я поставила еще спящего мальчика у крыльца, прислонив к стене дома, из подъезда вышла мать. Её речь на этот раз я уже не слышала, но видела её лицо, когда она заметила своего сына. На её лице, как капли освежающего дождя оседала полность, брызжущая и искрящаяся.
Теперь мне просто хотелось посидеть одной. Пустой соседний двор как нельзя лучше подходил для того, чтобы осознать свою полность. Там я сидела на асфальте и чувствовала еле заметное тепло где-то в районе живота, причем, это была не изжога, да, определенно не изжога. И оно точно не было остатком полноты мальчика. Оно моё. Водянистое, мутное, но моё. Кажется, я вся наполнилась. Главный страх моего детства, да и жизни в целом, не оправдался. Она у меня все-таки есть… Понимая это, и не понимая, что теперь делать, я просидела тут до утра…
В дома стороны Петроградской
Я всматриваюсь все чаще.
На днище могилы братской,
В колодце ворон, молчащих
Сижу я, дрожу немного.
Уплыли ночные духи-
Сосущие свет миноги,
Теперь золотые мухи.
Забылся уже мой голод,
Забылся и вид еды.
Где был я насквозь проколот,
Лишь шрамов теперь ряды.
На дне моём плещется влага,
Счастье течёт по коже.
Жалко, что я бумага,
Теперь растворюсь похоже.
Чесночи. Совсем забыла про него. Я должна ему все объяснить.
Рокотов Владислав. Город без
- Внимание! Внимание! – доносилось из репродукторов – Синоптики решили, что сегодня будет очень грустный и скучный день. КОТ одобрил оное решение и велел привести в исполнение. Все, кто не имеет сегодня необходимого настроения, должны позаботиться о том, как приобрести его. Внимание! Внимание!
Мага одевается, не забывая про белую угловатую маску с узкими прорезями, поправляет шляпу перед зеркалом и спускается вниз по лестнице.
У витрины уже толпятся люди. Они заглядывают в окна, стучат и переговариваются между собой. «Почему их так много? Я что, остался одним единственным продавцом в городе? Точно! Вчера ведь был праздник, и все веселились до упаду, а по утру ринулись за настроением. Ну и чудно, можно не спешить.» Нарочно медленно, он с особой дотошностью обошёл весь магазин, шелестя по полу краями своей чёрной рясы, подровнял каждую баночку, потом встал за прилавок, ещё раз поправил шляпу, и нажал на треугольную кнопку на стене. Стеллаж, вмонтированный в стену, дёрнулся и начал двигаться. Вместо склянок с надписями: «Радость», «Восторженность», «Дружелюбие» на полках появились «Грусть», «Депрессия», «Тоска» и так далее. После всех этих манипуляций Мага отпер дверь и магазин мигом наполнился покупателями.
До полудня он продавал плохое настроение горожанам, но ещё через час покупателей заметно поубавилось. Вдруг вошёл ещё один человек. Это был хорошо сложенный мужчина в кожаной куртке с аккуратно уложенными чёрными волосами. Оглядевшись, он направился к прилавку. Это был Джейсон - лётчик, потерпевший крушение недалеко от города три недели назад. Будучи новеньким в городе, он никак не мог вписаться в общество. Всё вокруг казалось ему странным, неправильным.
Однако в какой-то момент Мага с удивлением обнаружил, что так или иначе общается с лётчиком. Джейсон заходил к нему, и хоть никогда ничего не покупал, расспрашивал Магу о разных тонкостях жизни в городе, но даже после объяснений всё равно ничего не мог понять. К примеру, как работает система прогнозов, определяющих не столько погоду, сколько то, как люди проживут этот день: радуясь или плача, работая или отдыхая. Не понимал он и того, как можно заключить эмоцию в стеклянную бутылку и продать любому желающему.
- Ерунда! – восклицал он, бывало, слушая очередной рассказ – Так не бывает и быть не может!
- Да? Посмотрим, как ты заговоришь через пару месяцев!
- Очень надеюсь, что через пару месяцев меня здесь уже не будет! Мне бы только самолет отремонтировать…
Самолёт был единственным, что волновало его всё время пребывания здесь. Он не бросал надежды починить его и вернуться домой, но до сих пор не добился результатов.
«Ага, явился всё-таки. Не зря сегодня опять спину защемило – так и знал, что к несчастью!» - подумал Мага, но вслух произнёс нечто иное, растягивая при этом каждое слово.
- Ну здравствуй, Джейсон. Что привело тебя ко мне?
- Привет, привет. Можешь не притворяться, я знаю, что ты мне не рад. Тем более, что сегодня всем вам, вроде, полагается быть хмурыми и уставшими. Кстати, я поэтому и пришёл.
- Неужели? – голос продавца стал слегка ехидным. – Не похоже, чтобы тебе требовалось покупать настроение – ты и так ходишь, как в воду опущенный.
- Я не покупать пришёл, а наоборот. Ты как-то говорил, что не только продаёшь, но и покупаешь эмоции.
- Да, покупаю – голос Маги сделался деловым. – А что ты можешь мне предложить?
- Меня утомило постоянное уныние. Я хочу от него избавиться.
- Хм... В таком случае, почему бы тебе не купить что-нибудь? – он обвёл рукой штабеля разноцветных склянок.
- Мне деньги нужны – это, во-первых. А во-вторых, я не хочу подвергаться воздействию этих ваших фокусов с настроением. Я хочу продать тебе часть своей тоски.
- Ладно, но тебе придётся подождать до вечера.
- Хорошо, я посижу здесь, если ты не против.
- Сядь в соседней комнате, там, за шторкой, а то клиентов мне распугаешь.
Джейсон прошёл в гостиную, соединённую с кухней, сел на табурет у дверного проёма и стал разглядывать сквозь приоткрытую зелёную шторку магазин и оставшихся покупателей. Один из них метался от стеллажа к стеллажу, оглядываясь, и тщетно пытаясь что-то найти. Наконец, он подбежал к прилавку и торопливо заговорил с Магой.
- П-простите, мне нужна т-тоска.
- Хорошо, выбирайте.
- П-простите, мне нужна такая т-тоска, которая приходит обычно тёплыми летними вечерами, когда вспоминаешь прошлое или думаешь о любимом человеке, п-понимаете?
- А-а-а, понимаю, летняя тоска! Жаль, у меня она закончилась.
- Как?! Но мне она очень, очень нужна!
- Я прекрасно вас понимаю и мне правда очень жаль, но...
- Может на складе баночка завалялась? – жалобно допытывался человек – Прошу вас, мистер, я готов заплатить вдвое дороже, даже втрое, если нужно!
- Н-да?.. Ну что ж, пожалуй, я посмотрю в запасах.
Мага направился в комнату к Джейсону, где три четверти пола занимали коробки. Придвинул к себе одну из них и начал перебирать оранжевые бутылочки. Джейсон заглянул ему через плечо. Продавец копался в коробке с одинаковыми флаконами оранжевого цвета, которые были подписаны все, как один: "Летняя тоска". После нескольких минут этих увлекательных поисков Мага выпрямился и понёс флакон покупателю.
- Вам повезло, с трудом отыскал одну.
- Ура!!! Большое вам спасибо! Вы самый лучший продавец в городе! Итак, сколько я вам должен?
- Ну, входя в ваше положение и из уважения к вам, я возьму с вас только двойную цену.
- О! Без проблем, вы меня просто спасли! Вот, возьмите.
- Благодарю вас. С вами исключительно приятно иметь дело, – и Мага элегантно приподнял шляпу в знак прощания.
Дверь вдруг с грохотом распахнулась и в помещение вбежал подросток.
- Быстро, старик, спрячь меня!
Мага схватил паренька за шиворот и швырнул за шторку. Очутившись в комнате, мальчишка сначала долго переводил дух, а потом заметил Джейсона. Тот тоже оглядел посетителя: мятая чёрная майка с черепом, перепачканные пылью джинсы и растрёпанные рыжие, как языки пламени, волосы.
- Ты новенький?
- Да.
- Что ты тут забыл?
- По делу пришёл. А ты, кстати, сам кто такой и почему так разговариваешь со старшими?
- Во-первых, я друг Маги. А во-вторых, - он ухмыльнулся - ты докажи сперва, что ты старше.
Тут он вытянулся, майка и джинсы превратились в белую рубашку, тёмно-синие жилет и брюки, а волосы окрасились из рыжих в голубые. Теперь перед Джеймсом стоял элегантный молодой человек из слоёв аристократии. Он благосклонно улыбался.
- Ну как тебе?
- Ловкий фокус! – согласился Джейсон, не веря своим глазам.
- А так? – И аристократ превратился в старика с длинной бородой.
- Так, ладно, хватит! Я понял, ты можешь быть любого возраста. А зовут-то тебя как?
- Сейр!
И старик снова превратился в подростка.
- Что за чёрт дёрнул тебя шляться по улицам в своём настоящем облике, а тем более заходить ко мне?! – в комнате появился злой Мага – Из-за твоей неосторожности, мне пришлось заговаривать зубы полицейскому и продать ему несколько редких эмоций с немалой скидкой!
- Ну извини, старик, я, честное слово, был осторожен! Он стоял в переулке, я и рванул от него к тебе.
- Ладно, раз уж ты всё равно здесь, говори, как там поживает наш КОТик?
- Клиффорд Оливер Тик собирается через два с половиной месяца отмечать свой день рождения и в честь этого планируется грандиозный праздник.
- Ах вот оно как! Ну, и что с того?
- А то! Можно устроить нашему усатику подарочек с запахом, родным таким, знакомым, домашним.
- Неплохая идея, только ты забыл одну важную вещь: где я тебе возьму такой «подарочек»? Его невозможно взять ни у кого, понимаешь? Просто невозможно.
Джейсон не понимал, о чём они говорят, но решил не расспрашивать. Он вышел в основное помещение магазина и бродил меж цветными склянками, пока не появился Мага и не позвал его.
- Ты говорил, что хочешь продать мне настроение. Можем приступать.
- Отлично, что мне делать?
- Садись на табурет и сиди неподвижно.
После этого Мага взял пустую бутылочку, приготовил пробку, и встал напротив Джейсона.
- Ну начнём.
В этот же момент от Джейсона потянулся голубоватый туман. Лётчик застыл в изумлении, он чувствовал, как это исходит от него, от его головы, от его груди, от его сердца. Наконец всё закончилось и флакон приобрёл небесно-голубой оттенок. Мага закупорил его крышкой, поднёс к глазам и, вскрикнув, отшатнулся, чуть не уронив, и едва не упав сам.
- Что случилось? – подскочил к нему лётчик.
- Ничего – отозвался продавец, тяжело дыша – ничего. Просто ревматизм замучил. Бери деньги и проваливай!
Он протянул Джеймсу несколько купюр и вытолкал за дверь.
Вернувшись в комнату, Мага взял одну из бирок и приклеил к флакону. Медленно на бумаге проступила надпись: «Тоска по дому». В это время лётчик прогуливался по пустынной мостовой, погружённый в рассуждения. «Как же так? Почти месяц я здесь и до сих пор ничего не понимаю! Может я сплю? Почему я не могу починить самолёт? Я же знаю там каждый винтик, так какого чёрта!? Просто это место не отпускает меня. Попасть сюда можно, а сбежать нет. Я ведь расспрашивал жителей, никто из них не видел других стран и городов, потому что они никогда не выходят за пределы города. Не могут выйти. Да и не хотят! Это все происки КОТа. Всё же, кто он такой: мудрый руководитель или никчёмный обманщик? Что в нём такого особенного? Почему ему подчиняются? Он притворяется важным и значительным, но он – настоящий лицемер. Все они здесь – лицемеры! КОТ, Мага, который скрывает свою внешность под рясой и маской. И тот мальчишка, знакомый Маги, тоже примеряет чужие обличия, как одежду! И сколько в этом городе подобных людей? Даже простые жители только и делают, что лицемерят, испытывая ненастоящие чувства по заказу! Но почему я вдруг оказался в этом городе лицемеров? По несчастной случайности или по какой-то причине, которую я пока ещё не могу осознать? И, главное, как мне вернуться домой?»
Мага с торжеством разглядывал флакон, полученный от Джейсона.
- А ведь недостающий элемент был прямо под носом! Теперь, когда я вспомнил это чувство, готовьтесь, Клиффорд, вас ждёт чудесный подарок!
- Внимание! Внимание! – доносилось из репродукторов – Синоптики решили, что сегодня будет очень грустный и скучный день. КОТ одобрил оное решение и велел привести в исполнение. Все, кто не имеет сегодня необходимого настроения, должны позаботиться о том, как приобрести его. Внимание! Внимание!
Мага одевается, не забывая про белую угловатую маску с узкими прорезями, поправляет шляпу перед зеркалом и спускается вниз по лестнице.
У витрины уже толпятся люди. Они заглядывают в окна, стучат и переговариваются между собой. «Почему их так много? Я что, остался одним единственным продавцом в городе? Точно! Вчера ведь был праздник, и все веселились до упаду, а по утру ринулись за настроением. Ну и чудно, можно не спешить.» Нарочно медленно, он с особой дотошностью обошёл весь магазин, шелестя по полу краями своей чёрной рясы, подровнял каждую баночку, потом встал за прилавок, ещё раз поправил шляпу, и нажал на треугольную кнопку на стене. Стеллаж, вмонтированный в стену, дёрнулся и начал двигаться. Вместо склянок с надписями: «Радость», «Восторженность», «Дружелюбие» на полках появились «Грусть», «Депрессия», «Тоска» и так далее. После всех этих манипуляций Мага отпер дверь и магазин мигом наполнился покупателями.
До полудня он продавал плохое настроение горожанам, но ещё через час покупателей заметно поубавилось. Вдруг вошёл ещё один человек. Это был хорошо сложенный мужчина в кожаной куртке с аккуратно уложенными чёрными волосами. Оглядевшись, он направился к прилавку. Это был Джейсон - лётчик, потерпевший крушение недалеко от города три недели назад. Будучи новеньким в городе, он никак не мог вписаться в общество. Всё вокруг казалось ему странным, неправильным.
Однако в какой-то момент Мага с удивлением обнаружил, что так или иначе общается с лётчиком. Джейсон заходил к нему, и хоть никогда ничего не покупал, расспрашивал Магу о разных тонкостях жизни в городе, но даже после объяснений всё равно ничего не мог понять. К примеру, как работает система прогнозов, определяющих не столько погоду, сколько то, как люди проживут этот день: радуясь или плача, работая или отдыхая. Не понимал он и того, как можно заключить эмоцию в стеклянную бутылку и продать любому желающему.
- Ерунда! – восклицал он, бывало, слушая очередной рассказ – Так не бывает и быть не может!
- Да? Посмотрим, как ты заговоришь через пару месяцев!
- Очень надеюсь, что через пару месяцев меня здесь уже не будет! Мне бы только самолет отремонтировать…
Самолёт был единственным, что волновало его всё время пребывания здесь. Он не бросал надежды починить его и вернуться домой, но до сих пор не добился результатов.
«Ага, явился всё-таки. Не зря сегодня опять спину защемило – так и знал, что к несчастью!» - подумал Мага, но вслух произнёс нечто иное, растягивая при этом каждое слово.
- Ну здравствуй, Джейсон. Что привело тебя ко мне?
- Привет, привет. Можешь не притворяться, я знаю, что ты мне не рад. Тем более, что сегодня всем вам, вроде, полагается быть хмурыми и уставшими. Кстати, я поэтому и пришёл.
- Неужели? – голос продавца стал слегка ехидным. – Не похоже, чтобы тебе требовалось покупать настроение – ты и так ходишь, как в воду опущенный.
- Я не покупать пришёл, а наоборот. Ты как-то говорил, что не только продаёшь, но и покупаешь эмоции.
- Да, покупаю – голос Маги сделался деловым. – А что ты можешь мне предложить?
- Меня утомило постоянное уныние. Я хочу от него избавиться.
- Хм... В таком случае, почему бы тебе не купить что-нибудь? – он обвёл рукой штабеля разноцветных склянок.
- Мне деньги нужны – это, во-первых. А во-вторых, я не хочу подвергаться воздействию этих ваших фокусов с настроением. Я хочу продать тебе часть своей тоски.
- Ладно, но тебе придётся подождать до вечера.
- Хорошо, я посижу здесь, если ты не против.
- Сядь в соседней комнате, там, за шторкой, а то клиентов мне распугаешь.
Джейсон прошёл в гостиную, соединённую с кухней, сел на табурет у дверного проёма и стал разглядывать сквозь приоткрытую зелёную шторку магазин и оставшихся покупателей. Один из них метался от стеллажа к стеллажу, оглядываясь, и тщетно пытаясь что-то найти. Наконец, он подбежал к прилавку и торопливо заговорил с Магой.
- П-простите, мне нужна т-тоска.
- Хорошо, выбирайте.
- П-простите, мне нужна такая т-тоска, которая приходит обычно тёплыми летними вечерами, когда вспоминаешь прошлое или думаешь о любимом человеке, п-понимаете?
- А-а-а, понимаю, летняя тоска! Жаль, у меня она закончилась.
- Как?! Но мне она очень, очень нужна!
- Я прекрасно вас понимаю и мне правда очень жаль, но...
- Может на складе баночка завалялась? – жалобно допытывался человек – Прошу вас, мистер, я готов заплатить вдвое дороже, даже втрое, если нужно!
- Н-да?.. Ну что ж, пожалуй, я посмотрю в запасах.
Мага направился в комнату к Джейсону, где три четверти пола занимали коробки. Придвинул к себе одну из них и начал перебирать оранжевые бутылочки. Джейсон заглянул ему через плечо. Продавец копался в коробке с одинаковыми флаконами оранжевого цвета, которые были подписаны все, как один: "Летняя тоска". После нескольких минут этих увлекательных поисков Мага выпрямился и понёс флакон покупателю.
- Вам повезло, с трудом отыскал одну.
- Ура!!! Большое вам спасибо! Вы самый лучший продавец в городе! Итак, сколько я вам должен?
- Ну, входя в ваше положение и из уважения к вам, я возьму с вас только двойную цену.
- О! Без проблем, вы меня просто спасли! Вот, возьмите.
- Благодарю вас. С вами исключительно приятно иметь дело, – и Мага элегантно приподнял шляпу в знак прощания.
Дверь вдруг с грохотом распахнулась и в помещение вбежал подросток.
- Быстро, старик, спрячь меня!
Мага схватил паренька за шиворот и швырнул за шторку. Очутившись в комнате, мальчишка сначала долго переводил дух, а потом заметил Джейсона. Тот тоже оглядел посетителя: мятая чёрная майка с черепом, перепачканные пылью джинсы и растрёпанные рыжие, как языки пламени, волосы.
- Ты новенький?
- Да.
- Что ты тут забыл?
- По делу пришёл. А ты, кстати, сам кто такой и почему так разговариваешь со старшими?
- Во-первых, я друг Маги. А во-вторых, - он ухмыльнулся - ты докажи сперва, что ты старше.
Тут он вытянулся, майка и джинсы превратились в белую рубашку, тёмно-синие жилет и брюки, а волосы окрасились из рыжих в голубые. Теперь перед Джеймсом стоял элегантный молодой человек из слоёв аристократии. Он благосклонно улыбался.
- Ну как тебе?
- Ловкий фокус! – согласился Джейсон, не веря своим глазам.
- А так? – И аристократ превратился в старика с длинной бородой.
- Так, ладно, хватит! Я понял, ты можешь быть любого возраста. А зовут-то тебя как?
- Сейр!
И старик снова превратился в подростка.
- Что за чёрт дёрнул тебя шляться по улицам в своём настоящем облике, а тем более заходить ко мне?! – в комнате появился злой Мага – Из-за твоей неосторожности, мне пришлось заговаривать зубы полицейскому и продать ему несколько редких эмоций с немалой скидкой!
- Ну извини, старик, я, честное слово, был осторожен! Он стоял в переулке, я и рванул от него к тебе.
- Ладно, раз уж ты всё равно здесь, говори, как там поживает наш КОТик?
- Клиффорд Оливер Тик собирается через два с половиной месяца отмечать свой день рождения и в честь этого планируется грандиозный праздник.
- Ах вот оно как! Ну, и что с того?
- А то! Можно устроить нашему усатику подарочек с запахом, родным таким, знакомым, домашним.
- Неплохая идея, только ты забыл одну важную вещь: где я тебе возьму такой «подарочек»? Его невозможно взять ни у кого, понимаешь? Просто невозможно.
Джейсон не понимал, о чём они говорят, но решил не расспрашивать. Он вышел в основное помещение магазина и бродил меж цветными склянками, пока не появился Мага и не позвал его.
- Ты говорил, что хочешь продать мне настроение. Можем приступать.
- Отлично, что мне делать?
- Садись на табурет и сиди неподвижно.
После этого Мага взял пустую бутылочку, приготовил пробку, и встал напротив Джейсона.
- Ну начнём.
В этот же момент от Джейсона потянулся голубоватый туман. Лётчик застыл в изумлении, он чувствовал, как это исходит от него, от его головы, от его груди, от его сердца. Наконец всё закончилось и флакон приобрёл небесно-голубой оттенок. Мага закупорил его крышкой, поднёс к глазам и, вскрикнув, отшатнулся, чуть не уронив, и едва не упав сам.
- Что случилось? – подскочил к нему лётчик.
- Ничего – отозвался продавец, тяжело дыша – ничего. Просто ревматизм замучил. Бери деньги и проваливай!
Он протянул Джеймсу несколько купюр и вытолкал за дверь.
Вернувшись в комнату, Мага взял одну из бирок и приклеил к флакону. Медленно на бумаге проступила надпись: «Тоска по дому». В это время лётчик прогуливался по пустынной мостовой, погружённый в рассуждения. «Как же так? Почти месяц я здесь и до сих пор ничего не понимаю! Может я сплю? Почему я не могу починить самолёт? Я же знаю там каждый винтик, так какого чёрта!? Просто это место не отпускает меня. Попасть сюда можно, а сбежать нет. Я ведь расспрашивал жителей, никто из них не видел других стран и городов, потому что они никогда не выходят за пределы города. Не могут выйти. Да и не хотят! Это все происки КОТа. Всё же, кто он такой: мудрый руководитель или никчёмный обманщик? Что в нём такого особенного? Почему ему подчиняются? Он притворяется важным и значительным, но он – настоящий лицемер. Все они здесь – лицемеры! КОТ, Мага, который скрывает свою внешность под рясой и маской. И тот мальчишка, знакомый Маги, тоже примеряет чужие обличия, как одежду! И сколько в этом городе подобных людей? Даже простые жители только и делают, что лицемерят, испытывая ненастоящие чувства по заказу! Но почему я вдруг оказался в этом городе лицемеров? По несчастной случайности или по какой-то причине, которую я пока ещё не могу осознать? И, главное, как мне вернуться домой?»
Мага с торжеством разглядывал флакон, полученный от Джейсона.
- А ведь недостающий элемент был прямо под носом! Теперь, когда я вспомнил это чувство, готовьтесь, Клиффорд, вас ждёт чудесный подарок!
Селезнева Алиса. Психолог без образования
Кинотеатр. Что может быть лучше, чем посмотреть интересный фильм, отвлечься от повседневных дел!
Кинотеатры бывают разные. Одни современные, с красивым кинозалом, большим экраном и новым оборудованием в мегаполисах. Другие - старые, неприглядные, доживающие век в небольших городках. Это даже не кинотеатры, а скорее место для встреч. Там нет попкорна, терминала с напитками, а в коридоре горит только одна лампочка, и та часто перегорает.
Руководят обычно таким кинотеатром женщины. В их руках, так сказать, сосредоточена вся власть. Именно о таком кинотеатре и его «кариатиде» и пойдет речь.
Баба Глаша. Народ постепенно подходит ко времени сеанса. Возле окошка, где продают билеты, образовалась небольшая очередь. Но баба Глаша справилась с ней быстро. Надо сказать, что баба Глаша - это как раз та женщина, которая и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Всю свою жизнь посвятила работе. Обязанностей у нее много. Она и уборщица, и охранник, и билетер, да и в электрике немного понимает. В общем, мастер на все руки.
После того как посетители купили билеты, они ожидают в коридоре, пока баба Глаша подойдет к столу возле гардероба, чтобы принять от них вещи. Таким образом, все гости проходят, своего рода, конвейер в несколько уровней. Но никто особо не возмущается такой процедурой, так как все знали бабы Глашины порядки. Фильм начинают смотреть с 30-40 минутным опозданием. Но при этом все приходят вовремя, так как если она закроет входную дверь, то никого больше не пустит. И даже директор не может повлиять на ее решение. Она всегда говорит, что везде должен быть порядок, и в кинотеатре тоже. Тогда и в стране будет порядок. В общем, баба Глаша - восхитительный хозяйственник вверенного ей участка!
- Когда меня не будет, - говорит она, - тогда и делайте что хотите.
При этом она очень добрый человек. Особенно радуется, когда приходит много детей. Своих у нее нет. Поэтому всю свою нерастраченную любовь отдает чужим. Вместе с билетом каждому ребенку выдает по одной конфете. Дети с удовольствием приходят сюда. Такой вот маркетинговый ход по привлечению клиентов от бабы Глаши. Только она делает это от чистого сердца.
Ну вот, гости прошли в кинозал. Баба Глаша перекрестила экран, проектор, всех сидящих и закрыла дверь.
- Опять натоптали! - ворчливо сказала она и пошла за шваброй.
После уборки, как всегда, села за свой любимый стол возле гардероба, взяла книгу и стала читать. При этом она всегда внимательно слушала, что происходит за дверью в кинозале. И если кто-то себя плохо вел, могла запросто зайти в зал, включить свет и громогласно заявить:
- Все, сеанс окончен! Вася (киномеханик), выключай!
А дальше баба Глаша переходила к угрозам:
- Еще раз и в глаз! Последнее предупреждение!
Все начинали смеяться, но тут же замолкали. Удовлетворенная своим умением управлять массами она, с улыбкой на лице, закрывала дверь. Сеанс продолжался.
Она читала книгу, как вдруг в гардеробе погас свет. Убедившись, что фильм продолжается, баба Глаша взяла фонарик и пошла в подсобку, где был электрический щиток. Забормотала вполголоса:
- Говорила же директору, что эти электрики - халтурщики. Ремонт сделали, а проводку не поменяли. Эх, была бы моя воля, я бы им устроила!
А в это время в гардеробной…
- Ау! Есть кто говорящий? Ау! Ну вот, опять никого. Не с кем поговорить. Да что же это такое! В автобусе нет никого, в школе нет и здесь никого. Одна я здесь, что ли? – спросила с грустью белая толстовка в седьмом ряду.
- Нет, не одна, – с неохотой ответил коричневый свитер, который висел неподалеку.
- Ой, ну наконец-то я нашла собеседника. Я так рада! А то вокруг одни молчуны. Хоть побеседуем вдвоем.
- Почему же вдвоем? – энергично отозвался пиджак с восьмого ряда.
- Ой, и вы говорящий! Как хорошо! Я так рада! – бурно радовалась толстовка.
-Да, да, все рады, только не кричи так громко, – нервно сказал свитер. – Дай хоть здесь отдохнуть.
- Ладно-ладно, - согласилась толстовка. Давайте знакомиться. Я белая, пушистая, легкая, хоть и не фирменная, но вполне себе такая!
- А я пиджак мужской, 50 размера, – четко, без запинки отрапортовал пиджак.
- Ну а я свитер… обычный, вязаный, ничего выдающегося... Зато очень теплый.
- А давайте посплетничаем о хозяевах? – предлагает толстовка.- Кто у нас там в пиджаке ходит?
- Да что рассказывать-то? Хозяин мой большой начальник. Дом, работа, дом… Хоть бы в отпуск съездил. Я и мира толком не видел. Либо в кабинете у него в шкафу, либо дома – опять в шкафу. В кино вот впервые выбрались…
- А у меня всё наоборот! – Воскликнула толстовка. – Моя восьмиклассница то в школу, то на хор. Сейчас еще в бассейн записалась. Таскает меня туда-сюда. То на автобусе, то в метро. Надоело уже. Ну а ты что скажешь, уважаемый свитер?
- Что я могу сказать? Хозяин мой - строитель. Дома строит с самого утра до позднего вечера, то порвет где, то пятно посадит. Да еще и курит – чувствуете, как пахну?
- Понятно. Слушайте, а у меня идея. А что если нам поменяться местами? Ведь прикольно же будет! – Предложила толстовка. - Я, например, с удовольствием побывала бы на стройке, да и табачный дым меня нисколько не смущает. У нас в школе некоторые старшеклассники курят, поэтому я привычная.
- Ну а что, неплохая идея, – согласился пиджак. - Я давно хотел побывать в школе. Посмотреть, чем сейчас живет молодежь. На тренировке побывал бы, на общественном транспорте прокатился. Я, если хотите знать, и в автобусе-то ни разу не был.
- Ну все, отлично – говорит толстовка, - А ты как, свитер?
- Ой, мне вообще все равно. Мне бы в тепло, отдохнуть, поспать…
- Тогда тебе к моему хозяину, - констатировал пиджак. - У него все, как ты любишь: только дом, машина, работа. Скукота! Только как бы нам все это осуществить?
- Я могу помочь! - вдруг раздался голос бабы Глаши.
- Как? Вы нас слышите, что ли? - удивилась толстовка.
- Как же вас не услышать, если вы кричите на весь гардероб.
- Но вы же человек, вы не можете нас слышать!
- Могу, еще как могу. Уж за 20 лет работы здесь я всему научилась, – с улыбкой отвечает баба Глаша. - Только вот, что я вам скажу. От того, что вы поменяетесь, ничего не измениться. Через некоторое время вы опять будете недовольны. Я вам предлагаю вообще убежать от них и жить свободно. Попасть на какой-нибудь склад, где будет много говорящих вещей, и жить себе припеваючи!
-Точно! – воскликнули вещи. - Только вот как нам это провернуть?
- Я вам помогу, но прежде расскажу одну историю.
- Хорошо, договорились. Мы вас с удовольствием слушаем.
И баба Глаша начала:
- Когда мне было 6 лет, я жила в Ленинграде. В это время город был в блокаде. Ой, вы же не знаете, что это такое.
- Знаем. Нам про это на истории рассказывали, правда моя Ленка тогда с подружкой болтала, и я толком ничего не расслышала, – вставила толстовка.
- Ну, это когда немцы окружили город со всех сторон и бомбили дома. Люди умирали от холода и голода. Отец ушел на фронт. Жили мы с мамой одни в пятиэтажном доме, остальных жителей эвакуировали. Мама работала на заводе, поэтому нас обещали эвакуировать позже. Целый день ее не было, приходила поздно вечером, приносила кусочек хлеба. Этим и питались. Чтобы не замерзнуть, мы жгли наши вещи. Так и сожгли почти все. Остался стол, стул и наша одежда. Пока мама была на работе, я сидела дома и играла с куклой, сделанной из рукава моей кофты. Так и проходило мое время. А однажды мама не вернулась…Скорее всего, она погибла во время бомбежки. Так я осталась в квартире одна. Ела сухари, припрятанные на «черный» день. Чтобы не замерзнуть, я сожгла стол и стул. Их хватило на пару дней. Сухарей у меня еще оставалось немного, а вот дров не было совсем. Вечером я поняла, что замерзаю. И вдруг услышала:
- Сожги меня!
Я подумала, что от холода схожу с ума.
- Сожги меня, и ты согреешься. Это я - твоя кофта.
У меня волосы встали дыбом. Со мной разговаривала кофта. Это было невероятно.
- Сожги, не жалей меня, ты согреешься, все будет хорошо, – уговаривала меня она.
Я сняла ее с себя, взяла спички. Зажгла одну, поднесла к кофте и со слезами на глазах сказала:
- Прости меня!
Загорающаяся кофта ответила:
- Не плачь, успокойся, все будет хорошо, я тебе обещаю.
Я согрелась и уснула. А утром меня забрали в детский дом. Так, благодаря своей кофте я выжила. Она спасла меня. С тех пор я слышу разговоры вещей. Но не всех, а только хороших, готовых пожертвовать собой ради своего хозяина. Так что, если я вас слышу, значит, вы и есть те самые вещи.
- Ты права. Мы должны думать не только о себе, – сказала растроганная толстовка.
- Точно! Я нужен своему хозяину. Я должен греть его и оберегать, без меня он просто пропадет, – добавил свитер.
- Не такой уж он и скучный. О моем месте можно только мечтать. Я никому не отдам своего хозяина! – громко воскликнул пиджак.
В этот момент распахнулись двери кинозала, и зрители стали забирать свои вещи. И наши герои окутали собой плечи своих хозяев.
Раздав все вещи, баба Глаша, с чувством выполненного долга, достала журнал из ящика и стала заполнять таблицу:
- 1124 – белая толстовка, с небольшим пятном на плече. 1125 – свитер с горлом, теплый, коричневого цвета из шерстяных ниток. 1126 – пиджак мужской с серым воротником 50 размера. Да, говорили мне: иди на психолога учиться. А зачем? Я и так уже 20 лет им работаю. Только психологом для вещей. А это, на минуточку, намного сложнее – подумала баба Глаша и улыбнулась. А Вы знаете, что Ваши вещи думают о Вас?
Кинотеатр. Что может быть лучше, чем посмотреть интересный фильм, отвлечься от повседневных дел!
Кинотеатры бывают разные. Одни современные, с красивым кинозалом, большим экраном и новым оборудованием в мегаполисах. Другие - старые, неприглядные, доживающие век в небольших городках. Это даже не кинотеатры, а скорее место для встреч. Там нет попкорна, терминала с напитками, а в коридоре горит только одна лампочка, и та часто перегорает.
Руководят обычно таким кинотеатром женщины. В их руках, так сказать, сосредоточена вся власть. Именно о таком кинотеатре и его «кариатиде» и пойдет речь.
Баба Глаша. Народ постепенно подходит ко времени сеанса. Возле окошка, где продают билеты, образовалась небольшая очередь. Но баба Глаша справилась с ней быстро. Надо сказать, что баба Глаша - это как раз та женщина, которая и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Всю свою жизнь посвятила работе. Обязанностей у нее много. Она и уборщица, и охранник, и билетер, да и в электрике немного понимает. В общем, мастер на все руки.
После того как посетители купили билеты, они ожидают в коридоре, пока баба Глаша подойдет к столу возле гардероба, чтобы принять от них вещи. Таким образом, все гости проходят, своего рода, конвейер в несколько уровней. Но никто особо не возмущается такой процедурой, так как все знали бабы Глашины порядки. Фильм начинают смотреть с 30-40 минутным опозданием. Но при этом все приходят вовремя, так как если она закроет входную дверь, то никого больше не пустит. И даже директор не может повлиять на ее решение. Она всегда говорит, что везде должен быть порядок, и в кинотеатре тоже. Тогда и в стране будет порядок. В общем, баба Глаша - восхитительный хозяйственник вверенного ей участка!
- Когда меня не будет, - говорит она, - тогда и делайте что хотите.
При этом она очень добрый человек. Особенно радуется, когда приходит много детей. Своих у нее нет. Поэтому всю свою нерастраченную любовь отдает чужим. Вместе с билетом каждому ребенку выдает по одной конфете. Дети с удовольствием приходят сюда. Такой вот маркетинговый ход по привлечению клиентов от бабы Глаши. Только она делает это от чистого сердца.
Ну вот, гости прошли в кинозал. Баба Глаша перекрестила экран, проектор, всех сидящих и закрыла дверь.
- Опять натоптали! - ворчливо сказала она и пошла за шваброй.
После уборки, как всегда, села за свой любимый стол возле гардероба, взяла книгу и стала читать. При этом она всегда внимательно слушала, что происходит за дверью в кинозале. И если кто-то себя плохо вел, могла запросто зайти в зал, включить свет и громогласно заявить:
- Все, сеанс окончен! Вася (киномеханик), выключай!
А дальше баба Глаша переходила к угрозам:
- Еще раз и в глаз! Последнее предупреждение!
Все начинали смеяться, но тут же замолкали. Удовлетворенная своим умением управлять массами она, с улыбкой на лице, закрывала дверь. Сеанс продолжался.
Она читала книгу, как вдруг в гардеробе погас свет. Убедившись, что фильм продолжается, баба Глаша взяла фонарик и пошла в подсобку, где был электрический щиток. Забормотала вполголоса:
- Говорила же директору, что эти электрики - халтурщики. Ремонт сделали, а проводку не поменяли. Эх, была бы моя воля, я бы им устроила!
А в это время в гардеробной…
- Ау! Есть кто говорящий? Ау! Ну вот, опять никого. Не с кем поговорить. Да что же это такое! В автобусе нет никого, в школе нет и здесь никого. Одна я здесь, что ли? – спросила с грустью белая толстовка в седьмом ряду.
- Нет, не одна, – с неохотой ответил коричневый свитер, который висел неподалеку.
- Ой, ну наконец-то я нашла собеседника. Я так рада! А то вокруг одни молчуны. Хоть побеседуем вдвоем.
- Почему же вдвоем? – энергично отозвался пиджак с восьмого ряда.
- Ой, и вы говорящий! Как хорошо! Я так рада! – бурно радовалась толстовка.
-Да, да, все рады, только не кричи так громко, – нервно сказал свитер. – Дай хоть здесь отдохнуть.
- Ладно-ладно, - согласилась толстовка. Давайте знакомиться. Я белая, пушистая, легкая, хоть и не фирменная, но вполне себе такая!
- А я пиджак мужской, 50 размера, – четко, без запинки отрапортовал пиджак.
- Ну а я свитер… обычный, вязаный, ничего выдающегося... Зато очень теплый.
- А давайте посплетничаем о хозяевах? – предлагает толстовка.- Кто у нас там в пиджаке ходит?
- Да что рассказывать-то? Хозяин мой большой начальник. Дом, работа, дом… Хоть бы в отпуск съездил. Я и мира толком не видел. Либо в кабинете у него в шкафу, либо дома – опять в шкафу. В кино вот впервые выбрались…
- А у меня всё наоборот! – Воскликнула толстовка. – Моя восьмиклассница то в школу, то на хор. Сейчас еще в бассейн записалась. Таскает меня туда-сюда. То на автобусе, то в метро. Надоело уже. Ну а ты что скажешь, уважаемый свитер?
- Что я могу сказать? Хозяин мой - строитель. Дома строит с самого утра до позднего вечера, то порвет где, то пятно посадит. Да еще и курит – чувствуете, как пахну?
- Понятно. Слушайте, а у меня идея. А что если нам поменяться местами? Ведь прикольно же будет! – Предложила толстовка. - Я, например, с удовольствием побывала бы на стройке, да и табачный дым меня нисколько не смущает. У нас в школе некоторые старшеклассники курят, поэтому я привычная.
- Ну а что, неплохая идея, – согласился пиджак. - Я давно хотел побывать в школе. Посмотреть, чем сейчас живет молодежь. На тренировке побывал бы, на общественном транспорте прокатился. Я, если хотите знать, и в автобусе-то ни разу не был.
- Ну все, отлично – говорит толстовка, - А ты как, свитер?
- Ой, мне вообще все равно. Мне бы в тепло, отдохнуть, поспать…
- Тогда тебе к моему хозяину, - констатировал пиджак. - У него все, как ты любишь: только дом, машина, работа. Скукота! Только как бы нам все это осуществить?
- Я могу помочь! - вдруг раздался голос бабы Глаши.
- Как? Вы нас слышите, что ли? - удивилась толстовка.
- Как же вас не услышать, если вы кричите на весь гардероб.
- Но вы же человек, вы не можете нас слышать!
- Могу, еще как могу. Уж за 20 лет работы здесь я всему научилась, – с улыбкой отвечает баба Глаша. - Только вот, что я вам скажу. От того, что вы поменяетесь, ничего не измениться. Через некоторое время вы опять будете недовольны. Я вам предлагаю вообще убежать от них и жить свободно. Попасть на какой-нибудь склад, где будет много говорящих вещей, и жить себе припеваючи!
-Точно! – воскликнули вещи. - Только вот как нам это провернуть?
- Я вам помогу, но прежде расскажу одну историю.
- Хорошо, договорились. Мы вас с удовольствием слушаем.
И баба Глаша начала:
- Когда мне было 6 лет, я жила в Ленинграде. В это время город был в блокаде. Ой, вы же не знаете, что это такое.
- Знаем. Нам про это на истории рассказывали, правда моя Ленка тогда с подружкой болтала, и я толком ничего не расслышала, – вставила толстовка.
- Ну, это когда немцы окружили город со всех сторон и бомбили дома. Люди умирали от холода и голода. Отец ушел на фронт. Жили мы с мамой одни в пятиэтажном доме, остальных жителей эвакуировали. Мама работала на заводе, поэтому нас обещали эвакуировать позже. Целый день ее не было, приходила поздно вечером, приносила кусочек хлеба. Этим и питались. Чтобы не замерзнуть, мы жгли наши вещи. Так и сожгли почти все. Остался стол, стул и наша одежда. Пока мама была на работе, я сидела дома и играла с куклой, сделанной из рукава моей кофты. Так и проходило мое время. А однажды мама не вернулась…Скорее всего, она погибла во время бомбежки. Так я осталась в квартире одна. Ела сухари, припрятанные на «черный» день. Чтобы не замерзнуть, я сожгла стол и стул. Их хватило на пару дней. Сухарей у меня еще оставалось немного, а вот дров не было совсем. Вечером я поняла, что замерзаю. И вдруг услышала:
- Сожги меня!
Я подумала, что от холода схожу с ума.
- Сожги меня, и ты согреешься. Это я - твоя кофта.
У меня волосы встали дыбом. Со мной разговаривала кофта. Это было невероятно.
- Сожги, не жалей меня, ты согреешься, все будет хорошо, – уговаривала меня она.
Я сняла ее с себя, взяла спички. Зажгла одну, поднесла к кофте и со слезами на глазах сказала:
- Прости меня!
Загорающаяся кофта ответила:
- Не плачь, успокойся, все будет хорошо, я тебе обещаю.
Я согрелась и уснула. А утром меня забрали в детский дом. Так, благодаря своей кофте я выжила. Она спасла меня. С тех пор я слышу разговоры вещей. Но не всех, а только хороших, готовых пожертвовать собой ради своего хозяина. Так что, если я вас слышу, значит, вы и есть те самые вещи.
- Ты права. Мы должны думать не только о себе, – сказала растроганная толстовка.
- Точно! Я нужен своему хозяину. Я должен греть его и оберегать, без меня он просто пропадет, – добавил свитер.
- Не такой уж он и скучный. О моем месте можно только мечтать. Я никому не отдам своего хозяина! – громко воскликнул пиджак.
В этот момент распахнулись двери кинозала, и зрители стали забирать свои вещи. И наши герои окутали собой плечи своих хозяев.
Раздав все вещи, баба Глаша, с чувством выполненного долга, достала журнал из ящика и стала заполнять таблицу:
- 1124 – белая толстовка, с небольшим пятном на плече. 1125 – свитер с горлом, теплый, коричневого цвета из шерстяных ниток. 1126 – пиджак мужской с серым воротником 50 размера. Да, говорили мне: иди на психолога учиться. А зачем? Я и так уже 20 лет им работаю. Только психологом для вещей. А это, на минуточку, намного сложнее – подумала баба Глаша и улыбнулась. А Вы знаете, что Ваши вещи думают о Вас?
Белякова София. Цвет неба Афин
Древние греки не признавали синий цвет. Небо на картинах они изображали белым, а море – чёрным.
Солнце поднималось всё выше и с каждой минутой сильнее осветляло небо.
Небо… Оно завораживало Ксенофона с самого детства. Он мог часами смотреть вверх и гадать, какого же оно цвета.
Вот и сейчас юноша сидел на камнях неподалёку от Агоры и смотрел вдаль. Горизонт ровной линией разделял небо и море, все было наполнено цветом, сочным, насыщенным…
– Опять ты любуешься природой, – Ксенофон так задумался, что не заметил, как кто-то подошёл к нему и сел рядом. – Чем же тебя так привлекают эти виды?
То был его приятель, художник по имени Апеллес. Он был довольно выдающимся живописцем, и Ксенофон не мог понять, почему Апеллес не разделяет его восхищения.
– Этот вид… Он умиротворяет меня.
Но только ли в этом было дело? Парень сам писал картины и учился у Апеллеса. Он восхищался гением художника и вобрал от него много знаний, однако одна вещь никак не давала ему покоя…
– Мастер, вы говорили, что небо белое… Но это не так.
– Что ты говоришь? Уж не напекло ли тебе солнце голову, пока ты здесь сидел? – Апеллес озадаченно посмотрел на юношу.
Ксенофон немного помолчал, но потом всё же продолжил:
– Я не знаю, как описать это. Оно прозрачное, густое и… Точно не белое.
– Ты описываешь цвет траура. Хочешь сказать, что небо – то, что дарит людям утешение, место, где живут боги, – окрашено в цвет смерти? Я тебя знаю долго, Ксенофон, и желаю тебе только счастья. А потому оставь эти размышления. Как будущий художник и мой последователь, ты должен продолжить нашу славную традицию. Будешь мыслить в том же духе – и тебя сочтут сумасшедшим.
Ксенофон долго ничего не отвечал. Тяжелые вздохи вырывались из его груди, а взгляд судорожно бегал вдали.
– Я оставлю небо. Но море… Ведь если изобразить его чёрным на картине, где светит солнце…
– Тогда сделай его зелёным, – отрезал Апеллес, а затем встал и пошёл прочь.
Ксенофон не мог понять раздражения своего учителя. Если Апеллес желает ему великого будущего, не значит ли это, что он должен поддержать идеи ученика? Да, когда художники вносили изменения в устоявшийся строй, их принимали не сразу. Но потом перемены становились частью их жизни. Так чем отличаются мысли Ксенофона от идей других живописцев?
Сделай его зелёным… Эти слова вновь и вновь проносились в голове Ксенофона. «Но ведь море и не зелёное, – думал он. – Какого же оно тогда цвета?»
За спиной юноши проносились безликие толпы людей. Агора была самым оживлённым местом Афин. Каждый день здесь проходили сотни, если не тысячи жителей, каждый по своему делу. И ни один из них не останавливался, чтобы заметить чистое небо – может, белое, а может, и нет, – или море – чёрное или зелёное…
Если Ксенофон сейчас подойдёт к кому-нибудь из этой массы и спросит, какого цвета небо, что ему ответят? Хотя вряд ли хоть один человек остановится, чтобы выслушать его, парня в немного грязном и помятом хитоне. Все они слишком заняты для того, чтобы оглянуться.
С подобными мыслями Ксенофон сидел ещё какое-то время. Вскоре солнце начало уверенно катиться вниз. Исчез вопрос об оттенке неба, ведь сейчас оно налилось ярко-алым цветом. Тогда парень встал и пошёл творить.
***
Ксенофон знал, что небо не белое, и не собирался красить его в этот цвет. Искусство требовало правды, и юный художник твёрдо решил показать её народу.
Он смешивал все цвета, которые у него были. Десятки работ появлялись из-под его кисти. Днём Ксенофон сравнивал небо на картинах с настоящим, убеждался, что на правильном пути, и продолжал работать.
Однажды юноша достиг результата. Он не знал, сколько на это ему потребовалось времени. Ксенофон был настолько увлечён своей идеей, что потерял счёт дням. Но несмотря на всё это, он был счастлив. Когда художник смотрел на своё творение, он видел небо, то самое, которое разглядывал целыми днями.
Ксенофон решил: пора. Он собрал свои рисунки и со всех ног побежал к учителю.
***
Апеллес был не один. Гости сновали по зале, переходя от одной картины к другой. Здесь собрались самые высокопоставленные люди, чтобы восхищаться талантом художника.
– Мастер, мастер! – В спокойствие знати ворвался кто-то слишком растрёпанный, чтобы здесь его хотя бы приняли за человека. – Я обязан вам кое-что показать! – Взгляд юнца лихорадочно блестел, он был близок к победе… И не заметил, как люди начали перешёптываться, косо поглядывая в его сторону.
– Ксенофон, сейчас не самое подходящее время…
Апеллес выглядел растерянным. Он знал: сдержанность не была чертой характера его ученика. Художник годами наблюдал за Ксенофоном, был свидетелем подобных вспышек, которые другие люди назвали бы одержимостью. Это было не так. Апеллес знал много великих людей, за которыми тоже стояли подобные всплески эмоций. Даже Александра Македонского преследовал этот «недуг». Однако Апеллес понимал, как это выглядит в глазах других. Он боялся за своего воспитанника, но ничего не мог уже поделать.
– Нет, это невероятно важно! Вы сейчас всё сами поймёте. А если здесь люди… – Ксенофон сделал паузу и огляделся. Казалось, он впервые заметил, что кроме них с Апеллесом вокруг был ещё кто-то. – Так даже лучше!
Трясущимися пальцами Ксенофон одну за другой разворачивал свои работы и расставлял их у стены. Если картины Апеллеса в резных рамах на фоне мрамора выглядели величественно, то рисунки Ксенофона были по-детски наивными для этого места.
Таким же был и взгляд юноши, который так и кричал: «Учитель, смотрите! Я смог добиться правды! Теперь всё будет по-другому, люди увидят истинный цвет неба. Меня признают гением, как вас. Не зря вы меня учили все эти годы!»
Однако вместо слова «гениальный» по зале прокатилось «безумный». Апеллес смотрел на своего воспитанника бесконечно печальным взглядом, однако Ксенофон этого не замечал.
– Если вы мне не верите, давайте выйдем на улицу, и я вам всё покажу. Это правда цвет неба!
– Ксенофон… – Тихо, почти шёпотом начал Апеллес.
– Вы просто не привыкли к такому. Ничего страшного, я всё понимаю…
– Ксенофон, – более уверенно повторил наставник, – давай и вправду выйдем на улицу. Только ты и я.
Кто-то из гостей подозвал слугу и что-то прошептал на ухо. «У нас осталось не так много времени», – решил Апеллес. Он оглядел толпу и поспешил к выходу.
– Апеллес, куда же вы уходите? Александр Великий придёт с минуты на минуту…
«Этого я и опасаюсь», – подумал художник, а затем вышел во двор.
Ксенофон стоял, подняв одну из своих работ над головой, и внимательно разглядывал её. Остальные холсты были бесцеремонно сброшены на землю.
– Вот, вы видите это? Я…
– Ксенофон, не надо.
Апеллес со слезами на глазах смотрел на юношу. Ксенофон опешил от того, сколько чувств было в голосе его учителя, и замолк. Весь пыл, обуревавший его, исчез, будто того и не было.
– Но… Ведь это и впрямь цвет неба, – осторожно начал он. – Я говорил…
– Неважно, какого оно цвета. Задача художника не в том, чтобы изобразить его настоящий цвет, а в том, чтобы сделать его привычным для людей.
– Но ведь истина…
– Истина никому не важна. Если веками говорить человеку, что небо белое, он будет так думать, даже если это неправда.
Ксенофон задумался. Ведь если сказать, что его хитон чёрного цвета, он в таковой не превратится.
– И насколько бы верно ты не подобрал цвет неба, это никогда не будет иметь значение, – продолжал Апеллес. – Мне очень жаль такое говорить, но путь в Афины теперь навсегда закрыт для тебя, Ксенофон. Люди в моём доме – самые влиятельные во всей Греции. И они уже сочли тебя безумцем. Тебе нужно прямо сейчас бежать, иначе ты уже завтра будешь где-то в темницах. В этом внутреннем дворе никто не увидит твой побег. Уходи. Немедленно.
Ксенофон замер на несколько секунд, а потом понял, насколько всё серьёзно. Резким движением он наклонился и стал шарить руками по земле, собирая свои картины.
– Оставь их, я избавлюсь от твоих работ, – сказал его учитель. Ксенофону оставалось только кивнуть и навсегда исчезнуть из Афин.
***
Ксенофон совершенно не знал, куда ему податься. Оставаться в Греции было опасно, но других стран он и не видал. А потому юноша шёл куда глаза глядят и не задумывался о том, куда придёт. Он остался без всего. Картины, над которыми он трудился всю жизнь, остались далеко в столице. Ксенофон не успел взять с собой даже красок и шёл с пустыми руками.
Раньше он никогда не задумывался, почему его назвали именно Ксенофоном. Скорее всего, потому, что родители сами не придавали этому значение. Однако сейчас? У художника было много времени на размышления, и этот вопрос всё чаще всплывал у него в голове.
Его имя означало «говорящий на чужом языке». В этом было что-то ироничное. Ксенофон так и не смог доказать, что небо не белого цвета. Его взгляды были странны для всех, а слова воспринимали как чужестранные.
Бросить ли ему эту затею? Ясно, что успеха она ему не принесёт. Было ещё рано ставить крест на своём будущем, так почему бы не оставить живопись в покое? Он мог стать сапожником и не волновать ни свой ум, ни чужие. Но стоит ли сдаваться?
Однажды он куда-то дошёл. Ксенофон не знал, в какой город попал, но знал, что начинает новую жизнь.
***
Апеллес торопился на выставку. В Грецию приехал художник, чьи работы все называли идеалом. Заморская диковинка уже впечатлила греков, и Апеллес хотел знать, что же такого особенного в тех работах.
Его пригласили на вечер как лучшего художника Афин. Жители ждали, что же скажет об этих шедеврах мастер живописи.
Апеллес никогда не слышал об этом художнике. Ходили слухи, что он сам выбрал себе имя и творил под ним.
Когда он вошёл в залу и увидел развешанные в золотых рамах картины, он почувствовал что-то знакомое в стиле художника. Откуда он может знать эту манеру наносить мазки? А это небо…
Небо. Оно было далеко не белого цвета. Живописец изображал его любым, но только не белым. Будто он отрицал этот цвет.
Апеллес замер, его поразила одна мысль. «Где же этот художник? – подумал он. – Должен же быть где-то здесь».
А затем тот вышел. Самые влиятельные люди подходили к нему, чтобы выразить своё восхищение картинами. Никто не подозревал, что именно его годы назад хотели схватить за эти же идеи.
– Ксенофон… – Прошептал Апеллес.
Древние греки не признавали синий цвет. Небо на картинах они изображали белым, а море – чёрным.
Солнце поднималось всё выше и с каждой минутой сильнее осветляло небо.
Небо… Оно завораживало Ксенофона с самого детства. Он мог часами смотреть вверх и гадать, какого же оно цвета.
Вот и сейчас юноша сидел на камнях неподалёку от Агоры и смотрел вдаль. Горизонт ровной линией разделял небо и море, все было наполнено цветом, сочным, насыщенным…
– Опять ты любуешься природой, – Ксенофон так задумался, что не заметил, как кто-то подошёл к нему и сел рядом. – Чем же тебя так привлекают эти виды?
То был его приятель, художник по имени Апеллес. Он был довольно выдающимся живописцем, и Ксенофон не мог понять, почему Апеллес не разделяет его восхищения.
– Этот вид… Он умиротворяет меня.
Но только ли в этом было дело? Парень сам писал картины и учился у Апеллеса. Он восхищался гением художника и вобрал от него много знаний, однако одна вещь никак не давала ему покоя…
– Мастер, вы говорили, что небо белое… Но это не так.
– Что ты говоришь? Уж не напекло ли тебе солнце голову, пока ты здесь сидел? – Апеллес озадаченно посмотрел на юношу.
Ксенофон немного помолчал, но потом всё же продолжил:
– Я не знаю, как описать это. Оно прозрачное, густое и… Точно не белое.
– Ты описываешь цвет траура. Хочешь сказать, что небо – то, что дарит людям утешение, место, где живут боги, – окрашено в цвет смерти? Я тебя знаю долго, Ксенофон, и желаю тебе только счастья. А потому оставь эти размышления. Как будущий художник и мой последователь, ты должен продолжить нашу славную традицию. Будешь мыслить в том же духе – и тебя сочтут сумасшедшим.
Ксенофон долго ничего не отвечал. Тяжелые вздохи вырывались из его груди, а взгляд судорожно бегал вдали.
– Я оставлю небо. Но море… Ведь если изобразить его чёрным на картине, где светит солнце…
– Тогда сделай его зелёным, – отрезал Апеллес, а затем встал и пошёл прочь.
Ксенофон не мог понять раздражения своего учителя. Если Апеллес желает ему великого будущего, не значит ли это, что он должен поддержать идеи ученика? Да, когда художники вносили изменения в устоявшийся строй, их принимали не сразу. Но потом перемены становились частью их жизни. Так чем отличаются мысли Ксенофона от идей других живописцев?
Сделай его зелёным… Эти слова вновь и вновь проносились в голове Ксенофона. «Но ведь море и не зелёное, – думал он. – Какого же оно тогда цвета?»
За спиной юноши проносились безликие толпы людей. Агора была самым оживлённым местом Афин. Каждый день здесь проходили сотни, если не тысячи жителей, каждый по своему делу. И ни один из них не останавливался, чтобы заметить чистое небо – может, белое, а может, и нет, – или море – чёрное или зелёное…
Если Ксенофон сейчас подойдёт к кому-нибудь из этой массы и спросит, какого цвета небо, что ему ответят? Хотя вряд ли хоть один человек остановится, чтобы выслушать его, парня в немного грязном и помятом хитоне. Все они слишком заняты для того, чтобы оглянуться.
С подобными мыслями Ксенофон сидел ещё какое-то время. Вскоре солнце начало уверенно катиться вниз. Исчез вопрос об оттенке неба, ведь сейчас оно налилось ярко-алым цветом. Тогда парень встал и пошёл творить.
***
Ксенофон знал, что небо не белое, и не собирался красить его в этот цвет. Искусство требовало правды, и юный художник твёрдо решил показать её народу.
Он смешивал все цвета, которые у него были. Десятки работ появлялись из-под его кисти. Днём Ксенофон сравнивал небо на картинах с настоящим, убеждался, что на правильном пути, и продолжал работать.
Однажды юноша достиг результата. Он не знал, сколько на это ему потребовалось времени. Ксенофон был настолько увлечён своей идеей, что потерял счёт дням. Но несмотря на всё это, он был счастлив. Когда художник смотрел на своё творение, он видел небо, то самое, которое разглядывал целыми днями.
Ксенофон решил: пора. Он собрал свои рисунки и со всех ног побежал к учителю.
***
Апеллес был не один. Гости сновали по зале, переходя от одной картины к другой. Здесь собрались самые высокопоставленные люди, чтобы восхищаться талантом художника.
– Мастер, мастер! – В спокойствие знати ворвался кто-то слишком растрёпанный, чтобы здесь его хотя бы приняли за человека. – Я обязан вам кое-что показать! – Взгляд юнца лихорадочно блестел, он был близок к победе… И не заметил, как люди начали перешёптываться, косо поглядывая в его сторону.
– Ксенофон, сейчас не самое подходящее время…
Апеллес выглядел растерянным. Он знал: сдержанность не была чертой характера его ученика. Художник годами наблюдал за Ксенофоном, был свидетелем подобных вспышек, которые другие люди назвали бы одержимостью. Это было не так. Апеллес знал много великих людей, за которыми тоже стояли подобные всплески эмоций. Даже Александра Македонского преследовал этот «недуг». Однако Апеллес понимал, как это выглядит в глазах других. Он боялся за своего воспитанника, но ничего не мог уже поделать.
– Нет, это невероятно важно! Вы сейчас всё сами поймёте. А если здесь люди… – Ксенофон сделал паузу и огляделся. Казалось, он впервые заметил, что кроме них с Апеллесом вокруг был ещё кто-то. – Так даже лучше!
Трясущимися пальцами Ксенофон одну за другой разворачивал свои работы и расставлял их у стены. Если картины Апеллеса в резных рамах на фоне мрамора выглядели величественно, то рисунки Ксенофона были по-детски наивными для этого места.
Таким же был и взгляд юноши, который так и кричал: «Учитель, смотрите! Я смог добиться правды! Теперь всё будет по-другому, люди увидят истинный цвет неба. Меня признают гением, как вас. Не зря вы меня учили все эти годы!»
Однако вместо слова «гениальный» по зале прокатилось «безумный». Апеллес смотрел на своего воспитанника бесконечно печальным взглядом, однако Ксенофон этого не замечал.
– Если вы мне не верите, давайте выйдем на улицу, и я вам всё покажу. Это правда цвет неба!
– Ксенофон… – Тихо, почти шёпотом начал Апеллес.
– Вы просто не привыкли к такому. Ничего страшного, я всё понимаю…
– Ксенофон, – более уверенно повторил наставник, – давай и вправду выйдем на улицу. Только ты и я.
Кто-то из гостей подозвал слугу и что-то прошептал на ухо. «У нас осталось не так много времени», – решил Апеллес. Он оглядел толпу и поспешил к выходу.
– Апеллес, куда же вы уходите? Александр Великий придёт с минуты на минуту…
«Этого я и опасаюсь», – подумал художник, а затем вышел во двор.
Ксенофон стоял, подняв одну из своих работ над головой, и внимательно разглядывал её. Остальные холсты были бесцеремонно сброшены на землю.
– Вот, вы видите это? Я…
– Ксенофон, не надо.
Апеллес со слезами на глазах смотрел на юношу. Ксенофон опешил от того, сколько чувств было в голосе его учителя, и замолк. Весь пыл, обуревавший его, исчез, будто того и не было.
– Но… Ведь это и впрямь цвет неба, – осторожно начал он. – Я говорил…
– Неважно, какого оно цвета. Задача художника не в том, чтобы изобразить его настоящий цвет, а в том, чтобы сделать его привычным для людей.
– Но ведь истина…
– Истина никому не важна. Если веками говорить человеку, что небо белое, он будет так думать, даже если это неправда.
Ксенофон задумался. Ведь если сказать, что его хитон чёрного цвета, он в таковой не превратится.
– И насколько бы верно ты не подобрал цвет неба, это никогда не будет иметь значение, – продолжал Апеллес. – Мне очень жаль такое говорить, но путь в Афины теперь навсегда закрыт для тебя, Ксенофон. Люди в моём доме – самые влиятельные во всей Греции. И они уже сочли тебя безумцем. Тебе нужно прямо сейчас бежать, иначе ты уже завтра будешь где-то в темницах. В этом внутреннем дворе никто не увидит твой побег. Уходи. Немедленно.
Ксенофон замер на несколько секунд, а потом понял, насколько всё серьёзно. Резким движением он наклонился и стал шарить руками по земле, собирая свои картины.
– Оставь их, я избавлюсь от твоих работ, – сказал его учитель. Ксенофону оставалось только кивнуть и навсегда исчезнуть из Афин.
***
Ксенофон совершенно не знал, куда ему податься. Оставаться в Греции было опасно, но других стран он и не видал. А потому юноша шёл куда глаза глядят и не задумывался о том, куда придёт. Он остался без всего. Картины, над которыми он трудился всю жизнь, остались далеко в столице. Ксенофон не успел взять с собой даже красок и шёл с пустыми руками.
Раньше он никогда не задумывался, почему его назвали именно Ксенофоном. Скорее всего, потому, что родители сами не придавали этому значение. Однако сейчас? У художника было много времени на размышления, и этот вопрос всё чаще всплывал у него в голове.
Его имя означало «говорящий на чужом языке». В этом было что-то ироничное. Ксенофон так и не смог доказать, что небо не белого цвета. Его взгляды были странны для всех, а слова воспринимали как чужестранные.
Бросить ли ему эту затею? Ясно, что успеха она ему не принесёт. Было ещё рано ставить крест на своём будущем, так почему бы не оставить живопись в покое? Он мог стать сапожником и не волновать ни свой ум, ни чужие. Но стоит ли сдаваться?
Однажды он куда-то дошёл. Ксенофон не знал, в какой город попал, но знал, что начинает новую жизнь.
***
Апеллес торопился на выставку. В Грецию приехал художник, чьи работы все называли идеалом. Заморская диковинка уже впечатлила греков, и Апеллес хотел знать, что же такого особенного в тех работах.
Его пригласили на вечер как лучшего художника Афин. Жители ждали, что же скажет об этих шедеврах мастер живописи.
Апеллес никогда не слышал об этом художнике. Ходили слухи, что он сам выбрал себе имя и творил под ним.
Когда он вошёл в залу и увидел развешанные в золотых рамах картины, он почувствовал что-то знакомое в стиле художника. Откуда он может знать эту манеру наносить мазки? А это небо…
Небо. Оно было далеко не белого цвета. Живописец изображал его любым, но только не белым. Будто он отрицал этот цвет.
Апеллес замер, его поразила одна мысль. «Где же этот художник? – подумал он. – Должен же быть где-то здесь».
А затем тот вышел. Самые влиятельные люди подходили к нему, чтобы выразить своё восхищение картинами. Никто не подозревал, что именно его годы назад хотели схватить за эти же идеи.
– Ксенофон… – Прошептал Апеллес.
Масленникова Софья. Уличный смотритель
Мяу, здравствуйте! Давайте знакомиться: меня зовут… по-разному. Смотря кто и смотря когда. Одни - «ой, смотрите, какой милый котик» (в основном так зовут меня дети), другие – «иди ко мне», третьи – «иди отсюда». А однажды меня даже назвали «вот холера» и «глупая животина». Но я на все эти прозвища не откликаюсь.
Так вот… Вы когда-нибудь замечали, что все хозяева похожи на своих питомцев? Да, да, именно хозяева на питомцев, а не наоборот! Это очень легко заметить, даже если просто идти по улице, но при этом не бежать сломя голову по своим делам, а чинно, неспешно прогуливаться, время от времени поглядывая на выгуливающих своих четвероногих любимцев людей. Впрочем, ещё неизвестно, кто кого выгуливает.
Так на кого же похож я? Ни на кого. Вернее, кто же похож на меня? На меня никто не похож. Я свободная личность. Я разгуливаю один, где хочу. Мне никто не нужен, и я думал, что никогда не изменю своего мнения. Но…
Это случилось одним тёплым, замурчательным весенним днём. Именно тогда, когда начинает зеленеть травка, а воздух наполняется чем-то особенным, чем-то… Но я собирался рассказать вовсе не об этом, а об одном странном случае, изменившем мою жизнь.
Как уже было замечено, каждый день я смотрю на людей и их питомцев, когда они выходят на прогулку. Это моя работа. Нет ничего приятнее, чем гулять и работать одновременно! Но раньше времена были лучше: коты и люди были друзьями. Я слышал об этом от своей прабабушки. Теперь не то: приходится остерегаться. Поэтому я чаще всего слежу за порядком из засады.
Каждое утро, просыпаясь, я инспектирую территорию, идя по своему привычному пути. Магазин, детская площадка, парк развлечений. Дальше идёт парковка. Но там я надолго не задерживаюсь: слишком пахнет бензином. И наконец – речка. В любую погоду на речке можно найти рыбака, а значит, неплохо поживиться! Кроме того, это хорошее место для выгула собак. Во всяком случае, так считает хозяин одной таксы, очень похожий на неё: такой же худой, длинный и короткошёрстный. Обычно они носятся как угорелые: летом – за бабочками, осенью – за листиками, зимой – за снежинками, весной – за …
Но в тот весенний день, о котором я завёл речь, такса пришла на прогулку не с парнем, а с какой-то девушкой. Святые сардины в масле! Но это не может быть её хозяйка: ведь они так непохожи! Что–то случилось… Я тут же решил действовать.
- Тебя украли? – с ходу начал я (нет, ну а что, лучше сразу спросить и понять, в чём тут подвох).
- Нет… - удивилась такса. – С чего ты взял?
- Ну, просто вы совсем непохожи с твоей хозяйкой: у тебя прекрасная фигура, а у девушки во-он какой круглый животик!
-А мы должны быть похожи? – переспросила чёрная головёшка на коротких ножках.
- Конечно! Это по правилам!
-Так, а давай я сама разберусь? – тявкнула моя собеседница, резко отвернулась и побежала догонять свою «хозяйку».
Нет, ну это уже ни в какие консервные банки не лезет! Она что, вообще не догоняет? Тут же дело принципа! И дело вовсе не в том, что мне больше всех нужно, но попробуй пусти соблюдение правил на самотёк, и в мире настанет анархия. Я в этом твёрдо уверен, а потому…
Как вы уже поняли, в моей маленькой черепной коробке созрела гениальнейшая идея. Мои идеи всегда гениальны, поэтому я немедленно приступил к её воплощению.
Утро следующего дня. Я сразу понял: чтобы они, ну, то есть такса и её «хозяйка», стали похожи, надо либо таксе набрать вес, либо девушке его сбросить.
-Я выбираю второй вариант! – сказала моя вчерашняя знакомая.
-Кто бы сомневался! – буркнул я и продолжил: - А теперь надо придумать, как это сделать.
- Очень легко! Просто нужно, чтобы я убежала. А моя хозяйка меня догоняла. Ведь так делают, когда хотят похудеть?
Это был хороший план. Почему не отличный? Потому что его придумал не я.
Мы с таксой действовали строго по плану, но как далеко ни убегали, всё равно девушка спокойно шла. Как будто ей было безразлично.
Это продолжалось каждый день до тех пор, пока однажды не приехала какая-то странная машина с мигалками, которая пищала как огромная мышь в мышеловке (жалко, что её нельзя было съесть). Люди в белых халатах быстро выбежали из этой машины, скрылись в подъезде и через некоторое время вынесли хозяйку таксы на чём-то, на чём носят людей, когда они болеют. Машина уехала. Всё стихло. Что это было? У меня сердце в хвост ушло.
Прошло три дня. Или четыре. Я никогда так не смеялся. Честно! Мы с таксой просто задыхались от смеха. Наверное, со стороны это выглядело странно, но нам было очень весело.
- Похудела, называется! - смеялась такса.
- Главное, чтобы опять вес не набрала! – мурчал я и опять смеялся.
Оказалось, что та девушка с круглым животиком была просто, как говорят люди, «в положении», и теперь у неё родился малыш. А ещё такса пригласила меня к себе домой, и её хозяева не возражали. Сначала я хотел было отказаться: ведь это против моих принципов, и, кроме того, хозяева таксы на меня совсем не похожи. Но вот их малыш… даже не знаю, как его описать… ну, точная копия меня.
Теперь я живу в доме, как самый настоящий домашний кот, но продолжаю следить за порядком на улице: ведь это моя работа!
- Оставь в покое мой хвост! – фыркнул я малышу, но он, видимо, меня не понял. Нет, это совсем не больно, ведь он меня любит, но мне пришлось смирить мою гордость…
- Ложитесь-ка спать, ребятки, - донёсся голос девушки из другой комнаты.
- О! Спать! Это моя любимая часть дня! – довольно муркнул я, и мы с малышом легли рядом. Он обнял меня мёртвой хваткой и уснул. М-да, так мне моих девяти жизней ненадолго хватит… Ну и ладно!
Так тихо и мирно шли дни, месяцы, прошёл и год. Я так и не изменил своего мнения, и мне по-прежнему никто не нужен. Но кажется, что теперь кому-то нужен стал я.
Кстати, девушку зовут Агата, длинного и худого – Павел, малыша – Кирилл, их любимую таксу – Умка, ну, а меня по-прежнему кличут по-разному: то «кися», то «чубакабрик», то «барбамбеяк», то ещё как-нибудь – не выговоришь. Но я не обижаюсь! Ведь они меня любят!
Мяу, здравствуйте! Давайте знакомиться: меня зовут… по-разному. Смотря кто и смотря когда. Одни - «ой, смотрите, какой милый котик» (в основном так зовут меня дети), другие – «иди ко мне», третьи – «иди отсюда». А однажды меня даже назвали «вот холера» и «глупая животина». Но я на все эти прозвища не откликаюсь.
Так вот… Вы когда-нибудь замечали, что все хозяева похожи на своих питомцев? Да, да, именно хозяева на питомцев, а не наоборот! Это очень легко заметить, даже если просто идти по улице, но при этом не бежать сломя голову по своим делам, а чинно, неспешно прогуливаться, время от времени поглядывая на выгуливающих своих четвероногих любимцев людей. Впрочем, ещё неизвестно, кто кого выгуливает.
Так на кого же похож я? Ни на кого. Вернее, кто же похож на меня? На меня никто не похож. Я свободная личность. Я разгуливаю один, где хочу. Мне никто не нужен, и я думал, что никогда не изменю своего мнения. Но…
Это случилось одним тёплым, замурчательным весенним днём. Именно тогда, когда начинает зеленеть травка, а воздух наполняется чем-то особенным, чем-то… Но я собирался рассказать вовсе не об этом, а об одном странном случае, изменившем мою жизнь.
Как уже было замечено, каждый день я смотрю на людей и их питомцев, когда они выходят на прогулку. Это моя работа. Нет ничего приятнее, чем гулять и работать одновременно! Но раньше времена были лучше: коты и люди были друзьями. Я слышал об этом от своей прабабушки. Теперь не то: приходится остерегаться. Поэтому я чаще всего слежу за порядком из засады.
Каждое утро, просыпаясь, я инспектирую территорию, идя по своему привычному пути. Магазин, детская площадка, парк развлечений. Дальше идёт парковка. Но там я надолго не задерживаюсь: слишком пахнет бензином. И наконец – речка. В любую погоду на речке можно найти рыбака, а значит, неплохо поживиться! Кроме того, это хорошее место для выгула собак. Во всяком случае, так считает хозяин одной таксы, очень похожий на неё: такой же худой, длинный и короткошёрстный. Обычно они носятся как угорелые: летом – за бабочками, осенью – за листиками, зимой – за снежинками, весной – за …
Но в тот весенний день, о котором я завёл речь, такса пришла на прогулку не с парнем, а с какой-то девушкой. Святые сардины в масле! Но это не может быть её хозяйка: ведь они так непохожи! Что–то случилось… Я тут же решил действовать.
- Тебя украли? – с ходу начал я (нет, ну а что, лучше сразу спросить и понять, в чём тут подвох).
- Нет… - удивилась такса. – С чего ты взял?
- Ну, просто вы совсем непохожи с твоей хозяйкой: у тебя прекрасная фигура, а у девушки во-он какой круглый животик!
-А мы должны быть похожи? – переспросила чёрная головёшка на коротких ножках.
- Конечно! Это по правилам!
-Так, а давай я сама разберусь? – тявкнула моя собеседница, резко отвернулась и побежала догонять свою «хозяйку».
Нет, ну это уже ни в какие консервные банки не лезет! Она что, вообще не догоняет? Тут же дело принципа! И дело вовсе не в том, что мне больше всех нужно, но попробуй пусти соблюдение правил на самотёк, и в мире настанет анархия. Я в этом твёрдо уверен, а потому…
Как вы уже поняли, в моей маленькой черепной коробке созрела гениальнейшая идея. Мои идеи всегда гениальны, поэтому я немедленно приступил к её воплощению.
Утро следующего дня. Я сразу понял: чтобы они, ну, то есть такса и её «хозяйка», стали похожи, надо либо таксе набрать вес, либо девушке его сбросить.
-Я выбираю второй вариант! – сказала моя вчерашняя знакомая.
-Кто бы сомневался! – буркнул я и продолжил: - А теперь надо придумать, как это сделать.
- Очень легко! Просто нужно, чтобы я убежала. А моя хозяйка меня догоняла. Ведь так делают, когда хотят похудеть?
Это был хороший план. Почему не отличный? Потому что его придумал не я.
Мы с таксой действовали строго по плану, но как далеко ни убегали, всё равно девушка спокойно шла. Как будто ей было безразлично.
Это продолжалось каждый день до тех пор, пока однажды не приехала какая-то странная машина с мигалками, которая пищала как огромная мышь в мышеловке (жалко, что её нельзя было съесть). Люди в белых халатах быстро выбежали из этой машины, скрылись в подъезде и через некоторое время вынесли хозяйку таксы на чём-то, на чём носят людей, когда они болеют. Машина уехала. Всё стихло. Что это было? У меня сердце в хвост ушло.
Прошло три дня. Или четыре. Я никогда так не смеялся. Честно! Мы с таксой просто задыхались от смеха. Наверное, со стороны это выглядело странно, но нам было очень весело.
- Похудела, называется! - смеялась такса.
- Главное, чтобы опять вес не набрала! – мурчал я и опять смеялся.
Оказалось, что та девушка с круглым животиком была просто, как говорят люди, «в положении», и теперь у неё родился малыш. А ещё такса пригласила меня к себе домой, и её хозяева не возражали. Сначала я хотел было отказаться: ведь это против моих принципов, и, кроме того, хозяева таксы на меня совсем не похожи. Но вот их малыш… даже не знаю, как его описать… ну, точная копия меня.
Теперь я живу в доме, как самый настоящий домашний кот, но продолжаю следить за порядком на улице: ведь это моя работа!
- Оставь в покое мой хвост! – фыркнул я малышу, но он, видимо, меня не понял. Нет, это совсем не больно, ведь он меня любит, но мне пришлось смирить мою гордость…
- Ложитесь-ка спать, ребятки, - донёсся голос девушки из другой комнаты.
- О! Спать! Это моя любимая часть дня! – довольно муркнул я, и мы с малышом легли рядом. Он обнял меня мёртвой хваткой и уснул. М-да, так мне моих девяти жизней ненадолго хватит… Ну и ладно!
Так тихо и мирно шли дни, месяцы, прошёл и год. Я так и не изменил своего мнения, и мне по-прежнему никто не нужен. Но кажется, что теперь кому-то нужен стал я.
Кстати, девушку зовут Агата, длинного и худого – Павел, малыша – Кирилл, их любимую таксу – Умка, ну, а меня по-прежнему кличут по-разному: то «кися», то «чубакабрик», то «барбамбеяк», то ещё как-нибудь – не выговоришь. Но я не обижаюсь! Ведь они меня любят!
Симонова Софья. Память
Небо видит всё, даже то, что мы хотим забыть, даже то, что, кажется, не повторится никогда. Поэтому я часто ложусь и смотрю на него, а оно медленно вздыхает, гоняя облака, и напоминает мне все эти дни.
Вот первый. Снежинки летят в лицо, солнце светит, я ложусь на снег и смотрю на небо. А оно такое ослепительно синее, что приходится морщиться, и улыбка сама растягивается по лицу. Вот я вижу маленькие, давно знакомые валенки - неужели и тут меня Катя нашла.
- Наасть, ну Нааасть. Мама сказала, что ты со мной на горку кататься пойдёшь, она меня одну не пускает! - бусинки-глазки и реснички, ну прямо как у куколки, и щёки её пухлые и розовые ещё сильнее краснеют на морозе.
Я соглашаюсь, встаю, и тут начинается … Она спрашивает без перебоя обо всём на свете: почему небо такое голубое, почему её дёргает за косички Боря, почему снег под ногами хрустит, почему зайцы шубку меняют, а собаки - нет… А я иду и улыбаюсь, сама не знаю почему и хохочу, хохочу, а тут мы ещё и Борьку встречаем. Катя сразу делает ну до ужаса серьёзное лицо, морщит лоб, хмурит брови и смотрит на него с прищуром.
-Добрый день, товарищ гражданочка!
(Боже, он ещё и пухленькую ручонку к шапке с завязками приложил).
- Отстань, Борька, ну вот, что ты ко мне привязался…
А как смотрит-то он на неё - смешно ужасно. Потом мы пошли кататься, дома мама испекла наши любимые пирожки с конфетами*, а папа елку в дом принёс и Катю на плечи к себе посадил. Всё радостно, смешно, калейдоскопом.
Это был последний Новый год, когда я смеялась, когда мы были вместе, когда мы просто были.
И почему-то именно его я вспоминала все эти годы, когда жить становилось невыносимо, когда живот прилипал к рёбрам, а искусанные губы саднили…
А потом случилось утро 22 июня: радио, громкоговорители, мамины слёзы, Катькины потерянные от испуга глаза и я… А что я? Плакать не хотелось и страшно не было, стыдно вот только, что я ничего чувствую. Война и война, она же далеко где-то, да? Я в тот день всё выбегала на улицу, чтобы на небо посмотреть, не изменилось ли оно. А оно всё такое же…синее.
Потом на фронт ушёл папа, поцеловал нас с Катькой в макушку крепко, маму так сильно обнял, что она охнула, а потом плакала… долго плакала. Никогда я не забуду его глаза, когда уходил, такие добрые с прищуром, какие только у него были, лишь что-то неуловимое появилось в них. Он прощался с нами, не так, как всегда утром перед работой, а по-другому… Навсегда прощался.
Война подошла близко, это были уже не слова по радио, а взрывы самые настоящие, небо стало синее и страшнее, его всё изрешетили самолёты. Полосы, остававшиеся от них, будто заковали нас в клетку. Никогда не забуду это противное жужжание и холод, не тот приятный от которого у Катьки щёки румянились, а другой… Тот, от которого рёбра друг об друга вместо зубов стучали и губы болели. На небо смотреть больше не хотелось, вообще глаза открывать страшно было, а не открывать ещё страшнее. Помню, как ко мне подошла Катя и вместо обычной тысячи вопросов задала один: «А когда папа вернётся?»
Я не знала, и мама тоже, да и папа, наверное, сам не знал. По вечерам мы сидели около керосиновой лампы, Катя угольком на печке рисовала, а мама что-то штопала, иногда вышивала, и вроде всё мирно и спокойно, но сердце никогда не успокаивалось, потому что в любой момент… тревога. Громкоговорители, вой сирен, взгляд на дом, как в последний раз, потому что каждый может быть последним. Тесные подвалы, где пахнет сыростью и страхом, Катькины слёзы, мамины постаревшие глаза, даже Борька, хоть и храбрился, но прижимался к стенке и дышал часто. Катя на него смотрела, а он на неё, и смешного в этом больше ничего не было.
Сирены стали чаще, обращать внимание на них стали реже, многие уже оставались в домах: «Бог убережет, а если прилетит, то нам всё равно уже будет». И так меня всегда это пугало, так пугало… всё это.
Дни стали похожи на предыдущие, слились в один.
Только вот помню, как приехал большой грузовик, мешая колёсами грязный снег и выпуская клубы дыма. Мама тогда на нас посмотрела с отчаянием, а потом в кузов начали грузить детей, все мамы плакали, а наша - нет. Она только дала мне платочек с вышитой птичкой и сказала тихо на ушко: «Береги нашу Катюшу и себя береги. Никогда не забывай ничего, того, что было у тебя, никто не отнимет» - и сжала моё запястье. Потом Катю взяла на руки, обняла так, что та охнула, а потом плакала… долго плакала. В кузове было столько детей, что даже не трясло сильно. Много-много маленьких напуганных лиц, их губки блестели от слёз, а на ресницах сразу вырастал иней от мороза. Страшно, ужасно страшно.
Вдруг я увидела, как кто-то лезет через толпу, раздвигает всех пухлыми ручками, и вскоре передо мной появился Борька, он не плакал, только посмотрел на Катьку и рявкнул: «Не реветь! На войне не плачут, мне так папа сказал». Его нижняя губа задрожала, он сел на корточки, уткнулся мне в бок и заплакал…тихо.
Нас выгрузили рядом с речкой, повели в какое-то здание, потом к нам подошла женщина, представилась Таей, погладила Катю по щеке, а та только отвернулась и меня обняла крепко. Я растерянно улыбнулась и чуть было не заплакала. Отчего? Не знаю, стыдно не было больше, потому что и страшно было, и плакать хотелось. Там и взрывов почти не было слышно…только крики.
На стенах я потом разглядела детские рисунки - здесь раньше была школа. Только вот в классах теперь стояли больничные койки, а на них лежали солдаты — госпиталь.
Уже через неделю я таскала инструменты, какие-то банки, наматывала бинты, катала шарики из ваты. Борька тоже помогал. Катя учебники где-то достала и читала вслух, я ей как-то пыталась на ночь почитать, а она посмотрела на меня серьёзно и сказала: «Я не маленькая больше». И правда, на пухленьком детском лице, взрослые глаза смотрелись неуместно и…страшно что ли?
О всех ужасах жизни в госпитале я и говорить не буду, скажу только, что фраза «раненых привезли» и звук колёсиков, стучащих о бетон, будили меня моментально и заставляли одеться в считанные секунды. Чепчик, вата, много крови, бинт, быстрее, сильнее, выше, каждая секунда - чья-то жизнь.
Удивительно, как в минуту спокойное место превращалось в жужжащий улей, а потом так же быстро стихало. Небо я видела всё реже, выходить на улицу было некогда, может это и к лучшему. Мы часто заходили в палаты к раненым: «Как себе чувствуете, товарищ? Что-нибудь нужно? Скоро будем менять бинты». Многим девочкам было страшно смотреть на их раны и они смотрели в глаза, чтобы не упасть в обморок, а я - наоборот. Ничего страшнее их лиц для меня не было…бледных, с пустыми, как ямы, глазами. Не смотря на возраст в медкарточке, седина уже тронула их волосы. Катя вообще вопросы задавать перестала и разговаривать тоже. Только вот однажды я увидела её в палате рядом с койкой одного солдата. Он ей рассказывал что-то, а она смеялась. Я поверить не могла — смеялась, смеялась! Потом ко мне подбежала, за руку схватила, и потащила за собой к койке.
- Настя, это Сергей. Он мой большой друг.
Сергея я знала, он отличался от всех солдатов: глаза его совсем не выглядели, как ямы, а сияли озорством и непонятно откуда взявшимся счастьем. Он часто пел, встряхивая своими серебристыми волосами, а другие подхватывали: «Тех слов не забуду, врагов бью повсюду, чтоб вновь разлучить не смогли...».
В Катьке, как он мне потом рассказывал, Сергей видел свою дочку - Нюрочку, и играл с ней в крестики-нолики, города, слова, учил немецкому и очень смешно парадировал немцев.
Я тоже с ним часто говорила, могла даже ночью к нему прийти, сесть около койки и начать рассказывать что-то про прежнюю жизнь, маму, папу. Катьке он рассказывал, что знавал нашего отца и воевал с ним рука об руку, говорил, что славный он малый и очень отважный. И тогда у Кати её взрослые глаза вдруг наполнялись светом и слезами, и голову она сразу поднимала высоко.
Однажды мне пришло сразу два письма. Одно от папы: «Здравствуйте, мои дорогие девочки. Пишу вам, чтобы сообщить о том, что фашистам, говорят, недолго осталось. Скоро вернусь к вам, домой. Мама написала мне, что вас в Саратов увезли, в госпиталь. Не хулиганьте там, помогайте людям и про учёбу не забывайте - вам потом заново строить всё, что мы наломали. И ждите меня, помните, что я всегда рядом и смотрю за вами. Целую вас в макушки. Ваш папа». А следом мамино… короткое. «Не говори Кате». Конверт, как чёрная метка обжег мою руку. «Ушаков Василий Витальевич…героем…защищая Отечество». Я уже видела такие письма, уже многие открывали их при мне и плакали. А я - нет. Я всё смотрела на него, и понять не могла, совсем ничего понять не могла. Папа? Как папа? Они, верно, перепутали. Не может быть, немцы же, говорят, уйдут скоро… Немцы! Точно, немцы, всё из-за них. Папочка… Не говорить Кате, не говорить Кате. Волна ненависти захлестнула меня, я бежала куда-то и плакала, порвалось словно что-то. Вдруг поняла: бывают же ошибки! Нужно спросить у Сергея. Забежала в палату, но на койке его не было. Только выглаженные. Чистые. Простыни.
Выбежала на улицу, споткнулась, упала, замерла, перевернулась на спину, взглянула на небо, и... ахнула. Синее, не пугающе синее, не изрешеченное самолётами, а спокойное, как раньше. И ненавидеть больше не хотелось, а жить, просто жить!
Сергей умер утром 7 мая 1945 года из-за победившей его гангрены, мама 6-го из-за снаряда, попавшего в наш дом, а папа 3-го… из-за чего - не написали, написали только то, что погиб героем, защищая Отечество.
А потом… потом была победа, я вспоминаю ликующий голос по радио, губки детей блестящих от радостных слёз, помню обнимающихся Борю и Катю, мои слёзы, слёзы Таи, рёв солдат в палатах, которые повскакивали с коек и, кажется, разом поправились под троекратное «Ура!».
И уж точно никогда не забуду, то небо, синее и спокойное, которое помогло мне остаться человеком, которое помогло мне учиться, заботиться о Кате, пережить смерть близких.
И вот мне снова летят снежинки в лицо, и светит зимнее солнце, и я снова ложусь на снег, делаю снежного ангела, а небо смотрит на меня с озорством и непонятно откуда взявшимся счастьем.
Небо видит всё, даже то, что мы хотим забыть, даже то, что, кажется, не повторится никогда. Поэтому я часто ложусь и смотрю на него, а оно медленно вздыхает, гоняя облака, и напоминает мне все эти дни.
Вот первый. Снежинки летят в лицо, солнце светит, я ложусь на снег и смотрю на небо. А оно такое ослепительно синее, что приходится морщиться, и улыбка сама растягивается по лицу. Вот я вижу маленькие, давно знакомые валенки - неужели и тут меня Катя нашла.
- Наасть, ну Нааасть. Мама сказала, что ты со мной на горку кататься пойдёшь, она меня одну не пускает! - бусинки-глазки и реснички, ну прямо как у куколки, и щёки её пухлые и розовые ещё сильнее краснеют на морозе.
Я соглашаюсь, встаю, и тут начинается … Она спрашивает без перебоя обо всём на свете: почему небо такое голубое, почему её дёргает за косички Боря, почему снег под ногами хрустит, почему зайцы шубку меняют, а собаки - нет… А я иду и улыбаюсь, сама не знаю почему и хохочу, хохочу, а тут мы ещё и Борьку встречаем. Катя сразу делает ну до ужаса серьёзное лицо, морщит лоб, хмурит брови и смотрит на него с прищуром.
-Добрый день, товарищ гражданочка!
(Боже, он ещё и пухленькую ручонку к шапке с завязками приложил).
- Отстань, Борька, ну вот, что ты ко мне привязался…
А как смотрит-то он на неё - смешно ужасно. Потом мы пошли кататься, дома мама испекла наши любимые пирожки с конфетами*, а папа елку в дом принёс и Катю на плечи к себе посадил. Всё радостно, смешно, калейдоскопом.
Это был последний Новый год, когда я смеялась, когда мы были вместе, когда мы просто были.
И почему-то именно его я вспоминала все эти годы, когда жить становилось невыносимо, когда живот прилипал к рёбрам, а искусанные губы саднили…
А потом случилось утро 22 июня: радио, громкоговорители, мамины слёзы, Катькины потерянные от испуга глаза и я… А что я? Плакать не хотелось и страшно не было, стыдно вот только, что я ничего чувствую. Война и война, она же далеко где-то, да? Я в тот день всё выбегала на улицу, чтобы на небо посмотреть, не изменилось ли оно. А оно всё такое же…синее.
Потом на фронт ушёл папа, поцеловал нас с Катькой в макушку крепко, маму так сильно обнял, что она охнула, а потом плакала… долго плакала. Никогда я не забуду его глаза, когда уходил, такие добрые с прищуром, какие только у него были, лишь что-то неуловимое появилось в них. Он прощался с нами, не так, как всегда утром перед работой, а по-другому… Навсегда прощался.
Война подошла близко, это были уже не слова по радио, а взрывы самые настоящие, небо стало синее и страшнее, его всё изрешетили самолёты. Полосы, остававшиеся от них, будто заковали нас в клетку. Никогда не забуду это противное жужжание и холод, не тот приятный от которого у Катьки щёки румянились, а другой… Тот, от которого рёбра друг об друга вместо зубов стучали и губы болели. На небо смотреть больше не хотелось, вообще глаза открывать страшно было, а не открывать ещё страшнее. Помню, как ко мне подошла Катя и вместо обычной тысячи вопросов задала один: «А когда папа вернётся?»
Я не знала, и мама тоже, да и папа, наверное, сам не знал. По вечерам мы сидели около керосиновой лампы, Катя угольком на печке рисовала, а мама что-то штопала, иногда вышивала, и вроде всё мирно и спокойно, но сердце никогда не успокаивалось, потому что в любой момент… тревога. Громкоговорители, вой сирен, взгляд на дом, как в последний раз, потому что каждый может быть последним. Тесные подвалы, где пахнет сыростью и страхом, Катькины слёзы, мамины постаревшие глаза, даже Борька, хоть и храбрился, но прижимался к стенке и дышал часто. Катя на него смотрела, а он на неё, и смешного в этом больше ничего не было.
Сирены стали чаще, обращать внимание на них стали реже, многие уже оставались в домах: «Бог убережет, а если прилетит, то нам всё равно уже будет». И так меня всегда это пугало, так пугало… всё это.
Дни стали похожи на предыдущие, слились в один.
Только вот помню, как приехал большой грузовик, мешая колёсами грязный снег и выпуская клубы дыма. Мама тогда на нас посмотрела с отчаянием, а потом в кузов начали грузить детей, все мамы плакали, а наша - нет. Она только дала мне платочек с вышитой птичкой и сказала тихо на ушко: «Береги нашу Катюшу и себя береги. Никогда не забывай ничего, того, что было у тебя, никто не отнимет» - и сжала моё запястье. Потом Катю взяла на руки, обняла так, что та охнула, а потом плакала… долго плакала. В кузове было столько детей, что даже не трясло сильно. Много-много маленьких напуганных лиц, их губки блестели от слёз, а на ресницах сразу вырастал иней от мороза. Страшно, ужасно страшно.
Вдруг я увидела, как кто-то лезет через толпу, раздвигает всех пухлыми ручками, и вскоре передо мной появился Борька, он не плакал, только посмотрел на Катьку и рявкнул: «Не реветь! На войне не плачут, мне так папа сказал». Его нижняя губа задрожала, он сел на корточки, уткнулся мне в бок и заплакал…тихо.
Нас выгрузили рядом с речкой, повели в какое-то здание, потом к нам подошла женщина, представилась Таей, погладила Катю по щеке, а та только отвернулась и меня обняла крепко. Я растерянно улыбнулась и чуть было не заплакала. Отчего? Не знаю, стыдно не было больше, потому что и страшно было, и плакать хотелось. Там и взрывов почти не было слышно…только крики.
На стенах я потом разглядела детские рисунки - здесь раньше была школа. Только вот в классах теперь стояли больничные койки, а на них лежали солдаты — госпиталь.
Уже через неделю я таскала инструменты, какие-то банки, наматывала бинты, катала шарики из ваты. Борька тоже помогал. Катя учебники где-то достала и читала вслух, я ей как-то пыталась на ночь почитать, а она посмотрела на меня серьёзно и сказала: «Я не маленькая больше». И правда, на пухленьком детском лице, взрослые глаза смотрелись неуместно и…страшно что ли?
О всех ужасах жизни в госпитале я и говорить не буду, скажу только, что фраза «раненых привезли» и звук колёсиков, стучащих о бетон, будили меня моментально и заставляли одеться в считанные секунды. Чепчик, вата, много крови, бинт, быстрее, сильнее, выше, каждая секунда - чья-то жизнь.
Удивительно, как в минуту спокойное место превращалось в жужжащий улей, а потом так же быстро стихало. Небо я видела всё реже, выходить на улицу было некогда, может это и к лучшему. Мы часто заходили в палаты к раненым: «Как себе чувствуете, товарищ? Что-нибудь нужно? Скоро будем менять бинты». Многим девочкам было страшно смотреть на их раны и они смотрели в глаза, чтобы не упасть в обморок, а я - наоборот. Ничего страшнее их лиц для меня не было…бледных, с пустыми, как ямы, глазами. Не смотря на возраст в медкарточке, седина уже тронула их волосы. Катя вообще вопросы задавать перестала и разговаривать тоже. Только вот однажды я увидела её в палате рядом с койкой одного солдата. Он ей рассказывал что-то, а она смеялась. Я поверить не могла — смеялась, смеялась! Потом ко мне подбежала, за руку схватила, и потащила за собой к койке.
- Настя, это Сергей. Он мой большой друг.
Сергея я знала, он отличался от всех солдатов: глаза его совсем не выглядели, как ямы, а сияли озорством и непонятно откуда взявшимся счастьем. Он часто пел, встряхивая своими серебристыми волосами, а другие подхватывали: «Тех слов не забуду, врагов бью повсюду, чтоб вновь разлучить не смогли...».
В Катьке, как он мне потом рассказывал, Сергей видел свою дочку - Нюрочку, и играл с ней в крестики-нолики, города, слова, учил немецкому и очень смешно парадировал немцев.
Я тоже с ним часто говорила, могла даже ночью к нему прийти, сесть около койки и начать рассказывать что-то про прежнюю жизнь, маму, папу. Катьке он рассказывал, что знавал нашего отца и воевал с ним рука об руку, говорил, что славный он малый и очень отважный. И тогда у Кати её взрослые глаза вдруг наполнялись светом и слезами, и голову она сразу поднимала высоко.
Однажды мне пришло сразу два письма. Одно от папы: «Здравствуйте, мои дорогие девочки. Пишу вам, чтобы сообщить о том, что фашистам, говорят, недолго осталось. Скоро вернусь к вам, домой. Мама написала мне, что вас в Саратов увезли, в госпиталь. Не хулиганьте там, помогайте людям и про учёбу не забывайте - вам потом заново строить всё, что мы наломали. И ждите меня, помните, что я всегда рядом и смотрю за вами. Целую вас в макушки. Ваш папа». А следом мамино… короткое. «Не говори Кате». Конверт, как чёрная метка обжег мою руку. «Ушаков Василий Витальевич…героем…защищая Отечество». Я уже видела такие письма, уже многие открывали их при мне и плакали. А я - нет. Я всё смотрела на него, и понять не могла, совсем ничего понять не могла. Папа? Как папа? Они, верно, перепутали. Не может быть, немцы же, говорят, уйдут скоро… Немцы! Точно, немцы, всё из-за них. Папочка… Не говорить Кате, не говорить Кате. Волна ненависти захлестнула меня, я бежала куда-то и плакала, порвалось словно что-то. Вдруг поняла: бывают же ошибки! Нужно спросить у Сергея. Забежала в палату, но на койке его не было. Только выглаженные. Чистые. Простыни.
Выбежала на улицу, споткнулась, упала, замерла, перевернулась на спину, взглянула на небо, и... ахнула. Синее, не пугающе синее, не изрешеченное самолётами, а спокойное, как раньше. И ненавидеть больше не хотелось, а жить, просто жить!
Сергей умер утром 7 мая 1945 года из-за победившей его гангрены, мама 6-го из-за снаряда, попавшего в наш дом, а папа 3-го… из-за чего - не написали, написали только то, что погиб героем, защищая Отечество.
А потом… потом была победа, я вспоминаю ликующий голос по радио, губки детей блестящих от радостных слёз, помню обнимающихся Борю и Катю, мои слёзы, слёзы Таи, рёв солдат в палатах, которые повскакивали с коек и, кажется, разом поправились под троекратное «Ура!».
И уж точно никогда не забуду, то небо, синее и спокойное, которое помогло мне остаться человеком, которое помогло мне учиться, заботиться о Кате, пережить смерть близких.
И вот мне снова летят снежинки в лицо, и светит зимнее солнце, и я снова ложусь на снег, делаю снежного ангела, а небо смотрит на меня с озорством и непонятно откуда взявшимся счастьем.
Пименов Григорий. Повзрослели
«Не зря я всё-таки поехал домой», – Думал Вадим, сидя в спящем автобусе, который мчался в родной город. Жизнь сложилась просто: переезд из посёлка в областной центр, учеба в университете. Он выбрал профессию учителя. Это была и тяга к знаниям, и желание приобщить к наукам других, и романтическое представление об учителе как о властителе дум. За эти годы он много взял, пора и вернуть. Решил вернуться на родину, в маленький таёжный посёлок. Повезло, в школе как раз требовался учитель литературы. Директора это обрадовало: молодой, перспективный, еще и земляк. Так и очутился он здесь, в стихии лесов, полей и рек…
Поменялось ли что в провинциальной жизни? Да, многое! Посёлок расцвел! Наконец-то выстроили школу (первый камень заложили ещё в 80-е, однако шли годы, а он так и лежал, покрывшись склизким мхом). Сейчас же это новое здание привлекало детей со всех соседних деревень. Эх.., а как же разрослись тёмно-красные дубы, огромные ветви которых дружно сплетались. Как же хорошо здесь дышалось! Как пело сердце в этом милом сердцу уголке!
Молодой учитель вышел из автобуса и побрел по дорогим сердцу улицам. И с тех пор было положено начало его работы. Вадиму сразу же дали свой класс – 5 Б. Малыши… В них кипит тяга к чему-то, а вот к чему? Никто не знает. Он, Вадим, должен это узнать, должен повести их за собой, чтобы не растеряли они по пути любознательности и веры в необходимость познания, не зачерствели душой. Именно в таком возрасте он вынужден был уехать с родителями в город. Хотел ли он этого? Наверное. Однако перемены повлекли за собой раздор в отношениях с друзьями, знакомыми и даже с природой!
Шли дни, новая жизнь кипела, искрясь яркими звёздами по ночам и будя бодрыми трелями птиц утром. А днём и вечером Вадим увлечённо делился знаниями. Его сердцу стал очень дорог класс. В нём было 18 человек, что по меркам поселковой школы было довольно много. Подростки приняли Вадима Александровича как давнего, но близкого знакомого. Так и прошли первые недели учёбы. Наступила пора осенних походов. Долго уговаривали ребята своего учителя об этом подарке, но он не решался, думая: «А если случится что-то непоправимое!? Вдруг мы заблудимся или, куда хуже, наткнёмся на топкое болото?» Вадим вспоминал себя! То время, когда он был ещё Вадькой! И то, как отправился с другом в путешествие по лесным переулкам! И то, как они потерялись, но смогли выбраться! И конечно же, то, как необыкновенная волчица вывела их из этого ветвистого, развороченного бурей леса!
Так сложилось, что Вася переехал в другой город. Очень тяжело было расставаться друзьям. Трудно прощаться с людьми, с которыми пуд соли съел или выпутался из какой-нибудь передряги. Но жизнь есть жизнь. Мчались годы, переполненные событиями, новыми яркими встречами. И старая, казалось бы, крепкая дружба измельчилась, как будто высохшая речонка, и засохла.
Вадим всё-таки решил сходить с ребятами в поход, вспомнив места потерявшегося во времени детства.
Радостные крики. Скорые сборы. И вот он – поход! Встреча была назначена после обеда, возле старого вокзала. Двенадцать пятиклассников и молодой учитель направились в неизвестную, но греющую сердце приветливым солнцем картину из детства. День был по-летнему тёплый, и ребята решили оставить дома куртки, пошли налегке, взяв лишь бутербродно-газировочный перекус. Тропа пролегала по бывшей просеке, заросшей светло-зелёными пихтами и царственными малахитовыми елями.
Вадим планировал пройти не больше получаса, устроить привал, а затем вернуться домой. Но то ли лесное переливание цветов, запахов и чувств, то ли громкие возгласы и задорный смех ребят погрузили учителя в забвение. Вспомнилось давнее: бредут два подростка в глубь леса, ничего не боятся – глупые ещё, несмышлёные. Одни отправились! И вдруг гроза, летящие в разные стороны ветви, листья, вырванные из земли с корнями деревья…
Вадим словно очнулся от воспоминания:
- Гм, да, ребятки. Залюбовались мы… Видно, вечер скоро, пять часов уж. Давайте-ка быстро перекусим и назад.
- Вадим Александрович, а вы помните обратный путь?
- А как же, вот по этой просеке пойдём. Два часа, и мы дома!
Но тут спокойное лицо учителя внезапно изменилось. Никакой тропы не было! Воспоминания десятилетней давности увели его в сторону от дороги. Заблудились!
Вадим успокоил ребят, хотя сам не на шутку испугался. Связь, а тем более интернет были недоступны. Любые попытки найти тропу заканчивались неудачей. Тогда-то молодой учитель и принял решение строить лагерь, как когда-то в детстве. Найдя подходящее место, воздвигли несколько шалашей из мха и веток, а затем, собрав охапку хвороста и толстых сучьев, принялись разжигать костёр. Немного подкрепились, и Вадим Александрович уложил детей спать в мягкие лесные кровати, сделанные из лапника, а сам сел у огня, нервно обдумывая всё случившееся. Но тут он заметил что-то в траве, словно яркий отблеск! Напряженность сменилась ошеломлением, руки затряслись, сердце чуть не выпрыгивало наружу! Вадим наткнулся на монету, которую десять лет назад здесь, в этом самом месте, может, когда разжигали костёр или тревожно пережидали ночь, обронили друзья! Вадька и Васёк!
…
Клонило в сон, когда он поймал взглядом самолёт, летящий на фоне синего бархатного неба, усыпанного звёздами. Всеми силами пытался не уснуть. Эта неделя выдалась тяжёлая… ЧП за ЧП, авария за аварией. И так день за днём.
- Василий Максимович, здравствуйте! Беда! Дети потерялись в лесу!
- Где? Когда? Сколько?
- 13 человек, вчера пошли в поход с учителем, должны были вернуться ещё к вечеру, но до сих не пришли. Нужно срочно ехать на помощь! Поеду я. Вы отдыхайте.
- Нет. Я еду! – твердо заявил спасатель. Он услышал название родного посёлка, решив во что бы то ни стало отправиться туда.
Пятиминутные сборы. Стремительная дорога к месту. Примчавшись на место, Василий узнал, что волонтёры уже два часа ведут поиск. По периметру леса гудят сирены и воют рупора. Все силы брошены на спасение детей!
Привыкнув к ночной глуши, спасатель по зову давнего забытого чувства выдвинулся в лес. Он сам прекрасно помнил себя, маленького сорванца, и своего лучшего друга. Их захватывающее путешествие! А ведь после этого у Васька появилась мечта стать спасателем. Он долго и упорно учился, занимался как теорией, так и практикой, часто ходил в лесные походы, набирался опыта. И такая подготовка принесла свои плоды! Василий - один из опытнейших спасателей области; многих он смог найти и вернуть домой, многие обязаны ему жизнью.
- Ауууу!.. – громким твердым голосом кричал спасатель. Идя размеренным широким шагом, он полностью погрузился в поиск.
Яркий фонарь ослеплял глухую тьму, придавая на мгновение доброты и света. А мрачный лес это – самое жуткое место. Хмурые, пугающие своими оживающими на секунду в всполохах света деревья, сумрачная трава, черное небо… И лишь луна скупо льёт белила, заставляя и без того напряженное сердце биться ещё чаще! А это постоянное позвякивание, похрюкивание, какое-то непонятное шипение… Таинственный шелест листвы, шуршание травы… Внезапно оглушающий крик какой-то сумасшедшей птицы! Оуу-оуу!
…
Вадим досадовал. Он хотел действовать, бежать, делать хоть что-то! Решив обойти лагерь, он слушал лес… Ууууу… Слабый, еле уловимый звук. Что это? Вой волка? А может, и рев медведя? Или крик человека?..
Мысли кипели в голове Вадима. Секунда, ещё – молниеносное решение принято. Он пошёл на странный звук. А тот становился всё сильнее и сильнее.
- Ау!.. Ау!..
- Эй, мы здесь! - что есть мочи выкрикнул Вадим.
Он увидел вспышку фонаря, а за ней стремительно идущего человека. Но кто же это был? Чем ближе подходил незнакомец, тем отчетливей просматривался его образ.
- Вася, это ты?! - изумлённо произнёс учитель.
- Я Василий Максимович! Как ваше им.. Вадька?! Это ты?!
Объятия, смех. Дети, проснувшиеся и удивлённо наблюдающие двух непонятно отчего счастливых людей. А потом – разговоры, разговоры у костра. И воспоминания: «А помнишь ту волчицу? А нашу любимую песню? А какая тогда была буря! Ого!»
Ученики с любопытством рассматривали этих взрослых: огромного мужчину в одежде спасателя и своего учителя, двух вчерашних мальчишек, бурно вспоминавших ту, десятилетней давности историю, когда они, перенесшие убийственную бурю и выбравшиеся из тайги, повзрослели и обрели себя. Один, раз и навсегда решивший помогать людям выжить, и другой, раз и навсегда решивший помогать людям не сбиться с жизненного пути.
Друзья встретились. На том же месте... Через десять лет. Природа, когда-то заставившая их повзрослеть за одни сутки, вновь свела их. И вновь проснулась старая дружба. Зачем? Да видимо, затем, чтобы один учил детей, а другой не давал им всем вместе пропасть. На том и стоит, тем и держится жизнь человеческая.
«Не зря я всё-таки поехал домой», – Думал Вадим, сидя в спящем автобусе, который мчался в родной город. Жизнь сложилась просто: переезд из посёлка в областной центр, учеба в университете. Он выбрал профессию учителя. Это была и тяга к знаниям, и желание приобщить к наукам других, и романтическое представление об учителе как о властителе дум. За эти годы он много взял, пора и вернуть. Решил вернуться на родину, в маленький таёжный посёлок. Повезло, в школе как раз требовался учитель литературы. Директора это обрадовало: молодой, перспективный, еще и земляк. Так и очутился он здесь, в стихии лесов, полей и рек…
Поменялось ли что в провинциальной жизни? Да, многое! Посёлок расцвел! Наконец-то выстроили школу (первый камень заложили ещё в 80-е, однако шли годы, а он так и лежал, покрывшись склизким мхом). Сейчас же это новое здание привлекало детей со всех соседних деревень. Эх.., а как же разрослись тёмно-красные дубы, огромные ветви которых дружно сплетались. Как же хорошо здесь дышалось! Как пело сердце в этом милом сердцу уголке!
Молодой учитель вышел из автобуса и побрел по дорогим сердцу улицам. И с тех пор было положено начало его работы. Вадиму сразу же дали свой класс – 5 Б. Малыши… В них кипит тяга к чему-то, а вот к чему? Никто не знает. Он, Вадим, должен это узнать, должен повести их за собой, чтобы не растеряли они по пути любознательности и веры в необходимость познания, не зачерствели душой. Именно в таком возрасте он вынужден был уехать с родителями в город. Хотел ли он этого? Наверное. Однако перемены повлекли за собой раздор в отношениях с друзьями, знакомыми и даже с природой!
Шли дни, новая жизнь кипела, искрясь яркими звёздами по ночам и будя бодрыми трелями птиц утром. А днём и вечером Вадим увлечённо делился знаниями. Его сердцу стал очень дорог класс. В нём было 18 человек, что по меркам поселковой школы было довольно много. Подростки приняли Вадима Александровича как давнего, но близкого знакомого. Так и прошли первые недели учёбы. Наступила пора осенних походов. Долго уговаривали ребята своего учителя об этом подарке, но он не решался, думая: «А если случится что-то непоправимое!? Вдруг мы заблудимся или, куда хуже, наткнёмся на топкое болото?» Вадим вспоминал себя! То время, когда он был ещё Вадькой! И то, как отправился с другом в путешествие по лесным переулкам! И то, как они потерялись, но смогли выбраться! И конечно же, то, как необыкновенная волчица вывела их из этого ветвистого, развороченного бурей леса!
Так сложилось, что Вася переехал в другой город. Очень тяжело было расставаться друзьям. Трудно прощаться с людьми, с которыми пуд соли съел или выпутался из какой-нибудь передряги. Но жизнь есть жизнь. Мчались годы, переполненные событиями, новыми яркими встречами. И старая, казалось бы, крепкая дружба измельчилась, как будто высохшая речонка, и засохла.
Вадим всё-таки решил сходить с ребятами в поход, вспомнив места потерявшегося во времени детства.
Радостные крики. Скорые сборы. И вот он – поход! Встреча была назначена после обеда, возле старого вокзала. Двенадцать пятиклассников и молодой учитель направились в неизвестную, но греющую сердце приветливым солнцем картину из детства. День был по-летнему тёплый, и ребята решили оставить дома куртки, пошли налегке, взяв лишь бутербродно-газировочный перекус. Тропа пролегала по бывшей просеке, заросшей светло-зелёными пихтами и царственными малахитовыми елями.
Вадим планировал пройти не больше получаса, устроить привал, а затем вернуться домой. Но то ли лесное переливание цветов, запахов и чувств, то ли громкие возгласы и задорный смех ребят погрузили учителя в забвение. Вспомнилось давнее: бредут два подростка в глубь леса, ничего не боятся – глупые ещё, несмышлёные. Одни отправились! И вдруг гроза, летящие в разные стороны ветви, листья, вырванные из земли с корнями деревья…
Вадим словно очнулся от воспоминания:
- Гм, да, ребятки. Залюбовались мы… Видно, вечер скоро, пять часов уж. Давайте-ка быстро перекусим и назад.
- Вадим Александрович, а вы помните обратный путь?
- А как же, вот по этой просеке пойдём. Два часа, и мы дома!
Но тут спокойное лицо учителя внезапно изменилось. Никакой тропы не было! Воспоминания десятилетней давности увели его в сторону от дороги. Заблудились!
Вадим успокоил ребят, хотя сам не на шутку испугался. Связь, а тем более интернет были недоступны. Любые попытки найти тропу заканчивались неудачей. Тогда-то молодой учитель и принял решение строить лагерь, как когда-то в детстве. Найдя подходящее место, воздвигли несколько шалашей из мха и веток, а затем, собрав охапку хвороста и толстых сучьев, принялись разжигать костёр. Немного подкрепились, и Вадим Александрович уложил детей спать в мягкие лесные кровати, сделанные из лапника, а сам сел у огня, нервно обдумывая всё случившееся. Но тут он заметил что-то в траве, словно яркий отблеск! Напряженность сменилась ошеломлением, руки затряслись, сердце чуть не выпрыгивало наружу! Вадим наткнулся на монету, которую десять лет назад здесь, в этом самом месте, может, когда разжигали костёр или тревожно пережидали ночь, обронили друзья! Вадька и Васёк!
…
Клонило в сон, когда он поймал взглядом самолёт, летящий на фоне синего бархатного неба, усыпанного звёздами. Всеми силами пытался не уснуть. Эта неделя выдалась тяжёлая… ЧП за ЧП, авария за аварией. И так день за днём.
- Василий Максимович, здравствуйте! Беда! Дети потерялись в лесу!
- Где? Когда? Сколько?
- 13 человек, вчера пошли в поход с учителем, должны были вернуться ещё к вечеру, но до сих не пришли. Нужно срочно ехать на помощь! Поеду я. Вы отдыхайте.
- Нет. Я еду! – твердо заявил спасатель. Он услышал название родного посёлка, решив во что бы то ни стало отправиться туда.
Пятиминутные сборы. Стремительная дорога к месту. Примчавшись на место, Василий узнал, что волонтёры уже два часа ведут поиск. По периметру леса гудят сирены и воют рупора. Все силы брошены на спасение детей!
Привыкнув к ночной глуши, спасатель по зову давнего забытого чувства выдвинулся в лес. Он сам прекрасно помнил себя, маленького сорванца, и своего лучшего друга. Их захватывающее путешествие! А ведь после этого у Васька появилась мечта стать спасателем. Он долго и упорно учился, занимался как теорией, так и практикой, часто ходил в лесные походы, набирался опыта. И такая подготовка принесла свои плоды! Василий - один из опытнейших спасателей области; многих он смог найти и вернуть домой, многие обязаны ему жизнью.
- Ауууу!.. – громким твердым голосом кричал спасатель. Идя размеренным широким шагом, он полностью погрузился в поиск.
Яркий фонарь ослеплял глухую тьму, придавая на мгновение доброты и света. А мрачный лес это – самое жуткое место. Хмурые, пугающие своими оживающими на секунду в всполохах света деревья, сумрачная трава, черное небо… И лишь луна скупо льёт белила, заставляя и без того напряженное сердце биться ещё чаще! А это постоянное позвякивание, похрюкивание, какое-то непонятное шипение… Таинственный шелест листвы, шуршание травы… Внезапно оглушающий крик какой-то сумасшедшей птицы! Оуу-оуу!
…
Вадим досадовал. Он хотел действовать, бежать, делать хоть что-то! Решив обойти лагерь, он слушал лес… Ууууу… Слабый, еле уловимый звук. Что это? Вой волка? А может, и рев медведя? Или крик человека?..
Мысли кипели в голове Вадима. Секунда, ещё – молниеносное решение принято. Он пошёл на странный звук. А тот становился всё сильнее и сильнее.
- Ау!.. Ау!..
- Эй, мы здесь! - что есть мочи выкрикнул Вадим.
Он увидел вспышку фонаря, а за ней стремительно идущего человека. Но кто же это был? Чем ближе подходил незнакомец, тем отчетливей просматривался его образ.
- Вася, это ты?! - изумлённо произнёс учитель.
- Я Василий Максимович! Как ваше им.. Вадька?! Это ты?!
Объятия, смех. Дети, проснувшиеся и удивлённо наблюдающие двух непонятно отчего счастливых людей. А потом – разговоры, разговоры у костра. И воспоминания: «А помнишь ту волчицу? А нашу любимую песню? А какая тогда была буря! Ого!»
Ученики с любопытством рассматривали этих взрослых: огромного мужчину в одежде спасателя и своего учителя, двух вчерашних мальчишек, бурно вспоминавших ту, десятилетней давности историю, когда они, перенесшие убийственную бурю и выбравшиеся из тайги, повзрослели и обрели себя. Один, раз и навсегда решивший помогать людям выжить, и другой, раз и навсегда решивший помогать людям не сбиться с жизненного пути.
Друзья встретились. На том же месте... Через десять лет. Природа, когда-то заставившая их повзрослеть за одни сутки, вновь свела их. И вновь проснулась старая дружба. Зачем? Да видимо, затем, чтобы один учил детей, а другой не давал им всем вместе пропасть. На том и стоит, тем и держится жизнь человеческая.
Худяков Савелий. Наследники древних богов
Бездомный котенок лежал клубочком на теплотрассе и грустно вздыхал. Наступал вечер, и рождественские морозы входили в полную силу. Заканчивался еще один никчемный день его никчемной жизни. Сегодня, как и вчера, и позавчера, и неделю назад ему не удалось поесть перед сном, а значит еще один шанс пережить морозы лопнул, как мыльный пузырь. Да еще дети сегодня бросали в него камни, а собаки гоняли по улице, пытаясь схватить за давно обмороженный хвост. Котенок дернулся, теснее прижимая к себе свой многострадальный хвост, уткнул в него нос и задремал.
Ах, если бы… Если бы кошки могли сами выбирать себе дом и хозяев! В полудреме ему представилось, как он живет в теплом доме, где у него есть удобная лежанка, и две, нет, четыре миски полные еды, всегда свежей и вкусной. Собаки строго сидят на цепи, а дети носят его на руках. От нахлынувших чувств котенок громко замурчал и проснулся.
В проводах затрещал мороз, а рядом кто-то мяукнул. Бездомыш поднял глаза и увидел рядом старую кошку, которая с интересом смотрела на него.
- Здравствуй, малыш. Прекрасный вечер для счастья, не правда ли …?
- Не вижу ничего прекрасного! От мороза я не чувствую лап и хвоста, желудок свело от голода, собаки и дети уже достали, – раздраженно профырчал котенок.
- А ты все ворчишь? - улыбнулась старая кошка. – Неужели жизнь так ужасна?
- Нет, у меня все хорошо, – съязвил котенок, пытаясь поудобнее устроиться на трубе. Подумаешь, не ел уже неделю, и хвост скоро отвалится от холода. Вот если бы кошки могли сами выбирать дом и хозяев…
В подслеповатых глазах старой кошки блеснула хитринка.
- Но мы же наследники древних богов, и нам все под силу.
- Ага, как же, - возмутился Бездомыш. – Мы значит боги и все можем, но почему же на улицах с каждым днем нас все больше, и мы часто погибаем на помойках от голода или холода.
- Да, мы потомки богов, пусть со временем мы немного утратили свою магию, но нам до сих пор под силу управлять миром, а найти себе новый дом - пара пустяков, стоит только очень захотеть.
- Следуя твоим словам, стоит мне только махнуть хвостом, и новый хозяин прибежит ко мне сам? – съязвил котенок.
- Нет, просто перестань жаловаться на свою жизнь. Посмотри на все другим взглядом, и ты увидишь, как поменяется мир вокруг тебя. И свет в окне твоего нового дома засияет для тебя ярче, – ответила старая кошка.
Бездомыш призадумался, и что-то в голове у него начало меняться. В этот момент вдалеке стукнула дверь, котенок моргнул, встал на лапы и повернул голову в сторону звука. Там ярко светилось окно дома, а возле него ходил человек, разметая снег.
- Это же он, слышишь, старая кошка, я его нашел, мой дом и хозяин, – повернув голову, закричал Бездомыш, но рядом никого не было. Котенок на пару секунд задумался, а потом бросился к дому и человеку. Он бежал и громко кричал ему, что вот он, что он его нашел.
Мужчина мел снег и, когда к нему подбежал худой и замерзший котенок, очень удивился, ведь он знал всех кошек, которые живут на его улице. Он попытался прогнать его прочь, но он не уходил и следовал за ним по пятам, постоянно мяукая.
- Я не могу тебя взять к себе, – сказал человек. – У меня уже есть кошка. Но малыш не уходил, а все теснее прижимался к ноге.
-И что же мне с тобой делать? – спросил у него человек.
В этот момент на улицу вышла женщина.
- Вот! – сказал человек, - пришел и не уходит! Что будем делать? Куда его девать?
Люди стояли, тихо переговариваясь, а котенок пытался всей своей душой повернуть колесо мира в другую сторону, чтобы заработала его древняя магия. Он так погрузился в свои мысли, что чуть не пропустил самые важные слова своей жизни.
- Кошки приходят в дом к счастью, – сказала женщина. - Тем более, что сегодня сочельник. Значит, так и быть, берем его домой.
И уже ночью котенок, под новым именем, чистый после купания, накормленный сытным ужином, спал в теплой постели, прижимаясь боком к ноге своего самого лучшего хозяина, иногда вздрагивая и проверяя лапой, не сон ли это.
А в небе светила рождественская звезда, и в ее сиянии можно было угадать лукавую мордочку старой кошки.
Бездомный котенок лежал клубочком на теплотрассе и грустно вздыхал. Наступал вечер, и рождественские морозы входили в полную силу. Заканчивался еще один никчемный день его никчемной жизни. Сегодня, как и вчера, и позавчера, и неделю назад ему не удалось поесть перед сном, а значит еще один шанс пережить морозы лопнул, как мыльный пузырь. Да еще дети сегодня бросали в него камни, а собаки гоняли по улице, пытаясь схватить за давно обмороженный хвост. Котенок дернулся, теснее прижимая к себе свой многострадальный хвост, уткнул в него нос и задремал.
Ах, если бы… Если бы кошки могли сами выбирать себе дом и хозяев! В полудреме ему представилось, как он живет в теплом доме, где у него есть удобная лежанка, и две, нет, четыре миски полные еды, всегда свежей и вкусной. Собаки строго сидят на цепи, а дети носят его на руках. От нахлынувших чувств котенок громко замурчал и проснулся.
В проводах затрещал мороз, а рядом кто-то мяукнул. Бездомыш поднял глаза и увидел рядом старую кошку, которая с интересом смотрела на него.
- Здравствуй, малыш. Прекрасный вечер для счастья, не правда ли …?
- Не вижу ничего прекрасного! От мороза я не чувствую лап и хвоста, желудок свело от голода, собаки и дети уже достали, – раздраженно профырчал котенок.
- А ты все ворчишь? - улыбнулась старая кошка. – Неужели жизнь так ужасна?
- Нет, у меня все хорошо, – съязвил котенок, пытаясь поудобнее устроиться на трубе. Подумаешь, не ел уже неделю, и хвост скоро отвалится от холода. Вот если бы кошки могли сами выбирать дом и хозяев…
В подслеповатых глазах старой кошки блеснула хитринка.
- Но мы же наследники древних богов, и нам все под силу.
- Ага, как же, - возмутился Бездомыш. – Мы значит боги и все можем, но почему же на улицах с каждым днем нас все больше, и мы часто погибаем на помойках от голода или холода.
- Да, мы потомки богов, пусть со временем мы немного утратили свою магию, но нам до сих пор под силу управлять миром, а найти себе новый дом - пара пустяков, стоит только очень захотеть.
- Следуя твоим словам, стоит мне только махнуть хвостом, и новый хозяин прибежит ко мне сам? – съязвил котенок.
- Нет, просто перестань жаловаться на свою жизнь. Посмотри на все другим взглядом, и ты увидишь, как поменяется мир вокруг тебя. И свет в окне твоего нового дома засияет для тебя ярче, – ответила старая кошка.
Бездомыш призадумался, и что-то в голове у него начало меняться. В этот момент вдалеке стукнула дверь, котенок моргнул, встал на лапы и повернул голову в сторону звука. Там ярко светилось окно дома, а возле него ходил человек, разметая снег.
- Это же он, слышишь, старая кошка, я его нашел, мой дом и хозяин, – повернув голову, закричал Бездомыш, но рядом никого не было. Котенок на пару секунд задумался, а потом бросился к дому и человеку. Он бежал и громко кричал ему, что вот он, что он его нашел.
Мужчина мел снег и, когда к нему подбежал худой и замерзший котенок, очень удивился, ведь он знал всех кошек, которые живут на его улице. Он попытался прогнать его прочь, но он не уходил и следовал за ним по пятам, постоянно мяукая.
- Я не могу тебя взять к себе, – сказал человек. – У меня уже есть кошка. Но малыш не уходил, а все теснее прижимался к ноге.
-И что же мне с тобой делать? – спросил у него человек.
В этот момент на улицу вышла женщина.
- Вот! – сказал человек, - пришел и не уходит! Что будем делать? Куда его девать?
Люди стояли, тихо переговариваясь, а котенок пытался всей своей душой повернуть колесо мира в другую сторону, чтобы заработала его древняя магия. Он так погрузился в свои мысли, что чуть не пропустил самые важные слова своей жизни.
- Кошки приходят в дом к счастью, – сказала женщина. - Тем более, что сегодня сочельник. Значит, так и быть, берем его домой.
И уже ночью котенок, под новым именем, чистый после купания, накормленный сытным ужином, спал в теплой постели, прижимаясь боком к ноге своего самого лучшего хозяина, иногда вздрагивая и проверяя лапой, не сон ли это.
А в небе светила рождественская звезда, и в ее сиянии можно было угадать лукавую мордочку старой кошки.
Шебалина Алиса. Тане страшно
За окном метель, собаки, привязанные недобросовестными хозяевами на цепь пронзают воздух своим лаем. Им страшно, им холодно.
Тане страшно. Она не сидит на цепи, ей не холодно. Она не кричит, бессмысленно. Лишь тихо плачет.
Папа Тани берёт штопор. Снова страшный звук открытой бутылки. Тане страшно.
Она всё ещё не кричит.
Бутылка ударяется об бутылку, жестяная банка об жестяную банку.
Громко.
Как собаки на улице.
Страшно. Звук ударов посуды значит, что папе больше нечего пить.
Папа начинает кричать. Даже громче метели, громче чем собаки. Он тоже не на цепи, ему тоже не холодно. Но ему и не страшно. Кричит он от злости. Тане страшно.
Папа кричит в её сторону что-то про уважение,
что-то про нытиков,
что-то про тряпок,
что-то про любовь.
Тане непонятно, Тане страшно. Она всё ещё плачет.
Даже собаки на фоне замолчали.
Будто бы сочувствуют Тане.
Бутылки лежат на полу. Уже бесшумно. Папа их не кидает.
Метель стихает.
Папа начинает успокаиваться.
Лишь Тане всё ещё страшно. Она пытается стянуть со стола штопор. Но роста не хватает. И смелости.
Папа спит, собаки не воют, метель почти кончилось. Таня плачет, убирая с пола осколки, старается не порезаться. Ночь кончилась. А жизнь нет.
Спустя много лет на улице снова метель, снова лай собак.
Алкоголь всегда кончается. За ним всегда следуют удары бутылок и банок друг об друга.
За этим следует крик папы.
Снова про уважение, снова про нытиков, снова про тряпок, снова про любовь.
Таня знает, что ни любви, ни уважения больше нет. Крик папы – больше не крик, а скорее жалкие попытки что-то прохрипеть.
Тане больше не страшно.
Таня кричит в ответ, кричит от злости.
Ей неважно, есть на улице метель или нет.
Она ждёт лишь момента, когда папа уснёт.
И она снова уберёт осколки. Как в детстве.
Только вот Таня выросла. А страх остался в детстве.
За окном метель, собаки, привязанные недобросовестными хозяевами на цепь пронзают воздух своим лаем. Им страшно, им холодно.
Тане страшно. Она не сидит на цепи, ей не холодно. Она не кричит, бессмысленно. Лишь тихо плачет.
Папа Тани берёт штопор. Снова страшный звук открытой бутылки. Тане страшно.
Она всё ещё не кричит.
Бутылка ударяется об бутылку, жестяная банка об жестяную банку.
Громко.
Как собаки на улице.
Страшно. Звук ударов посуды значит, что папе больше нечего пить.
Папа начинает кричать. Даже громче метели, громче чем собаки. Он тоже не на цепи, ему тоже не холодно. Но ему и не страшно. Кричит он от злости. Тане страшно.
Папа кричит в её сторону что-то про уважение,
что-то про нытиков,
что-то про тряпок,
что-то про любовь.
Тане непонятно, Тане страшно. Она всё ещё плачет.
Даже собаки на фоне замолчали.
Будто бы сочувствуют Тане.
Бутылки лежат на полу. Уже бесшумно. Папа их не кидает.
Метель стихает.
Папа начинает успокаиваться.
Лишь Тане всё ещё страшно. Она пытается стянуть со стола штопор. Но роста не хватает. И смелости.
Папа спит, собаки не воют, метель почти кончилось. Таня плачет, убирая с пола осколки, старается не порезаться. Ночь кончилась. А жизнь нет.
Спустя много лет на улице снова метель, снова лай собак.
Алкоголь всегда кончается. За ним всегда следуют удары бутылок и банок друг об друга.
За этим следует крик папы.
Снова про уважение, снова про нытиков, снова про тряпок, снова про любовь.
Таня знает, что ни любви, ни уважения больше нет. Крик папы – больше не крик, а скорее жалкие попытки что-то прохрипеть.
Тане больше не страшно.
Таня кричит в ответ, кричит от злости.
Ей неважно, есть на улице метель или нет.
Она ждёт лишь момента, когда папа уснёт.
И она снова уберёт осколки. Как в детстве.
Только вот Таня выросла. А страх остался в детстве.
Герасимова Софья. История одной дружбы
Так уж повелось, что летние каникулы Иринка всегда проводила в деревне у своей бабушки Тони: мать растила дочку одна, а на зарплату швеи на курорты не наездишься. Ну, а Иринка и не жаловалась, ей нравился маленький уютный домик с резными ставенками, огурцы с грядки, смородинка с куста, пышные оладьи ласковой бабули и добрейшей души собака Пальма. А за околицей и речка, и лесок имелись. Что ещё надо для счастья десятилетней девчонке? Разве только хорошая подружка для забав и сердечных откровений.
А такая как раз и была – ровесница Маринка, что из самой Москвы каждый год сюда на дачу с мамой приезжала. Хорошо девочкам было на деревенских просторах! За день так набегаются, наиграются, что вечером как до кровати доберутся, так и заснут сразу. У бабушки Тони сад хороший был, подружки каждый день яблоки и груши прямо с земли в подол собирали и тут же съедали. Что тут скажешь, детство – золотая пора.
Маринкина мама любила цветы разводить разные возле дома – красота необыкновенная. Всё благоухало и радовало глаз буйством красок. Подружки за цветочками ухаживали, поливали их, сорняки вырывали, а вечером домой букетики приносили. В цветнике и договорились девчонки встретиться через десять лет на этом же месте. И всё было хорошо. До поры до времени.
Приехала как-то в деревню погостить, свежим воздухом подышать Маринкина сестра двоюродная, постарше её на год, бойкая, заносчивая. Рядом с ней Иринка простушкой казалась. Стали сёстры всюду вместе ходить: и на речку, и на луг, а больше им никто не нужен был. «Можно мне с вами на качелях покататься?» - спросила девочка, а ей ни слова в ответ, только пригрозили, чтоб за ними не ходила, а то тумаков получит. Обидно ей стало, не ожидала она такого от Маринки. Побежала домой и расплакалась.
Бабушка Тоня, как могла, утешала внучку и говорила, чтобы та не робела, чтобы могла за себя постоять, сдачи дать. Вышла Иринка на улицу, а подружки смотрят на неё да посмеиваются. Вспомнила она бабушкины слова, подбежала к москвичкам и давай их изо всех сил за косы дёргать. Испугались тут сёстры и побежали взрослым жаловаться. А Иринка и сама струсила, думает, что же она наделала.
Вечером на неё жаловаться приходила мама той вредной москвички. Иринка извинилась, конечно. А вот обида её никак не проходила, измучила совсем. И решила она в сердцах тайно все цветы у Маринкиного дома оборвать. Так велико было её горе детское! Задумано – сделано... Потом долго со стыдом вспоминала, как в слезах топтала георгины, откручивала головки астр, вырывала с корнем лилии. Ругала она потом себя за это сильно. Цветы ведь не виноваты, они землю украшают.
Никто не узнал, что астры и георгины девочка сгубила. И сама она старалась забыть об этом.
Через некоторое время Маринка с сестрой и мамой уехали. Плохо Иринке без подружки было, тоскливо. Ждала она её приезда в деревню каждое лето, но та не появлялась. В дачном доме Маринкиных родителей поселились другие люди, от них стало известно, что подруга с семьёй уехала за границу, где работал её отец.
Прошло десять лет. Иринка уже успешно училась в медицинском университете. В июле она, как всегда, поехала к бабушке Тоне, помогала ей по хозяйству.
В один тихий летний вечер бабушка с внучкой смотрели семейные фотографии, среди них была и та, где восьмилетние девчушки поливали в цветнике георгины, лилии и астры. «Где ты теперь, Маринка, подружка детства моего? Десять лет уже не виделись», - вздохнув, подумала Иринка. Ей захотелось пройтись там, где юные подружки проводили счастливые денёчки. Когда она подходила к тому месту, где раньше был цветник, рядом с ней остановилась легковая машина, из которой вышла красивая девушка. «Наверное, спросить о чём-то хочет», - подумала Иринка. Девушка почему-то молчала и улыбалась, а потом тихо сказала: «На том же месте через десять лет…Я всё-таки успела».
Прошло немало времени с тех пор. Иринка и Маринка выросли, приезжают летом в деревню на свежее молочко и творожок вместе со своими детьми и по-прежнему дружат, и дети их тоже товарищами стали. Как-то Иринка рассказала подруге о том, как от детской обиды со слезами на глазах цветы обрывала, цветник разоряла, и попросила извинить её. «Не надо извиняться, подружка. Я всё поняла сразу – ты на клумбе свою заколку потеряла. Об этом никто не знал. Это я во всём виновата! Прости меня!» - сказала Маринка.
Каждый год в день рождения Маринки подруга приносит ей огромный букет из астр, георгин и лилий. Очень они их любят и, глядя на них, грустят иногда об ушедшем детстве – золотой поре.
Так уж повелось, что летние каникулы Иринка всегда проводила в деревне у своей бабушки Тони: мать растила дочку одна, а на зарплату швеи на курорты не наездишься. Ну, а Иринка и не жаловалась, ей нравился маленький уютный домик с резными ставенками, огурцы с грядки, смородинка с куста, пышные оладьи ласковой бабули и добрейшей души собака Пальма. А за околицей и речка, и лесок имелись. Что ещё надо для счастья десятилетней девчонке? Разве только хорошая подружка для забав и сердечных откровений.
А такая как раз и была – ровесница Маринка, что из самой Москвы каждый год сюда на дачу с мамой приезжала. Хорошо девочкам было на деревенских просторах! За день так набегаются, наиграются, что вечером как до кровати доберутся, так и заснут сразу. У бабушки Тони сад хороший был, подружки каждый день яблоки и груши прямо с земли в подол собирали и тут же съедали. Что тут скажешь, детство – золотая пора.
Маринкина мама любила цветы разводить разные возле дома – красота необыкновенная. Всё благоухало и радовало глаз буйством красок. Подружки за цветочками ухаживали, поливали их, сорняки вырывали, а вечером домой букетики приносили. В цветнике и договорились девчонки встретиться через десять лет на этом же месте. И всё было хорошо. До поры до времени.
Приехала как-то в деревню погостить, свежим воздухом подышать Маринкина сестра двоюродная, постарше её на год, бойкая, заносчивая. Рядом с ней Иринка простушкой казалась. Стали сёстры всюду вместе ходить: и на речку, и на луг, а больше им никто не нужен был. «Можно мне с вами на качелях покататься?» - спросила девочка, а ей ни слова в ответ, только пригрозили, чтоб за ними не ходила, а то тумаков получит. Обидно ей стало, не ожидала она такого от Маринки. Побежала домой и расплакалась.
Бабушка Тоня, как могла, утешала внучку и говорила, чтобы та не робела, чтобы могла за себя постоять, сдачи дать. Вышла Иринка на улицу, а подружки смотрят на неё да посмеиваются. Вспомнила она бабушкины слова, подбежала к москвичкам и давай их изо всех сил за косы дёргать. Испугались тут сёстры и побежали взрослым жаловаться. А Иринка и сама струсила, думает, что же она наделала.
Вечером на неё жаловаться приходила мама той вредной москвички. Иринка извинилась, конечно. А вот обида её никак не проходила, измучила совсем. И решила она в сердцах тайно все цветы у Маринкиного дома оборвать. Так велико было её горе детское! Задумано – сделано... Потом долго со стыдом вспоминала, как в слезах топтала георгины, откручивала головки астр, вырывала с корнем лилии. Ругала она потом себя за это сильно. Цветы ведь не виноваты, они землю украшают.
Никто не узнал, что астры и георгины девочка сгубила. И сама она старалась забыть об этом.
Через некоторое время Маринка с сестрой и мамой уехали. Плохо Иринке без подружки было, тоскливо. Ждала она её приезда в деревню каждое лето, но та не появлялась. В дачном доме Маринкиных родителей поселились другие люди, от них стало известно, что подруга с семьёй уехала за границу, где работал её отец.
Прошло десять лет. Иринка уже успешно училась в медицинском университете. В июле она, как всегда, поехала к бабушке Тоне, помогала ей по хозяйству.
В один тихий летний вечер бабушка с внучкой смотрели семейные фотографии, среди них была и та, где восьмилетние девчушки поливали в цветнике георгины, лилии и астры. «Где ты теперь, Маринка, подружка детства моего? Десять лет уже не виделись», - вздохнув, подумала Иринка. Ей захотелось пройтись там, где юные подружки проводили счастливые денёчки. Когда она подходила к тому месту, где раньше был цветник, рядом с ней остановилась легковая машина, из которой вышла красивая девушка. «Наверное, спросить о чём-то хочет», - подумала Иринка. Девушка почему-то молчала и улыбалась, а потом тихо сказала: «На том же месте через десять лет…Я всё-таки успела».
Прошло немало времени с тех пор. Иринка и Маринка выросли, приезжают летом в деревню на свежее молочко и творожок вместе со своими детьми и по-прежнему дружат, и дети их тоже товарищами стали. Как-то Иринка рассказала подруге о том, как от детской обиды со слезами на глазах цветы обрывала, цветник разоряла, и попросила извинить её. «Не надо извиняться, подружка. Я всё поняла сразу – ты на клумбе свою заколку потеряла. Об этом никто не знал. Это я во всём виновата! Прости меня!» - сказала Маринка.
Каждый год в день рождения Маринки подруга приносит ей огромный букет из астр, георгин и лилий. Очень они их любят и, глядя на них, грустят иногда об ушедшем детстве – золотой поре.
Гуркова Алина. Капсула времени
- Как насчёт писем? – спросил Андрей, переворачивая длинной опаленной палкой угли в костре. - Через 10 лет прочитаем свои послания.
- Мне нравится, - ответила Ангелина, быстро допила сок и подняла руку, поддерживая идею друга. Она всегда была очень бодрой и активной.
- Давайте, - согласился Владимир, который был занят нанизыванием кусков хлеба на единственный в нашем импровизированном лагере шампур. Из-за расстояния его было не очень хорошо слышно, но Андрей быстро записал его мнение в свой блокнот.
- Я тоже за, - сказал я, подойдя к костру с охапкой сухих веток и положив их рядом с пнём, на котором сидел, и поднял руку.
Этой летней ночью мы, собравшись своей небольшой компанией в близлежащем лесу на ночёвку, решили закопать капсулу времени. В последние годы это стало очень популярным занятием, и многие подростки оставляли вещи или исписанные бумаги в какой-то коробочке, которая лежала, словно мёртвое тело, в земле какое-то количество времени. Мне всегда нравилась эта идея, но из-за своей нерешительности я всё никак не мог её предложить на наших собраниях и лишь шепнул о ней Андрею. Он мозг нашей группы, и многие его, как минимум, послушают, если не поддержат. Андрей очень рассудительный и добрый… Пока я оставался неловким и тихим.
Диана замялась, но в итоге подняла руку через некоторое время после меня.
- Я уже как-то участвовала в закапывании капсулы, - сказала девочка,- но в итоге её раскопал один из моих знакомых через неделю и прочитал все послания. Я надеюсь на вашу честность, ребята.
Я понимал настороженность Дианы. Она всегда мне нравилась: активистка нашего класса, отзывчивая, с чувством юмора, общительная, и только недавно присоединилась к нашему небольшому дружному коллективу.
- Хорошо, - сказал Андрей, вырвал из блокнота четыре чистых листа и раздал их каждому в руки, как только все уселись у бушующего огня. – Через пять минут свернём их и положим в коробку.
Коробка стояла поодаль от освещённого костром круга, у одной из двух палаток. Закопать мы её планировали около кострища утром, когда будем уходить.
Я прожигал листок взглядом целую минуту, пока мысли роились в моей голове, перебивая друг друга. В конце концов моя рука начала следовать моим упорядоченным в голове словам, разливая их краски на лист.
«Я хотел бы оставаться в нашей компании до тех пор, пока это будет возможно. Надеюсь, что не прерву связь со своими друзьями»
В эти несколько предложений вылились моя отчаянная преданность и любовь к школьным друзьям, искренне приятное тепло в груди от каждой нашей встречи, те чувства, что я испытывал при воспоминании о каком-либо нашем интересном совместном мероприятии.
Мы были одной большой семьей, хотя каждый из нас был индивидуален. Но нашу индивидуальность перебивало общее стремление к дружбе, настоящей и крепкой. Мы чувствовали себя частью коллектива, где каждый стоит друг за друга, где каждый готов прийти на помощь в трудную минуту. И нашим девизом были слова: «Один за всех, все за одного!»
В итоге я последний из всех положил свой лист в коробку, и клетчатая бумага исчезла в кромешной темноте на долгие десять лет.
Пестрящие оттенками красного и жёлтого листья хрустели под ногами, пока серые тучи сгущались в темнеющее пятно на осеннем небе. На месте, где стоял наш лагерь, ничего о нём не напоминало: пепел разнёс вечно спешащий ветер, ветки растасканы, укрыты листьями, а прижатая палатками трава давно засохла и сменилась новой, которую ждёт та же участь. За десять лет стёрлись все напоминания о той осенней ночи, кроме засевших в чертогах памяти воспоминаний.
Я посмотрел на часы. На самом деле было довольно рано, но мы никогда не обговаривали время сбора, насколько я помнил. А если и обговаривали, то такая незначительная деталь успела скрыться пеленой пережитых позже моментов, значительных перемен в нашей жизни.
Я сел на пень от срубленного кем-то дерева неподалёку от места, где располагался наш лагерь. Мы закончили школу, разлетелись, кто куда. На много лет мы потеряли связь друг с другом, как это часто случается, хотя и уверяли себя, что не забудем друг друга никогда.
Насколько я помню, первым со всеми потерял связь Владимир. Его семья уехала в другую страну, и, хотя он и поделился с нами своим мобильным номером, за всё время от него не было ни одного звонка.
Второй исчезла из нашей компании Ангелина. После успешной сдачи экзаменов она уехала учиться в колледж, который находился в другом городе. Туда же переехала и её семья, с помощью которой мы некоторое время поддерживали связь с Ангелиной.
Наша оставшаяся троица общалась до того момента, пока мы не поступили в университеты. Не нужно упоминать, что все разъехались по разным городам; для меня наша разлука прошла незаметно, безболезненно, хотя, задумываясь об этом сейчас, я чувствую горечь. Погрузившись в свою жизнь, мы забыли друг о друге.
Спустя час ожидания я услышал шуршание листьев и быстро повернул голову в сторону источника звука. Вместо привычной моим воспоминаниям фигуры рослого подростка со смешными очками, я увидел взрослого высокого темноволосого мужчину в строгой одежде и очках с изящной оправой. Андрей во многом успел измениться.
- Как… как жизнь? – спросил я.
- Всё хорошо… А у тебя? – поинтересовался он. Его голос больше не звучал так, как раньше, а стал мягче и приглушеннее.
- Тоже неплохо.
Я неловко поддерживал развернувшийся между нами диалог, понимая, что у нас есть многое, о чём друг другу рассказать, но хотелось совсем другого: всё больше зрело желание открыть коробку. Я примерно помнил только общий смысл своего сообщения, но…
- Больше, наверное, никто не придёт… – сказал я, осматриваясь по сторонам.
- Видимо, нет. Откроем?
Я молча кивнул, доставая из своего рюкзака маленькую лопатку. Подходя к нужному месту, я почувствовал волнение и проглотил застывший в горле ком. Я расчистил предполагаемое место, вырыл неглубокую ямку и увидел край коробки. Мы с Андреем аккуратно вынули её, сняли крышку и достали заветные листки. Свой я нашёл достаточно быстро.
«Я хотел бы оставаться в нашей компании до тех пор, пока это будет возможно. Надеюсь, что не прерву связь со своими друзьями».
Мне было грустно. Всё-таки я не оправдал свои надежды, и горькая полуулыбка застыла у меня на лице.
На лице Андрея в это время я увидел ту же грусть. Мы поменялись своими листками.
«Я очень рад, что смог подружиться со всеми. Я никак не мог влиться в какую-либо компанию, некоторые считали меня скучным, отстранённым, но позже нашёл вас, и вы меня приняли; я не хочу, чтобы наша дружба обрывалась».
Его почерк был аккуратный, а в словах прослеживалась неподдельная искренность. Я взглянул на него.
- Прочитаем другие?
- Давай!
«Я надеюсь, что в будущем смогу стать богатой и успешной. Если это случится, то я куплю большой дом и приглашу вас всех в гости. Сколько будет интересных воспоминаний! Я буду помнить о вас всегда!»
Ангелина, Ангелина…Буквы в её почерке скакали то вверх, то вниз. Детские наивные мечты, которые не осуществились.
«Хочу стать пилотом, летать на больших воздушных судах. Небо прекрасно! Оно манит меня к себе. Мечтаю нашей компанией подняться в небо на самолете, который буду вести я. Друзья мои, прекрасен наш союз!».
Я помню, что Владимир всегда хотел стать лётчиком, поэтому и его разговоры были только о небе.
«Я недавно в этой компании, но с ребятами мне уютно и тепло. Они классные! Никогда не забуду!»
Письмо Дианы было самым коротким, но таким понятным.
Я прочитал все эти послания залпом, и после последнего все чувства от них нахлынули сразу. Глаза бесконтрольно покраснели, и по щекам скатывались непрошеные слёзы. Андрей выглядел не лучше, но подошёл и дружески похлопал меня по плечу.
Через некоторое время мы с ним ловко развели костёр на том же месте, где он горел десять лет назад. Когда он заговорил, письма уже догорали, подкармливая огонь, а открытая коробка стояла в стороне.
- Жаль, что детские мечты остаются только детскими…
- Как насчёт писем? – спросил Андрей, переворачивая длинной опаленной палкой угли в костре. - Через 10 лет прочитаем свои послания.
- Мне нравится, - ответила Ангелина, быстро допила сок и подняла руку, поддерживая идею друга. Она всегда была очень бодрой и активной.
- Давайте, - согласился Владимир, который был занят нанизыванием кусков хлеба на единственный в нашем импровизированном лагере шампур. Из-за расстояния его было не очень хорошо слышно, но Андрей быстро записал его мнение в свой блокнот.
- Я тоже за, - сказал я, подойдя к костру с охапкой сухих веток и положив их рядом с пнём, на котором сидел, и поднял руку.
Этой летней ночью мы, собравшись своей небольшой компанией в близлежащем лесу на ночёвку, решили закопать капсулу времени. В последние годы это стало очень популярным занятием, и многие подростки оставляли вещи или исписанные бумаги в какой-то коробочке, которая лежала, словно мёртвое тело, в земле какое-то количество времени. Мне всегда нравилась эта идея, но из-за своей нерешительности я всё никак не мог её предложить на наших собраниях и лишь шепнул о ней Андрею. Он мозг нашей группы, и многие его, как минимум, послушают, если не поддержат. Андрей очень рассудительный и добрый… Пока я оставался неловким и тихим.
Диана замялась, но в итоге подняла руку через некоторое время после меня.
- Я уже как-то участвовала в закапывании капсулы, - сказала девочка,- но в итоге её раскопал один из моих знакомых через неделю и прочитал все послания. Я надеюсь на вашу честность, ребята.
Я понимал настороженность Дианы. Она всегда мне нравилась: активистка нашего класса, отзывчивая, с чувством юмора, общительная, и только недавно присоединилась к нашему небольшому дружному коллективу.
- Хорошо, - сказал Андрей, вырвал из блокнота четыре чистых листа и раздал их каждому в руки, как только все уселись у бушующего огня. – Через пять минут свернём их и положим в коробку.
Коробка стояла поодаль от освещённого костром круга, у одной из двух палаток. Закопать мы её планировали около кострища утром, когда будем уходить.
Я прожигал листок взглядом целую минуту, пока мысли роились в моей голове, перебивая друг друга. В конце концов моя рука начала следовать моим упорядоченным в голове словам, разливая их краски на лист.
«Я хотел бы оставаться в нашей компании до тех пор, пока это будет возможно. Надеюсь, что не прерву связь со своими друзьями»
В эти несколько предложений вылились моя отчаянная преданность и любовь к школьным друзьям, искренне приятное тепло в груди от каждой нашей встречи, те чувства, что я испытывал при воспоминании о каком-либо нашем интересном совместном мероприятии.
Мы были одной большой семьей, хотя каждый из нас был индивидуален. Но нашу индивидуальность перебивало общее стремление к дружбе, настоящей и крепкой. Мы чувствовали себя частью коллектива, где каждый стоит друг за друга, где каждый готов прийти на помощь в трудную минуту. И нашим девизом были слова: «Один за всех, все за одного!»
В итоге я последний из всех положил свой лист в коробку, и клетчатая бумага исчезла в кромешной темноте на долгие десять лет.
Пестрящие оттенками красного и жёлтого листья хрустели под ногами, пока серые тучи сгущались в темнеющее пятно на осеннем небе. На месте, где стоял наш лагерь, ничего о нём не напоминало: пепел разнёс вечно спешащий ветер, ветки растасканы, укрыты листьями, а прижатая палатками трава давно засохла и сменилась новой, которую ждёт та же участь. За десять лет стёрлись все напоминания о той осенней ночи, кроме засевших в чертогах памяти воспоминаний.
Я посмотрел на часы. На самом деле было довольно рано, но мы никогда не обговаривали время сбора, насколько я помнил. А если и обговаривали, то такая незначительная деталь успела скрыться пеленой пережитых позже моментов, значительных перемен в нашей жизни.
Я сел на пень от срубленного кем-то дерева неподалёку от места, где располагался наш лагерь. Мы закончили школу, разлетелись, кто куда. На много лет мы потеряли связь друг с другом, как это часто случается, хотя и уверяли себя, что не забудем друг друга никогда.
Насколько я помню, первым со всеми потерял связь Владимир. Его семья уехала в другую страну, и, хотя он и поделился с нами своим мобильным номером, за всё время от него не было ни одного звонка.
Второй исчезла из нашей компании Ангелина. После успешной сдачи экзаменов она уехала учиться в колледж, который находился в другом городе. Туда же переехала и её семья, с помощью которой мы некоторое время поддерживали связь с Ангелиной.
Наша оставшаяся троица общалась до того момента, пока мы не поступили в университеты. Не нужно упоминать, что все разъехались по разным городам; для меня наша разлука прошла незаметно, безболезненно, хотя, задумываясь об этом сейчас, я чувствую горечь. Погрузившись в свою жизнь, мы забыли друг о друге.
Спустя час ожидания я услышал шуршание листьев и быстро повернул голову в сторону источника звука. Вместо привычной моим воспоминаниям фигуры рослого подростка со смешными очками, я увидел взрослого высокого темноволосого мужчину в строгой одежде и очках с изящной оправой. Андрей во многом успел измениться.
- Как… как жизнь? – спросил я.
- Всё хорошо… А у тебя? – поинтересовался он. Его голос больше не звучал так, как раньше, а стал мягче и приглушеннее.
- Тоже неплохо.
Я неловко поддерживал развернувшийся между нами диалог, понимая, что у нас есть многое, о чём друг другу рассказать, но хотелось совсем другого: всё больше зрело желание открыть коробку. Я примерно помнил только общий смысл своего сообщения, но…
- Больше, наверное, никто не придёт… – сказал я, осматриваясь по сторонам.
- Видимо, нет. Откроем?
Я молча кивнул, доставая из своего рюкзака маленькую лопатку. Подходя к нужному месту, я почувствовал волнение и проглотил застывший в горле ком. Я расчистил предполагаемое место, вырыл неглубокую ямку и увидел край коробки. Мы с Андреем аккуратно вынули её, сняли крышку и достали заветные листки. Свой я нашёл достаточно быстро.
«Я хотел бы оставаться в нашей компании до тех пор, пока это будет возможно. Надеюсь, что не прерву связь со своими друзьями».
Мне было грустно. Всё-таки я не оправдал свои надежды, и горькая полуулыбка застыла у меня на лице.
На лице Андрея в это время я увидел ту же грусть. Мы поменялись своими листками.
«Я очень рад, что смог подружиться со всеми. Я никак не мог влиться в какую-либо компанию, некоторые считали меня скучным, отстранённым, но позже нашёл вас, и вы меня приняли; я не хочу, чтобы наша дружба обрывалась».
Его почерк был аккуратный, а в словах прослеживалась неподдельная искренность. Я взглянул на него.
- Прочитаем другие?
- Давай!
«Я надеюсь, что в будущем смогу стать богатой и успешной. Если это случится, то я куплю большой дом и приглашу вас всех в гости. Сколько будет интересных воспоминаний! Я буду помнить о вас всегда!»
Ангелина, Ангелина…Буквы в её почерке скакали то вверх, то вниз. Детские наивные мечты, которые не осуществились.
«Хочу стать пилотом, летать на больших воздушных судах. Небо прекрасно! Оно манит меня к себе. Мечтаю нашей компанией подняться в небо на самолете, который буду вести я. Друзья мои, прекрасен наш союз!».
Я помню, что Владимир всегда хотел стать лётчиком, поэтому и его разговоры были только о небе.
«Я недавно в этой компании, но с ребятами мне уютно и тепло. Они классные! Никогда не забуду!»
Письмо Дианы было самым коротким, но таким понятным.
Я прочитал все эти послания залпом, и после последнего все чувства от них нахлынули сразу. Глаза бесконтрольно покраснели, и по щекам скатывались непрошеные слёзы. Андрей выглядел не лучше, но подошёл и дружески похлопал меня по плечу.
Через некоторое время мы с ним ловко развели костёр на том же месте, где он горел десять лет назад. Когда он заговорил, письма уже догорали, подкармливая огонь, а открытая коробка стояла в стороне.
- Жаль, что детские мечты остаются только детскими…
Дымников Сергей. Председательствует кот Василий
На юге Ленинградской области, в Лужском районе расположился наш любимый пансионат. Здесь созданы прекрасные условия для отдыха и спорта. Сюда приезжают не только поправить здоровье и отдохнуть, но и насладиться общением с природой. Живописный сосновый бор, обилие грибов и ягод, чудесное пение птиц по утрам гарантируют хорошее настроение любому.
Много тут и местных лесных жителей: мелких грызунов, ежиков, птиц. Не всех удается заметить даже внимательному любителю природы: ведут они скрытный образ жизни. А вот за некоторыми можно и понаблюдать человеку. Это дятлы, вороны и, конечно же, коты. Кстати, собакам на территорию пансионата вход категорически запрещен, и за этим бдительно следят местная служба безопасности.
Здесь живут аж три кошачьих семейства. У каждого клана своя неприкосновенная территория и свои привычки.
Первое семейство обитает возле электроподстанции, прямо за спортивно-оздоровительным комплексом. Возглавляет его сравнительно молодая кошка Анфиса. На вид серенькая и невзрачная, она отличается острым умом и коммуникабельностью. Анфиса первая подойдет к человеку, что зашел на её территорию и загляделся на котиков, внимательно осмотрит, принюхается, вопросительно мяукнет: «Кто ты, гость незваный? С чем пришел? С добром ли? А, может, угощение принес?» Если понравишься кошке, разрешит подойти остальным членам семьи, позволит себя погладить, с удовольствием посидит на ближайшей лавочке, помурлыкает о том о сём. Может и котятам своим позволить с тобой поиграть. Если же не понравился, раздается короткий утробный рык, и котята дружно прячутся под плитами теплотрассы. Там их даже грозные дворники достать не могут.
Нелегко приходится семейству Анфисы. Грызунов мало в округе, охота бывает не всегда удачной. За птицами охотиться намного сложнее. Дятлов тут много, но с вершин сосен они никогда не спускаются на землю, а разглядеть их среди сосновых веток трудно. Только то и слышно, как звук их постукивания раздается по всему лесу.
Вот вороны здесь на редкость крупные, больше самой Анфисы. Очень умные и серьёзные птицы. В споры за территорию с котами никогда не вступают, а вот разделить трапезу не отказываются. В небольшой стае, которая здесь обитает, строгая иерархия. Наблюдатель, как правило, сидит на самой высокой сосне и следит, где и что происходит. Если котам насыпали в миску корма, то раздается троекратное: «Каррр!». Тут же ворона – разведчик слетает с дерева и проверяет, съедобно ли, вкусно ли или вообще лучше не трогать. Коты тут же вежливо отходят на почтительное расстояние. Если угощение подходящее, раздается одобрительное: «Каррр!», и стая спускается к кошачьей миске. Самой старшей птице доверено «снять пробу». После её удовлетворенного урчания, к трапезе приступают остальные. А дежурный наблюдатель по-прежнему сторожит на высокой сосне, чтобы никто не помешал пиршеству. Хозяевам миски приходится терпеливо сидеть в сторонке, пока серые налетчики не насытятся. Они-то знают, что с воронами лучше не связываться, можно серьёзную травму получить: с хвостом расстаться, а то и глаза лишиться. А корма в миске котам хватит. Спасибо добрым сотрудникам пансионата да неравнодушным отдыхающим!
Второе кошачье семейство поселилось у лечебного корпуса. Старшим у них считается крупный кот Семен. Котик - обладатель необыкновенного светло-рыжего окраса. Из-за белого подшерстка кажется, что Семен излучает солнечный свет. Его часто так и зовут – Солнышко. Толстый и важный, как министр, Семен любит встретить нового гостя, проводить на крылечко: «Муррр! Давай с тобой посидим, поговорим!». Присядет гость на лавочку возле входа, а кот рядышком пристроится. Человек, поглаживая кота, заговорит о жизни, о погоде, о проблемах своих человечьих, а кот отвечает ему: «Муррр! Все пройдет! Все хорошо будет!». Смотришь, повеселел гость, морщинки разгладились, улыбается. Уже задумывается, а надо ли к медикам идти? И доктор, подглядывая в окно, улыбается. Вот такая кототерапия получается!
В нескольких шагах от лечебного корпуса, на высоком берегу реки Студенки растут несколько вековых елей. Среди пушистых ветвей и сейчас еще можно разглядеть беличье гнездо – гаёк. Совсем недавно тут жили белки. Отдыхающие угощали их семечками и орехами. Шустрые зверьки весело скакали по деревьям и по земле, вызывая огромный интерес у котов. Пойдет усатый посмотреть, что за мышь такая хвостатая скачет, а белка начинает над котом подшучивать: то на ветку заскочет, то по стволу дерева пробежит. Цокает, смеётся над котом, хвостом перед самым носом трясет: «Не поймаешь, не поймаешь!». Котяра от злости дрожит, прыгает под деревом, рычит утробно. Трудно эту хвостатую насмешницу поймать, но можно. Белки тоже спускаются на землю поискать вкусненького да водички из речки попить. А у кота терпения много! Заляжет в кустах черники и ждет… За два года извели на территории пансионата белок полностью. Кто не погиб в кошачьих объятиях, ушел в дальний лес.
Хотя, на нахального Семена тоже управа имеется. Если появляется его подруга Муся, то рыжего как ветром сдувает с лавочки. Есть чего бояться. Семен хоть и внушительный кот, да Муся раза в полтора крупнее его. Вид у кошки мрачноватый и сосредоточенный, совсем нерасполагающий к сюсюканью и всяким там нежностям. Серьёзная дама! Лапой подзатыльник отвесит - поздоровается… Да и перед гостями неудобно, несолидно как-то репутацию портить.
Под вечер, когда посетителей в лечебном корпусе почти нет, приходит сестрица Семена - такой же рыже-белой масти кошка Глаша. Она толстая, как и Семен, да и мордочки одинаковые. Если они стоят рядышком, не разберешь, где кот, а где кошка. Вместе они направляются к воротам пансионата встречать новых отдыхающих и сотрудников вечерней смены. Каждого прибывающего коты провожают до подъезда главного корпуса, прямехонько к администратору на регистрацию. После приветственного: «Мурр!», важно задрав пушистые хвосты, бегут немного впереди, показывая дорогу и постоянно оглядываясь, не отстал ли гость случайно. Сотрудников приходится провожать немного дальше, до административного корпуса. Доведут до места назначения и назад, к воротам бегут, следующего встречать. За свою работу никогда не просили лакомства. А будешь давать – не берут. Такие встречи – проводы им самим удовольствие доставляют. Очень общительные и доброжелательные животные!
Есть и еще одна компания – скандальные и своенравные любители ночных песен и драк. Узнать их несложно по ободранным бокам, обкусанным ушам и хромым лапам. Главарем этой шайки считается крупный длинноногий молодой котяра по кличке Бандит, обладающий самым пронзительным голосом. Раньше их база была возле пункта проката. Но за грязь и постоянные скандалы котов стал гонять заведующий. Тогда они переселились к старой котельной, неподалёку от заднего двора столовой. Эти коты с отдыхающими предпочитают не общаться. А зачем? Работники столовой их всегда накормят, а драки на задворках пансионата остаются незамеченными у отдыхающих!
Но есть в этом царстве – государстве и свой председатель. Огромный, ростом со среднюю собаку, кот Василий. Серый дымчатый кот с белым брюхом и белой полосой через всю морду. Степенный, очень аккуратный, несмотря на свои размеры, зверь. Никто не помнит, откуда он взялся на территории пансионата. Он единственный, кто сумел завевать доверие и уважение Валентины Егоровны – начальника главного корпуса. Только из её рук кот мог принять угощение, ни от кого другого ничего и никогда не брал.
Василию единственному из всех котов разрешалось находиться в холле корпуса посидеть на кресле возле ресепшена, подремать на мягком диване рядом с аквариумом. В редкие дождливые дни, когда лапы ломит и настроение сонное, так приятно бывает растянуться на теплой широкой батарее, наблюдая, кок длинные капли дождя стекают по оконному стеклу, помечтать о чем-то приятном и теплом! А тут Валентина Егоровна появится: «Васенька, пойдем-ка пообедаем!» Кот, не спеша, потянется и, с достоинством подняв хвост, проследует в её кабинет.
Василий всегда встречает гостей, внимательно осматривает, обязательно заглянет в глаза новому гостю, мурлыкнет по-своему: «Добро пожаловать!», вежливо отступит в сторонку, пока отдыхающие заполнят анкеты. Фамильярности проявлять по отношению к себе кот никому не позволял, но и не проявлял излишнюю агрессию. Не нравится, когда гладят, можно тихонько прошипеть о своем недовольстве. Ну а если гость чересчур надоедливый и непонятливый попался, тогда уж можно и лапой несильно по руке. Только лапа у Васи не по-кошачьи крупная, когти с возрастом все труднее втягиваются, след надолго останется на память.
По утрам, после завтрака кошачьим сообществом проводится обязательное собрание-совещание. Проходит оно на террасе главного корпуса. Собираются все представители семейств: тут и обстоятельная Анфиса со своими старшими котятами, и Семен с Мусей, и Бандит с товарищами. Садятся все в круг, на одинаковом расстоянии друг от дружки, а чуть выше остальных, на парапете террасы, как и положено председателю, важно восседает Василий. По очереди начинают котики свой рассказ, как живется, что происходит на территории, с какими проблемами приходится сталкиваться, как ведут себя отдыхающие. Председатель каждого выслушает, каждому промурлыкает свой совет или нарекание. Тихо, с достоинством проходят такие собрания, только и слышно мурлыканье, да урчание. Иногда, конечно, поднимается легкий шум, Василий быстро успокаивает дебоширов ударом мощной лапы. После собрания-совещания перед обедом, председатель лично обходит всю территорию пансионата с инспекцией. Вдруг что-то не доложили, о чем-то не рассказали, да и вообще, что новенького произошло в округе? Должность председателя обязывает быть в курсе всех событий!
Всё спокойно в пансионате, все довольны своим пребыванием тут. Сотрудники и жители уверены, пока председательствует кот Василий – все будет в порядке на вверенной ему территории. А гостям запомнится чудесный хвойный лес, дружелюбие и внимание не только сотрудников, но и маленьких местных обитателей, обилие живописных озер и рек в округе, ласковое солнце, чистый воздух.
На юге Ленинградской области, в Лужском районе расположился наш любимый пансионат. Здесь созданы прекрасные условия для отдыха и спорта. Сюда приезжают не только поправить здоровье и отдохнуть, но и насладиться общением с природой. Живописный сосновый бор, обилие грибов и ягод, чудесное пение птиц по утрам гарантируют хорошее настроение любому.
Много тут и местных лесных жителей: мелких грызунов, ежиков, птиц. Не всех удается заметить даже внимательному любителю природы: ведут они скрытный образ жизни. А вот за некоторыми можно и понаблюдать человеку. Это дятлы, вороны и, конечно же, коты. Кстати, собакам на территорию пансионата вход категорически запрещен, и за этим бдительно следят местная служба безопасности.
Здесь живут аж три кошачьих семейства. У каждого клана своя неприкосновенная территория и свои привычки.
Первое семейство обитает возле электроподстанции, прямо за спортивно-оздоровительным комплексом. Возглавляет его сравнительно молодая кошка Анфиса. На вид серенькая и невзрачная, она отличается острым умом и коммуникабельностью. Анфиса первая подойдет к человеку, что зашел на её территорию и загляделся на котиков, внимательно осмотрит, принюхается, вопросительно мяукнет: «Кто ты, гость незваный? С чем пришел? С добром ли? А, может, угощение принес?» Если понравишься кошке, разрешит подойти остальным членам семьи, позволит себя погладить, с удовольствием посидит на ближайшей лавочке, помурлыкает о том о сём. Может и котятам своим позволить с тобой поиграть. Если же не понравился, раздается короткий утробный рык, и котята дружно прячутся под плитами теплотрассы. Там их даже грозные дворники достать не могут.
Нелегко приходится семейству Анфисы. Грызунов мало в округе, охота бывает не всегда удачной. За птицами охотиться намного сложнее. Дятлов тут много, но с вершин сосен они никогда не спускаются на землю, а разглядеть их среди сосновых веток трудно. Только то и слышно, как звук их постукивания раздается по всему лесу.
Вот вороны здесь на редкость крупные, больше самой Анфисы. Очень умные и серьёзные птицы. В споры за территорию с котами никогда не вступают, а вот разделить трапезу не отказываются. В небольшой стае, которая здесь обитает, строгая иерархия. Наблюдатель, как правило, сидит на самой высокой сосне и следит, где и что происходит. Если котам насыпали в миску корма, то раздается троекратное: «Каррр!». Тут же ворона – разведчик слетает с дерева и проверяет, съедобно ли, вкусно ли или вообще лучше не трогать. Коты тут же вежливо отходят на почтительное расстояние. Если угощение подходящее, раздается одобрительное: «Каррр!», и стая спускается к кошачьей миске. Самой старшей птице доверено «снять пробу». После её удовлетворенного урчания, к трапезе приступают остальные. А дежурный наблюдатель по-прежнему сторожит на высокой сосне, чтобы никто не помешал пиршеству. Хозяевам миски приходится терпеливо сидеть в сторонке, пока серые налетчики не насытятся. Они-то знают, что с воронами лучше не связываться, можно серьёзную травму получить: с хвостом расстаться, а то и глаза лишиться. А корма в миске котам хватит. Спасибо добрым сотрудникам пансионата да неравнодушным отдыхающим!
Второе кошачье семейство поселилось у лечебного корпуса. Старшим у них считается крупный кот Семен. Котик - обладатель необыкновенного светло-рыжего окраса. Из-за белого подшерстка кажется, что Семен излучает солнечный свет. Его часто так и зовут – Солнышко. Толстый и важный, как министр, Семен любит встретить нового гостя, проводить на крылечко: «Муррр! Давай с тобой посидим, поговорим!». Присядет гость на лавочку возле входа, а кот рядышком пристроится. Человек, поглаживая кота, заговорит о жизни, о погоде, о проблемах своих человечьих, а кот отвечает ему: «Муррр! Все пройдет! Все хорошо будет!». Смотришь, повеселел гость, морщинки разгладились, улыбается. Уже задумывается, а надо ли к медикам идти? И доктор, подглядывая в окно, улыбается. Вот такая кототерапия получается!
В нескольких шагах от лечебного корпуса, на высоком берегу реки Студенки растут несколько вековых елей. Среди пушистых ветвей и сейчас еще можно разглядеть беличье гнездо – гаёк. Совсем недавно тут жили белки. Отдыхающие угощали их семечками и орехами. Шустрые зверьки весело скакали по деревьям и по земле, вызывая огромный интерес у котов. Пойдет усатый посмотреть, что за мышь такая хвостатая скачет, а белка начинает над котом подшучивать: то на ветку заскочет, то по стволу дерева пробежит. Цокает, смеётся над котом, хвостом перед самым носом трясет: «Не поймаешь, не поймаешь!». Котяра от злости дрожит, прыгает под деревом, рычит утробно. Трудно эту хвостатую насмешницу поймать, но можно. Белки тоже спускаются на землю поискать вкусненького да водички из речки попить. А у кота терпения много! Заляжет в кустах черники и ждет… За два года извели на территории пансионата белок полностью. Кто не погиб в кошачьих объятиях, ушел в дальний лес.
Хотя, на нахального Семена тоже управа имеется. Если появляется его подруга Муся, то рыжего как ветром сдувает с лавочки. Есть чего бояться. Семен хоть и внушительный кот, да Муся раза в полтора крупнее его. Вид у кошки мрачноватый и сосредоточенный, совсем нерасполагающий к сюсюканью и всяким там нежностям. Серьёзная дама! Лапой подзатыльник отвесит - поздоровается… Да и перед гостями неудобно, несолидно как-то репутацию портить.
Под вечер, когда посетителей в лечебном корпусе почти нет, приходит сестрица Семена - такой же рыже-белой масти кошка Глаша. Она толстая, как и Семен, да и мордочки одинаковые. Если они стоят рядышком, не разберешь, где кот, а где кошка. Вместе они направляются к воротам пансионата встречать новых отдыхающих и сотрудников вечерней смены. Каждого прибывающего коты провожают до подъезда главного корпуса, прямехонько к администратору на регистрацию. После приветственного: «Мурр!», важно задрав пушистые хвосты, бегут немного впереди, показывая дорогу и постоянно оглядываясь, не отстал ли гость случайно. Сотрудников приходится провожать немного дальше, до административного корпуса. Доведут до места назначения и назад, к воротам бегут, следующего встречать. За свою работу никогда не просили лакомства. А будешь давать – не берут. Такие встречи – проводы им самим удовольствие доставляют. Очень общительные и доброжелательные животные!
Есть и еще одна компания – скандальные и своенравные любители ночных песен и драк. Узнать их несложно по ободранным бокам, обкусанным ушам и хромым лапам. Главарем этой шайки считается крупный длинноногий молодой котяра по кличке Бандит, обладающий самым пронзительным голосом. Раньше их база была возле пункта проката. Но за грязь и постоянные скандалы котов стал гонять заведующий. Тогда они переселились к старой котельной, неподалёку от заднего двора столовой. Эти коты с отдыхающими предпочитают не общаться. А зачем? Работники столовой их всегда накормят, а драки на задворках пансионата остаются незамеченными у отдыхающих!
Но есть в этом царстве – государстве и свой председатель. Огромный, ростом со среднюю собаку, кот Василий. Серый дымчатый кот с белым брюхом и белой полосой через всю морду. Степенный, очень аккуратный, несмотря на свои размеры, зверь. Никто не помнит, откуда он взялся на территории пансионата. Он единственный, кто сумел завевать доверие и уважение Валентины Егоровны – начальника главного корпуса. Только из её рук кот мог принять угощение, ни от кого другого ничего и никогда не брал.
Василию единственному из всех котов разрешалось находиться в холле корпуса посидеть на кресле возле ресепшена, подремать на мягком диване рядом с аквариумом. В редкие дождливые дни, когда лапы ломит и настроение сонное, так приятно бывает растянуться на теплой широкой батарее, наблюдая, кок длинные капли дождя стекают по оконному стеклу, помечтать о чем-то приятном и теплом! А тут Валентина Егоровна появится: «Васенька, пойдем-ка пообедаем!» Кот, не спеша, потянется и, с достоинством подняв хвост, проследует в её кабинет.
Василий всегда встречает гостей, внимательно осматривает, обязательно заглянет в глаза новому гостю, мурлыкнет по-своему: «Добро пожаловать!», вежливо отступит в сторонку, пока отдыхающие заполнят анкеты. Фамильярности проявлять по отношению к себе кот никому не позволял, но и не проявлял излишнюю агрессию. Не нравится, когда гладят, можно тихонько прошипеть о своем недовольстве. Ну а если гость чересчур надоедливый и непонятливый попался, тогда уж можно и лапой несильно по руке. Только лапа у Васи не по-кошачьи крупная, когти с возрастом все труднее втягиваются, след надолго останется на память.
По утрам, после завтрака кошачьим сообществом проводится обязательное собрание-совещание. Проходит оно на террасе главного корпуса. Собираются все представители семейств: тут и обстоятельная Анфиса со своими старшими котятами, и Семен с Мусей, и Бандит с товарищами. Садятся все в круг, на одинаковом расстоянии друг от дружки, а чуть выше остальных, на парапете террасы, как и положено председателю, важно восседает Василий. По очереди начинают котики свой рассказ, как живется, что происходит на территории, с какими проблемами приходится сталкиваться, как ведут себя отдыхающие. Председатель каждого выслушает, каждому промурлыкает свой совет или нарекание. Тихо, с достоинством проходят такие собрания, только и слышно мурлыканье, да урчание. Иногда, конечно, поднимается легкий шум, Василий быстро успокаивает дебоширов ударом мощной лапы. После собрания-совещания перед обедом, председатель лично обходит всю территорию пансионата с инспекцией. Вдруг что-то не доложили, о чем-то не рассказали, да и вообще, что новенького произошло в округе? Должность председателя обязывает быть в курсе всех событий!
Всё спокойно в пансионате, все довольны своим пребыванием тут. Сотрудники и жители уверены, пока председательствует кот Василий – все будет в порядке на вверенной ему территории. А гостям запомнится чудесный хвойный лес, дружелюбие и внимание не только сотрудников, но и маленьких местных обитателей, обилие живописных озер и рек в округе, ласковое солнце, чистый воздух.
Бахметьев Дмитрий. Свободу котам!
Здравствуйте! Я кот. Обыкновенный дворовый кот. Серый в полосочку. Уши торчком, хвост трубой. Но имя у меня непростое. Я требую, чтобы все звали меня Мняус. Согласитесь, это звучит. Не какой-нибудь там Барсик, хотя некоторые пытаются так меня называть. Или ещё хуже: «Мурзик». Кошмар! Представьте: иду я, весь такой важный, независимый, а какая-нибудь девчонка кричит мне: «Мурзик, Мурзик, кис-кис-кис!» Я презрительно смотрю на неё и поправляю: «Мняяяус я! Мняус!». А она своё: «Мурзик!» Что за бестолковые люди! Правда, одной старушке я всё прощаю, даже когда она меня Кисой зовёт. Во-первых, потому, что я кот вежливый и возраст уважаю, а во-вторых, очень уж она милая: всякие объедки со своего стола не приносит, а покупает для меня вкусняшки. На пакетике симпатичный кот нарисован, прямо на меня похожий, значит, точно, для нас, котов, предназначенный.
А вообще-то, я свою свободу ни на какие подачки не променяю. Насмотрелся я на домашних котов. Сидят за окном и тоскливыми глазами на улицу смотрят. Хорошо ещё, если какой-нибудь воробышек или голубь на подоконник присядет. Они, бедные, радуются. Охотниками себя представляют, лапками по стеклу скребут, будто поймать стараются. Смех один! А бывает, кактусы, герани всякие от огорчения есть начинают. Не верите? Сам видел.
Правда, не скрою: одна кошечка очень мне нравится. Беленькая, глазки голубые. Я подозреваю, что тоже ей не безразличен. Иначе чего ж она всегда меня у окошка поджидает. Эх, ей бы на свободу! Это же несправедливо, когда столько котов у людей в заточении сидят. Некоторые, кроме балкона, и на свежем воздухе никогда не были. Кстати, не один я так думаю, за наших родичей переживаю. Мы, коты, в марте иногда собрания устраиваем, мнения на этот счёт высказываем, иногда орём всю ночь, за свои права на разные голоса боремся. «Свободу котам и кошкам!» – кричим. А люди нашей взволнованности не понимают, возмущаются. Раз меня даже водой окатили. Решил я порядок навести, провести собрание по всем правилам. Короче, поскольку я среди нашего брата личность уважаемая, выбрали меня председателем. Собрались мы на самом популярном месте, возле мусорных баков. Я повыше забрался и начал свою речь так:
- Уважаемые, граждане коты! Наше прошлое заседание было прервано по…. техническим причинам. Предлагаю продолжить. На повестке дня один вопрос. Итак, тема заседания: «Свободу котам и кошкам!» Слово для выступления предоставляется… Кто начнёт, граждане?
- Господин председатель, можно я?
- Пожалуйста, начинайте, кот Плюша.
- Кх, нм… В общем, я буду краток. Предлагаю бунт! Пора прекратить этот беспредел! Человеки ведут себя бесчеловечно. Взяли в плен наших сородичей и пользуются их добротой, лаской и покладистым характером. Особенно страдают коты британской породы, как самые мягкие и безобидные. Устроим бунт и освободим наших братьев!
- Поддерживаем! – раздались робкие немногочисленные возгласы. Но большинство котов настороженно молчали.
Из толпы вдруг потянулась красивая ухоженная лапка. Это был Сёма, домашний кот, которого выпустили погулять.
- Слушаем тебя, Семён.
- Ну… Я считаю, что это ваше движение обречено на неудачу, - начал он высокомерным тоном. - Так природой заложено, и таковы правила жизни: кто-то сидит в тёплом доме под тёплым одеялом рядом с тёплым хозяином, а кому-то суждено выживать в суровых условиях…Бесполезно что-либо предпринимать.
Что тут началось!.. Не дав бедному Сёме договорить, толпа бросилась на него, выпустив коготки и оскалив зубки.
Мне пришлось долго стучать хвостом по крышке мусорного бака, чтобы призвать толпу к спокойствию. Наконец коты кое-как угомонились.
- Итак, господа, мы услышали два противоположных мнения. Будут ещё желающие выступить?
- Я хочу слово сказать, - из толпы, прихрамывая на одну лапу, выбирался старый кот Василий Степаныч. Он всю жизнь прожил с дедушкой. Дедка звали Степаном, отсюда и кличка у кота Степаныч, а вообще-то, он по молодости Васькой звался. Степаныч перенял у деда многие привычки: например, любил ворчать в телевизор, чавкал и причмокивал, когда ел. И характер у него был противный и завистливый.
- Что за дела, братки?! Что за балаган вы устроили, ёшкин кот! Какой-такой бунт?! Какая свобода?! Посмотрите на домашних котов! Лежат себе. Спят весь день, ни о чём не думают. Даже мышей не ловят. Эх. Я вот от деда своего частенько тапкой получаю и то молчу. Потому как он меня кормит и из дома не гонит.
Снова молчание. Довольно долгое. Очень долгое.
- Что коты? Языки проглотили? Сказать нечего?
-Эээээ, Василий Степаныч, вас, кажется, хозяин зовёт, - не выдержал я.
- Меня?! Ну, тогда похромал я. Пока, дворняги!
Степаныч скрылся из вида, толпа с облегчением выдохнула и принялась поливать кота всякими непотребными словами.
И тут из-за угла вышла Она… Та самая кошечка… Боже, какая она красивая. Я впал в ступор. Вся толпа развернулась, замерла и смотрела только не неё. А она шла, такая роскошная, вся из себя, грудь вперёд, хвост пистолетом…
Зовут её Стелла. Ходят слухи, что это кошка бывшего миллионера с Рублёвки. Поговаривают, что того миллионера посадили в тюрьму за
какие-то махинации, а кошку, пожалев, приютила бывшая служанка богача. Но господские замашки кошечка не забыла и смотрела на всех свысока. Странно, что еёвообще на улицу выпустили. Всё-таки белоснежная кошка, мало ли что…
И вот она подошла. Толпа смотрела на неё, не отрывая глаз. И тут кошка начала:
- Можно я выражу своё скромное мнение? – сказала она нежным вкрадчивым голоском.
- Э-э-э… К-конечно! Да!
- Мерси! – ответила Белоснежка. - Послушала я вас с окошка, послушала и не могла не прийти. Как вы, взрослые коты, до таких глупых разговоров додумались? Что вы за клоунаду тут устроили? Что вы лезете в жизнь домашних котов, что вы о ней знаете? От чего вы хотите нас защитить, от райской жизни? Сворачивайте, коты, свои движения и по домам! Ой, ха-ха-ха, извините, по подвалам!
Она грациозно повернулась и пошла, величественно неся свою прекрасную головку. Коты в изумлении молчали, чесали лапками затылки.
Египетская сила (вспомнил я от волнения своих далёких предков)! И это её я собирался спасать от заточения? Куда бы привёл? В свой заброшенный сарай?! Вот так и рушатся мечты!
С трудом выйдя из замешательства, я хотел продолжить собрание, но тут с балкона первого этажа послышался голос милой бабушки: «Кис-кис-кис!». И вся кошачья братия стремглав бросилась на этот призыв, забыв про все наши споры и проблемы. Вот вам и вся демократия! Мяу!
Здравствуйте! Я кот. Обыкновенный дворовый кот. Серый в полосочку. Уши торчком, хвост трубой. Но имя у меня непростое. Я требую, чтобы все звали меня Мняус. Согласитесь, это звучит. Не какой-нибудь там Барсик, хотя некоторые пытаются так меня называть. Или ещё хуже: «Мурзик». Кошмар! Представьте: иду я, весь такой важный, независимый, а какая-нибудь девчонка кричит мне: «Мурзик, Мурзик, кис-кис-кис!» Я презрительно смотрю на неё и поправляю: «Мняяяус я! Мняус!». А она своё: «Мурзик!» Что за бестолковые люди! Правда, одной старушке я всё прощаю, даже когда она меня Кисой зовёт. Во-первых, потому, что я кот вежливый и возраст уважаю, а во-вторых, очень уж она милая: всякие объедки со своего стола не приносит, а покупает для меня вкусняшки. На пакетике симпатичный кот нарисован, прямо на меня похожий, значит, точно, для нас, котов, предназначенный.
А вообще-то, я свою свободу ни на какие подачки не променяю. Насмотрелся я на домашних котов. Сидят за окном и тоскливыми глазами на улицу смотрят. Хорошо ещё, если какой-нибудь воробышек или голубь на подоконник присядет. Они, бедные, радуются. Охотниками себя представляют, лапками по стеклу скребут, будто поймать стараются. Смех один! А бывает, кактусы, герани всякие от огорчения есть начинают. Не верите? Сам видел.
Правда, не скрою: одна кошечка очень мне нравится. Беленькая, глазки голубые. Я подозреваю, что тоже ей не безразличен. Иначе чего ж она всегда меня у окошка поджидает. Эх, ей бы на свободу! Это же несправедливо, когда столько котов у людей в заточении сидят. Некоторые, кроме балкона, и на свежем воздухе никогда не были. Кстати, не один я так думаю, за наших родичей переживаю. Мы, коты, в марте иногда собрания устраиваем, мнения на этот счёт высказываем, иногда орём всю ночь, за свои права на разные голоса боремся. «Свободу котам и кошкам!» – кричим. А люди нашей взволнованности не понимают, возмущаются. Раз меня даже водой окатили. Решил я порядок навести, провести собрание по всем правилам. Короче, поскольку я среди нашего брата личность уважаемая, выбрали меня председателем. Собрались мы на самом популярном месте, возле мусорных баков. Я повыше забрался и начал свою речь так:
- Уважаемые, граждане коты! Наше прошлое заседание было прервано по…. техническим причинам. Предлагаю продолжить. На повестке дня один вопрос. Итак, тема заседания: «Свободу котам и кошкам!» Слово для выступления предоставляется… Кто начнёт, граждане?
- Господин председатель, можно я?
- Пожалуйста, начинайте, кот Плюша.
- Кх, нм… В общем, я буду краток. Предлагаю бунт! Пора прекратить этот беспредел! Человеки ведут себя бесчеловечно. Взяли в плен наших сородичей и пользуются их добротой, лаской и покладистым характером. Особенно страдают коты британской породы, как самые мягкие и безобидные. Устроим бунт и освободим наших братьев!
- Поддерживаем! – раздались робкие немногочисленные возгласы. Но большинство котов настороженно молчали.
Из толпы вдруг потянулась красивая ухоженная лапка. Это был Сёма, домашний кот, которого выпустили погулять.
- Слушаем тебя, Семён.
- Ну… Я считаю, что это ваше движение обречено на неудачу, - начал он высокомерным тоном. - Так природой заложено, и таковы правила жизни: кто-то сидит в тёплом доме под тёплым одеялом рядом с тёплым хозяином, а кому-то суждено выживать в суровых условиях…Бесполезно что-либо предпринимать.
Что тут началось!.. Не дав бедному Сёме договорить, толпа бросилась на него, выпустив коготки и оскалив зубки.
Мне пришлось долго стучать хвостом по крышке мусорного бака, чтобы призвать толпу к спокойствию. Наконец коты кое-как угомонились.
- Итак, господа, мы услышали два противоположных мнения. Будут ещё желающие выступить?
- Я хочу слово сказать, - из толпы, прихрамывая на одну лапу, выбирался старый кот Василий Степаныч. Он всю жизнь прожил с дедушкой. Дедка звали Степаном, отсюда и кличка у кота Степаныч, а вообще-то, он по молодости Васькой звался. Степаныч перенял у деда многие привычки: например, любил ворчать в телевизор, чавкал и причмокивал, когда ел. И характер у него был противный и завистливый.
- Что за дела, братки?! Что за балаган вы устроили, ёшкин кот! Какой-такой бунт?! Какая свобода?! Посмотрите на домашних котов! Лежат себе. Спят весь день, ни о чём не думают. Даже мышей не ловят. Эх. Я вот от деда своего частенько тапкой получаю и то молчу. Потому как он меня кормит и из дома не гонит.
Снова молчание. Довольно долгое. Очень долгое.
- Что коты? Языки проглотили? Сказать нечего?
-Эээээ, Василий Степаныч, вас, кажется, хозяин зовёт, - не выдержал я.
- Меня?! Ну, тогда похромал я. Пока, дворняги!
Степаныч скрылся из вида, толпа с облегчением выдохнула и принялась поливать кота всякими непотребными словами.
И тут из-за угла вышла Она… Та самая кошечка… Боже, какая она красивая. Я впал в ступор. Вся толпа развернулась, замерла и смотрела только не неё. А она шла, такая роскошная, вся из себя, грудь вперёд, хвост пистолетом…
Зовут её Стелла. Ходят слухи, что это кошка бывшего миллионера с Рублёвки. Поговаривают, что того миллионера посадили в тюрьму за
какие-то махинации, а кошку, пожалев, приютила бывшая служанка богача. Но господские замашки кошечка не забыла и смотрела на всех свысока. Странно, что еёвообще на улицу выпустили. Всё-таки белоснежная кошка, мало ли что…
И вот она подошла. Толпа смотрела на неё, не отрывая глаз. И тут кошка начала:
- Можно я выражу своё скромное мнение? – сказала она нежным вкрадчивым голоском.
- Э-э-э… К-конечно! Да!
- Мерси! – ответила Белоснежка. - Послушала я вас с окошка, послушала и не могла не прийти. Как вы, взрослые коты, до таких глупых разговоров додумались? Что вы за клоунаду тут устроили? Что вы лезете в жизнь домашних котов, что вы о ней знаете? От чего вы хотите нас защитить, от райской жизни? Сворачивайте, коты, свои движения и по домам! Ой, ха-ха-ха, извините, по подвалам!
Она грациозно повернулась и пошла, величественно неся свою прекрасную головку. Коты в изумлении молчали, чесали лапками затылки.
Египетская сила (вспомнил я от волнения своих далёких предков)! И это её я собирался спасать от заточения? Куда бы привёл? В свой заброшенный сарай?! Вот так и рушатся мечты!
С трудом выйдя из замешательства, я хотел продолжить собрание, но тут с балкона первого этажа послышался голос милой бабушки: «Кис-кис-кис!». И вся кошачья братия стремглав бросилась на этот призыв, забыв про все наши споры и проблемы. Вот вам и вся демократия! Мяу!
Бекетова Алла. Замурованная
Найдите меня безгласную.
Умойте меня дождем.
Найдите меня угасшую,
Верните мой старый дом.
Эльза Гукасова.
Длинными бледными пальцами Эльза поправила бретельку вечернего дымчатого платья и медленно поплыла вдоль второго этажа своего особняка.
Она заглянула в каждую из почти 60 комнат, ревниво прислушиваясь, нет ли кого постороннего в ее любимом доме. Эльза была привидением. Она обитала в одиноком, еще хранившем остатки былой красоты, но уже десятки лет стоявшем заколоченным доме в Пятигорске. Выполненный в готическом стиле, он восхищал окружающих своими конусными башенками и царственным видом. С самого начала это был пансионат для состоятельных представителей «водяного общества». Пансионат славился гостеприимством, очень хорошим сервисом, лучшим в городе питанием, домашним молоком с небольшой собственной фермы и виноградом.
В то время Эльза, немка по происхождению, была хозяйкой пансионата или «Дачи Эльзы», как называли этот дом местные жители. Немка была в разводе. Детей у нее не было, и всю себя женщина посвятила любимому делу. Когда грянула революция, делу всей жизни Эльзы пришел конец. На дачу пожаловали большевики. Угрожая оружием, они кричали на Эльзу и требовали от испуганной женщины добровольно отдать им накопленные за годы «барские сокровища». Эльза плакала и просила оставить ее в покое. Она объясняла им, что все ее богатства — это маленькая домашняя ферма с тремя коровами и виноградник на склоне Машука, который она сама же и посадила. Но грозный военный с взъерошенными волосами и горящими глазами ничего не хотел слышать. Он кричал на Эльзу, обдавая ее смешанным запахом самогона и чеснока, называл ее почему-то «тупой американкой», а потом неожиданно ударил ее прикладом прямо в висок.
Женщина не успела осознать боль. Она, скорее, удивилась накрывшему ее ощущению полной темноты...
...Эльза очнулась в тесноте. Ее руки и ноги не двигались, зажатые со всех сторон стеной, но она поднатужилась и, словно, выпрыгнула, как ей показалось, и из стены, и из собственного тела. Сначала она не поняла: кто она теперь, и сколько времени пробыла замурованной в стене. Бледные руки, словно паутинки, опустились вниз. Эльза пошевелила ногами и обнаружила, что не идет,а скользит по плиточному полу.
Со временем Эльза научилась управлять своим вторым телом. Днем она спала в стене, а ночью, выпрыгнув из стены и сладко потянувшись, скользила по опустевшему и постепенно дряхлевшему дому. Сколько лет так прошло — десять, двадцать, а может, и тридцать — Эльза понятия не имела. Никто не нарушал ее покой. А куда делись те большевики — она и не знала. Она не держала на них злобы, но первое время очень скучала по своей прошлой жизни среди людей. Эльза вспоминала, как в нарядных залах, зияющих теперь пустыми окнами, когда-то кружились юные пары и смеялись, смеялись, смеялись. Вот и Эльза, став привидением, со временем научилась и плакать, и смеяться, а еще передвигать предметы и сваливать неровно стоящие кирпичи, ящики, какой-то мусор. Эльзе нравился покой ее дома. Даже опустошенный, с выбитыми окнами и дверьми, он был ее родным и самым любимым.
Эльза постепенно отвыкла от людей. Но однажды они сами объявились. Компании подвыпивших молодых людей стали постоянно залезать ночью в ее дом. Они шумели, громко ругались, гремели бутылками, плевали на пол комнат и разрисовывали стены слабо читаемыми надписями. Это были то ли стихи с признаниями в любви, то ли прощальные слова. Сначала Эльза просто наблюдала за незваными гостями, не вмешиваясь и не выдавая себя. Она терпела пьяниц, грубиянов и нерях, которые бросали зажженные окурки в ее комнатах, а иногда и попросту мочились на паркет, вырывали куски обоев и почему-то считали, что с этим домом можно делать все что угодно. Вот тогда Эльза и воспротивилась. Она не намерена была больше терпеть людской произвол!
Как-то раз, когда очередная компания нагрянула в ее дом, Эльза улучила момент и издала звуки, напоминающие плач маленького ребенка. Это получилось так неожиданно, что компания мгновенно отрезвела и бросилась наутек из загадочного дома. В другой раз Эльза осыпала пришельцев мусором, и они тоже спасались бегством.
По городу поползли слухи, что в странном доме обитает привидение, и оно крайне недоброжелательно относится к людям.
Шли годы. Как-то раз Эльза обнаружила, что дом начали обновлять и перестраивать, и в нем поселилась женщина-художница. Новая хозяйка Эльзе понравилась. Она целыми днями рисовала картины, делала красивые эскизы будущих архитектурных достопримечательностей. Эльза ночами рассматривала работы художницы и наслаждалась ее творчеством. Но вскоре та съехала, не в силах платить за дом высокую арендную плату городу.
Дача Эльзы опять опустела, постепенно превращаясь в руины.
Прошло еще сколько-то лет — может, десять, двадцать — Эльза не могла знать. Местные жители обходили особняк стороной, помня о его дурной славе. Городские власти обнесли дом высоким забором, телевизионщики сняли о нем несколько передач, написали в журнале и, наконец, благополучно забыли о «памятнике какой-то старины».
Эльза привыкла к своему одиночеству. Она наслаждалась им, даже и не подозревая, что с жизнью приведения может сделать интернет.
Дурная слава домика Эльзы разнеслась по сети в одно мгновение, и десятки охотников за привидениями потянулись в Пятигорск. Они устраивали для Эльзы всякие ловушки, напичкали дом всевозможной высокочувствительной аппаратурой и выжидали в засаде.
В это сложное время Эльза была особенно осторожной и никак себя не выдавала. Ей приходилось, и дни и ночи сидеть замурованной в стене. Когда интерес у публики к дому поутих, привидение облегченно вздохнуло.
Прошло еще какое-то время. Как-то раз неожиданные звуки в парадном зале на первом этаже заставили Эльзу насторожиться. Она заглянула внутрь. Две девушки и два парня расхаживали по комнате с фонариками. Они громко разговаривали и смеялись. Парень повыше уверенно сказал:
— Да нет тут никаких привидений. Все это пустые рассказы стариков!
— Может, и нет, Паш, но давайте уже уйдем отсюда, не будем злить Эльзу, — ответила его девушка. — Дед рассказывал, что привидение очень обидчивое!
— Вот, буду я еще верить какому-то выжившему из ума старику! — грубо сказал Паша.
«Надо же, какой самоуверенный!» — подумала Эльза и, чтобы слегка припугнуть незваных гостей, издала звук, напоминающий отдаленно волчий вой.
— Слышите? — сказала вторая девушка. — Мне это не нравится. Давайте уйдем отсюда.
— Еще чего! — возразил Павел. — Говорят, что эта старуха Эльза охраняет спрятанные в ее доме сокровища! Так пусть она укажет нам на них! Эй ты, грозное привидение, ну-ка, покажись! Выходи! Ну же! — гоготал парень.
Эльза метнула в сторону ребят каким-то предметом, напоминающим ящик. Он с грохотом упал на пол, девчонки завизжали и бросились бежать.
Эльза была в ярости. «Что! И ты сокровищ моих захотел?» — зашипела она. Павел вдруг напомнил Эльзе того красноармейца, который пытал ее в далеком 1917 году.
— Приходи сам, и ты все получишь! — что есть сил закричала Эльза, и ей показалось, что парень ее услышал.
С той ночи привидение потеряло покой. Оно металось по дому, нагоняя страх на редких прохожих, идущих с ночной смены домой, и наблюдающих то непонятные огни, похожие на глаза бешеной собаки внутри дома, то пугаясь звуков грохота и грома.
Так Эльза звала Павла. И он пришел. Один. Спустя какое-то время. Пришел, потому что в его жизни после той ночи в домике Эльзы стали происходить необычные и очень страшные события: аварии с участием его близких, травмы. От него ушла любимая девушка. Сам Павел сломал ногу. Его друзья связывали эти события с местью Эльзы и предлагали парню извиниться перед привидением.
Павел никому не верил. Но однажды ночью взял такси и приехал к домику Эльзы. Таксист отказался подъезжать слишком близко, и Павел, попросив его подождать минут пятнадцать, поковылял к дому, не оглядываясь.
Эльза была особенно хороша этой ночью. Она сразу его узнала.
Только фигура Павла была в этот раз какой-то жалкой. Глаза его горели страхом, волосы были взъерошены. Павел прошел в центр зала и, подняв голову вверх, тихо сказал: «Прости, привидение!».
Эльза неслышно подплыла сзади Павла. Она подняла бледные руки-паутинки и, длинными пальцами опутав шею парня, притянула его к себе.
Таксист сидел в машине около получаса, но, так и не дождавшись Павла, поплевал через левое плечо и уехал восвояси.
Найдите меня безгласную.
Умойте меня дождем.
Найдите меня угасшую,
Верните мой старый дом.
Эльза Гукасова.
Длинными бледными пальцами Эльза поправила бретельку вечернего дымчатого платья и медленно поплыла вдоль второго этажа своего особняка.
Она заглянула в каждую из почти 60 комнат, ревниво прислушиваясь, нет ли кого постороннего в ее любимом доме. Эльза была привидением. Она обитала в одиноком, еще хранившем остатки былой красоты, но уже десятки лет стоявшем заколоченным доме в Пятигорске. Выполненный в готическом стиле, он восхищал окружающих своими конусными башенками и царственным видом. С самого начала это был пансионат для состоятельных представителей «водяного общества». Пансионат славился гостеприимством, очень хорошим сервисом, лучшим в городе питанием, домашним молоком с небольшой собственной фермы и виноградом.
В то время Эльза, немка по происхождению, была хозяйкой пансионата или «Дачи Эльзы», как называли этот дом местные жители. Немка была в разводе. Детей у нее не было, и всю себя женщина посвятила любимому делу. Когда грянула революция, делу всей жизни Эльзы пришел конец. На дачу пожаловали большевики. Угрожая оружием, они кричали на Эльзу и требовали от испуганной женщины добровольно отдать им накопленные за годы «барские сокровища». Эльза плакала и просила оставить ее в покое. Она объясняла им, что все ее богатства — это маленькая домашняя ферма с тремя коровами и виноградник на склоне Машука, который она сама же и посадила. Но грозный военный с взъерошенными волосами и горящими глазами ничего не хотел слышать. Он кричал на Эльзу, обдавая ее смешанным запахом самогона и чеснока, называл ее почему-то «тупой американкой», а потом неожиданно ударил ее прикладом прямо в висок.
Женщина не успела осознать боль. Она, скорее, удивилась накрывшему ее ощущению полной темноты...
...Эльза очнулась в тесноте. Ее руки и ноги не двигались, зажатые со всех сторон стеной, но она поднатужилась и, словно, выпрыгнула, как ей показалось, и из стены, и из собственного тела. Сначала она не поняла: кто она теперь, и сколько времени пробыла замурованной в стене. Бледные руки, словно паутинки, опустились вниз. Эльза пошевелила ногами и обнаружила, что не идет,а скользит по плиточному полу.
Со временем Эльза научилась управлять своим вторым телом. Днем она спала в стене, а ночью, выпрыгнув из стены и сладко потянувшись, скользила по опустевшему и постепенно дряхлевшему дому. Сколько лет так прошло — десять, двадцать, а может, и тридцать — Эльза понятия не имела. Никто не нарушал ее покой. А куда делись те большевики — она и не знала. Она не держала на них злобы, но первое время очень скучала по своей прошлой жизни среди людей. Эльза вспоминала, как в нарядных залах, зияющих теперь пустыми окнами, когда-то кружились юные пары и смеялись, смеялись, смеялись. Вот и Эльза, став привидением, со временем научилась и плакать, и смеяться, а еще передвигать предметы и сваливать неровно стоящие кирпичи, ящики, какой-то мусор. Эльзе нравился покой ее дома. Даже опустошенный, с выбитыми окнами и дверьми, он был ее родным и самым любимым.
Эльза постепенно отвыкла от людей. Но однажды они сами объявились. Компании подвыпивших молодых людей стали постоянно залезать ночью в ее дом. Они шумели, громко ругались, гремели бутылками, плевали на пол комнат и разрисовывали стены слабо читаемыми надписями. Это были то ли стихи с признаниями в любви, то ли прощальные слова. Сначала Эльза просто наблюдала за незваными гостями, не вмешиваясь и не выдавая себя. Она терпела пьяниц, грубиянов и нерях, которые бросали зажженные окурки в ее комнатах, а иногда и попросту мочились на паркет, вырывали куски обоев и почему-то считали, что с этим домом можно делать все что угодно. Вот тогда Эльза и воспротивилась. Она не намерена была больше терпеть людской произвол!
Как-то раз, когда очередная компания нагрянула в ее дом, Эльза улучила момент и издала звуки, напоминающие плач маленького ребенка. Это получилось так неожиданно, что компания мгновенно отрезвела и бросилась наутек из загадочного дома. В другой раз Эльза осыпала пришельцев мусором, и они тоже спасались бегством.
По городу поползли слухи, что в странном доме обитает привидение, и оно крайне недоброжелательно относится к людям.
Шли годы. Как-то раз Эльза обнаружила, что дом начали обновлять и перестраивать, и в нем поселилась женщина-художница. Новая хозяйка Эльзе понравилась. Она целыми днями рисовала картины, делала красивые эскизы будущих архитектурных достопримечательностей. Эльза ночами рассматривала работы художницы и наслаждалась ее творчеством. Но вскоре та съехала, не в силах платить за дом высокую арендную плату городу.
Дача Эльзы опять опустела, постепенно превращаясь в руины.
Прошло еще сколько-то лет — может, десять, двадцать — Эльза не могла знать. Местные жители обходили особняк стороной, помня о его дурной славе. Городские власти обнесли дом высоким забором, телевизионщики сняли о нем несколько передач, написали в журнале и, наконец, благополучно забыли о «памятнике какой-то старины».
Эльза привыкла к своему одиночеству. Она наслаждалась им, даже и не подозревая, что с жизнью приведения может сделать интернет.
Дурная слава домика Эльзы разнеслась по сети в одно мгновение, и десятки охотников за привидениями потянулись в Пятигорск. Они устраивали для Эльзы всякие ловушки, напичкали дом всевозможной высокочувствительной аппаратурой и выжидали в засаде.
В это сложное время Эльза была особенно осторожной и никак себя не выдавала. Ей приходилось, и дни и ночи сидеть замурованной в стене. Когда интерес у публики к дому поутих, привидение облегченно вздохнуло.
Прошло еще какое-то время. Как-то раз неожиданные звуки в парадном зале на первом этаже заставили Эльзу насторожиться. Она заглянула внутрь. Две девушки и два парня расхаживали по комнате с фонариками. Они громко разговаривали и смеялись. Парень повыше уверенно сказал:
— Да нет тут никаких привидений. Все это пустые рассказы стариков!
— Может, и нет, Паш, но давайте уже уйдем отсюда, не будем злить Эльзу, — ответила его девушка. — Дед рассказывал, что привидение очень обидчивое!
— Вот, буду я еще верить какому-то выжившему из ума старику! — грубо сказал Паша.
«Надо же, какой самоуверенный!» — подумала Эльза и, чтобы слегка припугнуть незваных гостей, издала звук, напоминающий отдаленно волчий вой.
— Слышите? — сказала вторая девушка. — Мне это не нравится. Давайте уйдем отсюда.
— Еще чего! — возразил Павел. — Говорят, что эта старуха Эльза охраняет спрятанные в ее доме сокровища! Так пусть она укажет нам на них! Эй ты, грозное привидение, ну-ка, покажись! Выходи! Ну же! — гоготал парень.
Эльза метнула в сторону ребят каким-то предметом, напоминающим ящик. Он с грохотом упал на пол, девчонки завизжали и бросились бежать.
Эльза была в ярости. «Что! И ты сокровищ моих захотел?» — зашипела она. Павел вдруг напомнил Эльзе того красноармейца, который пытал ее в далеком 1917 году.
— Приходи сам, и ты все получишь! — что есть сил закричала Эльза, и ей показалось, что парень ее услышал.
С той ночи привидение потеряло покой. Оно металось по дому, нагоняя страх на редких прохожих, идущих с ночной смены домой, и наблюдающих то непонятные огни, похожие на глаза бешеной собаки внутри дома, то пугаясь звуков грохота и грома.
Так Эльза звала Павла. И он пришел. Один. Спустя какое-то время. Пришел, потому что в его жизни после той ночи в домике Эльзы стали происходить необычные и очень страшные события: аварии с участием его близких, травмы. От него ушла любимая девушка. Сам Павел сломал ногу. Его друзья связывали эти события с местью Эльзы и предлагали парню извиниться перед привидением.
Павел никому не верил. Но однажды ночью взял такси и приехал к домику Эльзы. Таксист отказался подъезжать слишком близко, и Павел, попросив его подождать минут пятнадцать, поковылял к дому, не оглядываясь.
Эльза была особенно хороша этой ночью. Она сразу его узнала.
Только фигура Павла была в этот раз какой-то жалкой. Глаза его горели страхом, волосы были взъерошены. Павел прошел в центр зала и, подняв голову вверх, тихо сказал: «Прости, привидение!».
Эльза неслышно подплыла сзади Павла. Она подняла бледные руки-паутинки и, длинными пальцами опутав шею парня, притянула его к себе.
Таксист сидел в машине около получаса, но, так и не дождавшись Павла, поплевал через левое плечо и уехал восвояси.
Хохлова София. Единственное правила
… А что, если поразмыслить о том, зачем нужны правила? Неважно какие: правила игры, правила использования чего-либо, хотя вернее будет сказать инструкция, правила поведения. Наверное, они нужны для того, чтобы в мире был порядок, чтобы ничего не сбилось и работало, как слаженный механизм. Я бы поразмышляла на разные философские темы, ведь за долгое время, что здесь нахожусь, успела понять абсолютно ВСЁ. А что мне еще тут делать, кроме как мыслить?
… Недавно знакомые ребята нашли «карту сокровищ». Звучит довольно глупо – возможно, они решили устроить между собой квест, а карту сами же и нарисовали. Меня позвали тоже, и я от нечего делать согласилась. Живем мы в поселке, что находится в густом еловом лесу, невдалеке от нас – гора, а за ней ещё и ещё… Поэтому я была уверена, что поиски будут интересными. Полагаю, что позвали меня именно потому, что в картах я ориентируюсь отлично.
Отправились мы рано-рано утром, было часа четыре. Взглянув на карту, я поняла, что не зря мы вышли до восхода солнца, ибо путь предстоялнепростой: пройти через лес, реку и подняться к скалам. И, если я правильно определила, рядом будет поле, а после озеро.
Лето в нашем селе – странное время года, словно в пустыне. Рано утром прохладно и даже морозно, пройдет буквально часа два, и жара будет стоять невыносимая. Так и было и в этот раз. От пожирающих солнечных лучей нас укрывали лишь густые еловые ветви. По открытой местности идти – мука, но весёлые истории от ребят скрашивали путь.
Вот поворот по тропе и река, а после – сразу в гору. Хотя я ожидала, что идти мы будем дольше. Моста не обнаружили, поэтому, разувшись, мы стали переходить реку.Все неровности дна чувствовались босыми ногами. Но не скажу, что это было неприятно, наоборот – как освежающая ванна среди знойного летнего дня. Вскарабкаться по скалам тоже не составило особого труда. И вот мы на месте.
Высоченные скалы – словно стена прямо перед нами. Завораживающее зрелище. По идее, клад должен был находиться прямо внутри. Разделившись, мы стали изучать окрестности. Подойдя к одинокостоящему дереву, я увидела трещину внушительных размеров, что шла снизу до самого верха. Отличное место для тайника! Еле протиснувшись внутрь, я подметила, что в глубине скалы пространство довольно большое и темное. Луч фонарика телефона, блуждая по пещере, высвечивает нечто удивительное: груду поблескивающий золотых украшений и монет. Неужели и правда клад?!!
Попытки позвать друзей не увенчались успехом, а лишь эхом раздавались в пещере. Я подумала, что она сами заметят моё отсутствие и найдут меня, амне пока стоило рассмотреть все, что тут есть. Мое внимание привлёк браслет, лежавший на каком-то пожелтевшем листе бумаги и таинственно поблескивавший красным светом. Не очень хорошо разбираюсь в камнях, но предположила, что сделан он был из рубинов. Безумно красиво! В центре его сверкали четыре небольших вращающихся камушка, имевших по десять граней, на каждой из которых были выгравированы крошечные числа от 0 до 9. Сейчас там было составлено число 2023. На листике под ним была надпись - «машина времени».Под этим листом ещё какой-то листок, но мне уже не до него. Щёлк! И пазл в моей голове сложился. Я схватила браслет и, сунув его в карман, вышла на свет, больно ударивший по глазам, привыкшим ко тьме.
Ребята не нашли ничего, а я говорить про свою находку не стала – если бы сказала, они такой шумподняли бы. К тому же у меня была кое-какая идея по поводу найденного браслета. В итоге мы сошлись во мнении, что эта карта лжет, и отправились домой.
… Окно нараспашку, прохладный ветер гуляет по комнате. Тьма непроглядная, лишь полная луна льёт свой ровный молочный свет прямо на мой письменный стол. Сидя за ним, я чуть придерживаю лист бумаги, который позже будет запечатан в конверт. Нервно грызу край ручки, пытаясь придумать подходящие слова. Заканчиваю письмо словами «и тогда ты будешь счастлива!». Но так сильно я никогда не ошибалась…
… Выхожу на улицу, присаживаюсь на лавочку и ввожу дату: 2008. Вокруг все резко меняется: всё становится серо и как-то печально. Из доманапротив выходит женщина с годовалым ребенком в коляске. Собираюсь с духом и выпаливаю:
- Здравствуйте, у меня к вам очень интересное предложение.
Женщина недоверчиво глядит на меня.
- Этот конверт – подарок от очень важного человека, - продолжаю я. – И я прошу вас его сохранить и вручить вашей дочери, когда ей исполнится десять. Только не вскрывайте его.
Женщина берёт протянутый мною конверт и поспешно удаляется, всё так же недоверчиво глядя на меня.
- Вашу дочь зовут София! – кричу я вслед. Возможно, она не понимает, как я угадала, но разве я могу не знать своего имени?
Дело выполнено, а значит, нужно возвращаться обратно. Снова сажусь на ту же лавочку и ввожу число 2023. Всё так просто!
…Но почему все вмиг стало темным? Я не вижу и не чувствую своего тела, лишь слышу мысли. Неужели теперь я заперта в этом пространстве? Видимо, отдав письмо себе, я поменяла ход жизни в будущем, но если все пошло иначе, то и машину времени в новой жизни я не найду. Получается замкнутый круг. Но почему же именно так все вышло?..
А что, если поразмыслить о том, зачем нужны правила? Неважно какие: правила игры, правила использования чего-либо, хотя вернее будет сказать – инструкция, правила поведения. Наверное, они нужны для того, чтобы в мире был порядок, чтобы ничего не сбилось и работало, как слаженный механизм. Я бы поразмышляла на разные философские темы, ведь за долгое время, что здесь нахожусь, успела понять абсолютно ВСЁ. А что мне еще тут делать, кроме как мыслить?
В пещере под браслетом лежал лист старой пожелтевшей бумаги. Аккуратными буквами на нём было выведено:
«Единственное правило: нельзя менять прошлое и будущее».
… А что, если поразмыслить о том, зачем нужны правила? Неважно какие: правила игры, правила использования чего-либо, хотя вернее будет сказать инструкция, правила поведения. Наверное, они нужны для того, чтобы в мире был порядок, чтобы ничего не сбилось и работало, как слаженный механизм. Я бы поразмышляла на разные философские темы, ведь за долгое время, что здесь нахожусь, успела понять абсолютно ВСЁ. А что мне еще тут делать, кроме как мыслить?
… Недавно знакомые ребята нашли «карту сокровищ». Звучит довольно глупо – возможно, они решили устроить между собой квест, а карту сами же и нарисовали. Меня позвали тоже, и я от нечего делать согласилась. Живем мы в поселке, что находится в густом еловом лесу, невдалеке от нас – гора, а за ней ещё и ещё… Поэтому я была уверена, что поиски будут интересными. Полагаю, что позвали меня именно потому, что в картах я ориентируюсь отлично.
Отправились мы рано-рано утром, было часа четыре. Взглянув на карту, я поняла, что не зря мы вышли до восхода солнца, ибо путь предстоялнепростой: пройти через лес, реку и подняться к скалам. И, если я правильно определила, рядом будет поле, а после озеро.
Лето в нашем селе – странное время года, словно в пустыне. Рано утром прохладно и даже морозно, пройдет буквально часа два, и жара будет стоять невыносимая. Так и было и в этот раз. От пожирающих солнечных лучей нас укрывали лишь густые еловые ветви. По открытой местности идти – мука, но весёлые истории от ребят скрашивали путь.
Вот поворот по тропе и река, а после – сразу в гору. Хотя я ожидала, что идти мы будем дольше. Моста не обнаружили, поэтому, разувшись, мы стали переходить реку.Все неровности дна чувствовались босыми ногами. Но не скажу, что это было неприятно, наоборот – как освежающая ванна среди знойного летнего дня. Вскарабкаться по скалам тоже не составило особого труда. И вот мы на месте.
Высоченные скалы – словно стена прямо перед нами. Завораживающее зрелище. По идее, клад должен был находиться прямо внутри. Разделившись, мы стали изучать окрестности. Подойдя к одинокостоящему дереву, я увидела трещину внушительных размеров, что шла снизу до самого верха. Отличное место для тайника! Еле протиснувшись внутрь, я подметила, что в глубине скалы пространство довольно большое и темное. Луч фонарика телефона, блуждая по пещере, высвечивает нечто удивительное: груду поблескивающий золотых украшений и монет. Неужели и правда клад?!!
Попытки позвать друзей не увенчались успехом, а лишь эхом раздавались в пещере. Я подумала, что она сами заметят моё отсутствие и найдут меня, амне пока стоило рассмотреть все, что тут есть. Мое внимание привлёк браслет, лежавший на каком-то пожелтевшем листе бумаги и таинственно поблескивавший красным светом. Не очень хорошо разбираюсь в камнях, но предположила, что сделан он был из рубинов. Безумно красиво! В центре его сверкали четыре небольших вращающихся камушка, имевших по десять граней, на каждой из которых были выгравированы крошечные числа от 0 до 9. Сейчас там было составлено число 2023. На листике под ним была надпись - «машина времени».Под этим листом ещё какой-то листок, но мне уже не до него. Щёлк! И пазл в моей голове сложился. Я схватила браслет и, сунув его в карман, вышла на свет, больно ударивший по глазам, привыкшим ко тьме.
Ребята не нашли ничего, а я говорить про свою находку не стала – если бы сказала, они такой шумподняли бы. К тому же у меня была кое-какая идея по поводу найденного браслета. В итоге мы сошлись во мнении, что эта карта лжет, и отправились домой.
… Окно нараспашку, прохладный ветер гуляет по комнате. Тьма непроглядная, лишь полная луна льёт свой ровный молочный свет прямо на мой письменный стол. Сидя за ним, я чуть придерживаю лист бумаги, который позже будет запечатан в конверт. Нервно грызу край ручки, пытаясь придумать подходящие слова. Заканчиваю письмо словами «и тогда ты будешь счастлива!». Но так сильно я никогда не ошибалась…
… Выхожу на улицу, присаживаюсь на лавочку и ввожу дату: 2008. Вокруг все резко меняется: всё становится серо и как-то печально. Из доманапротив выходит женщина с годовалым ребенком в коляске. Собираюсь с духом и выпаливаю:
- Здравствуйте, у меня к вам очень интересное предложение.
Женщина недоверчиво глядит на меня.
- Этот конверт – подарок от очень важного человека, - продолжаю я. – И я прошу вас его сохранить и вручить вашей дочери, когда ей исполнится десять. Только не вскрывайте его.
Женщина берёт протянутый мною конверт и поспешно удаляется, всё так же недоверчиво глядя на меня.
- Вашу дочь зовут София! – кричу я вслед. Возможно, она не понимает, как я угадала, но разве я могу не знать своего имени?
Дело выполнено, а значит, нужно возвращаться обратно. Снова сажусь на ту же лавочку и ввожу число 2023. Всё так просто!
…Но почему все вмиг стало темным? Я не вижу и не чувствую своего тела, лишь слышу мысли. Неужели теперь я заперта в этом пространстве? Видимо, отдав письмо себе, я поменяла ход жизни в будущем, но если все пошло иначе, то и машину времени в новой жизни я не найду. Получается замкнутый круг. Но почему же именно так все вышло?..
А что, если поразмыслить о том, зачем нужны правила? Неважно какие: правила игры, правила использования чего-либо, хотя вернее будет сказать – инструкция, правила поведения. Наверное, они нужны для того, чтобы в мире был порядок, чтобы ничего не сбилось и работало, как слаженный механизм. Я бы поразмышляла на разные философские темы, ведь за долгое время, что здесь нахожусь, успела понять абсолютно ВСЁ. А что мне еще тут делать, кроме как мыслить?
В пещере под браслетом лежал лист старой пожелтевшей бумаги. Аккуратными буквами на нём было выведено:
«Единственное правило: нельзя менять прошлое и будущее».
Бацких Ульяна. Как я нашел машину времени
Больше всего в своей жизни Витька любил приключения. И не важно, какие именно были эти приключения: втайне от мамы сходить с соседскими мальчишками на речку, наловить в банку кузнечиков и принести их домой, чтобы посмотреть, чем они занимаются в повседневной жизни, или запустить с папой огромного, ярко раскрашенного воздушного змея, которого мастерили всей семьёй. Поэтому, когда Витькина бабушка Римма Константиновна, улыбаясь и хитро щуря глаза, сказала, что у неё есть машина времени, мальчик твёрдо решил, что ему непременно надо на неё взглянуть. Ведь бабушка врать не будет, а значит, в её доме, деревянном, низеньком, с резными наличниками, потемневшими от времени, стоит настоящая, всамделишная машина времени! О работе такого хитрого прибора Витька, честно сказать, знал мало: пару раз видел в научно-фантастических журналах картинки с учёными, стоящими около громадных, похожих на печки устройств с многочисленными лампочками, сверкающими разными цветами, да и всё.
Когда Римма Константиновна, открывшая дверь внуку, прилагающему все силы, чтобы принять серьёзный вид ради столь важного дела, повела его не в тайную комнату, предназначенную для хранения машины времени, а в спальню с полинявшими старыми диванчиками и столь же старым столом, с которого уже слезла краска, Витька насторожился и спросил:
– Бабушка, а ты уверена, что у тебя есть машина времени?
Мальчик покрутился вокруг своей оси, упорно пытаясь разглядеть в знакомой комнате что-то новое. Безрезультатно! Всё оставалось прежним: кровать с деревянной, грубо вытесанной спинкой, часы с кукушкой, переставшей петь уже давным-давно, висящий на стене ковёр с хитрым узором.
– Уверена, Вить, уверена, – ответила Римма Константиновна, кряхтя, села на диван, взяв с низкого столика, балансирующего на трёх ножках, увесистую книгу в истрепавшемся от времени кожаном переплёте. – А ты сомневаешься во мне, да?
– Ну… Машина времени большая, а у тебя тут такую громадину даже спрятать негде.
Мальчик, разочарованно вздохнув, запрыгнул на диван, протестующе скрипнувший от резких движений, и уселся рядом с бабушкой.
– А тебе прямо всё вынь да положь? Вот молодёжь пошла! – бабушка Римма усмехнулась и покачала головой. – Давай так: я тебе кое-что показываю, а ты решаешь, понял ли, в чём хитрость машины времени.
– Ладно, – протянул Витька, откинувшись на спинку дивана и подняв прищуренные глаза на бабушку.
Римма Константиновна, улыбнувшись непоседливому внуку (что взять с десятилетнего мальчишки?), открыла альбом, лежащий у неё на коленях, пролистав несколько пожелтевших от времени страниц, указала на фотографию маленькой девочки и произнесла:
– Это я в детстве. Совсем маленькой тогда была, даже младше тебя, – бабушка посмотрела на Витьку, заметно оживившегося, с неподдельным интересом заглядывающего в альбом. – Помню, как мы с родителями собирались в город, чтобы сделать фотографию в специальном ателье. В те времена это было дорогим удовольствием. Денег у всех было мало, но мама каким-то чудом купила мне новые ботиночки, белые, блестящие, с ремешком на щиколотке и голубым бантиком на носочке. Они мне невероятно нравились: раньше у меня были только грубые, тёмные башмаки, которые я донашивала за старшими сёстрами и братьями, а тут – такое! Я, как принцесса из сказки, была в нарядном платье, сшитом бабушкой специально для такого важного повода, и в тех самых ботиночках. Я собой налюбоваться не могла: ходила мимо зеркала и думала о том, что не похожа я на себя неопрятную и чумазую от вечной беготни по деревне. Потом мама устала, оттого что я кручусь у неё под ногами и мешаю собираться, и отправила меня на улицу. А день был просто загляденье! Летний, жаркий, немного душный день, оттого что всю неделю, не переставая, шли дожди, наполненный пением птиц и радостными вскриками ребят и девчонок, резвящихся на речке. Мне так захотелось к ним пойти! Пусть не поиграть, просто поздороваться и похвастаться, что я, мол, еду в фотоателье, как важная особа. От нашего дома до речки было рукой подать – я бы сбегала быстро, и мама даже не заметила бы. Решила я пойти к речке самой короткой дорогой, проходившей через заросшие поля и огороды. Да тут и появилась проблема: забежала я в эти огороды, а земля там сырая, вязкая, после дождей она высохнуть не успела. Когда выбежала на дорогу, обнаружила, что одного моего ботиночка нет: потеряла, когда шла. И где именно? Ведь по всему огороду прошлась, пока пыталась найти дорогу. Мне тогда стало так обидно, но больше даже не за то, что потеряла ботинок, а за то, что ругаться будут. Мама-то на них деньги копила. Поэтому я сняла вторую туфельку, бросила её куда-то в высокую траву (вдруг не заметят моей пропажи!) и пошла к дому. Мама, конечно же, всё заметила, но ничего не сказала, только вздохнула глубоко и повезла меня в город на фотографию в старых башмаках…
Витька рассмеялся:
– Да как же ты так сделать могла? Нужно было второй оставлять. Может, не заметили бы, что первый пропал.
– Ну, – улыбнулась Римма Константиновна, потрепав внука по голове, – я тогда не так размышляла. Но благодарю за высказанное мнение! Я учту. Вдруг опять ботиночки потеряю.
Бабушка Римма снова пролистала несколько страниц альбома, остановившись на другой фотографии: там уже было намного больше людей, все они сидели на лавках, составленных полукругом, и смотрели прямо в камеру.
– А вот здесь я уже намного старше: окончила школу, отучилась девять классов, хотя почти все в нашей деревне обычно переставали заниматься учёбой после пяти-шести классов и начинали больше помогать по хозяйству родителям, искать работу. А я очень уж любила получать знания: и арифметикой занималась, и историей, и русским языком. Когда нам сказали, что из города приедет фотограф, все невероятно обрадовались. Помню, как я перед этим событием всю ночь перекраивала свою старую одежду для того, чтобы она на мне смотрелась лучше, наряднее. Взяла я тогда у бабушки швейную машинку и начала трудиться. Из бесформенного, длинного сарафана получилось красивое платье до колена, с воротничком и рукавами-фонариками. Пришла в школу, и все девчонки мне завидовали. В то время такое модно было носить, но стоили обновки дорого – не все могли себе позволить. Мне даже городской фотограф сделал комплимент, представляешь? Сказал, что я красиво получаюсь в кадре, – вспоминала Римма Константиновна. – Были же времена… А потом, Вить, началась война. Тяжёлые это были годы. Тогда уже о платьях и фотографах не мечталось.
Бабушка Римма повернулась и посмотрела на внезапно замолчавшего Витьку, задумчиво водившего пальцами по поверхностям фотографий в альбоме, а потом проговорила:
– Ну, чего ты? У меня ещё истории есть, они самые разные: и грустные, и весёлые.
Римма Константиновна открыла следующий альбомный разворот и указала внуку на фотографию: там, на фоне многочисленных железных кроватей, составленных у стен с обсыпающейся штукатуркой, замерло множество людей. Кто-то был одет в длинные белоснежные халаты врачей, кто-то – в накрахмаленные передники и косынки медсестёр, а кто-то – в поварские халаты с закатанными рукавами.
– Ты была санитаркой? – уточнил у бабушки Витька, подняв голову и вглядевшись в её глаза.
Римма Константиновна заливисто рассмеялась, словно не вспоминала переживания и страхи прошлого.
– Куда мне! Я до дрожи в руках боялась навредить раненому. Но на войне каждые рабочие руки на счету, поэтому я стала служить кухаркой в госпитале. Работы было много: кормить нужно было и врачей, и медсестёр, и солдат. Мы справлялись. Иногда даже служивые помогали в меру своих возможностей. Так, однажды мне парень помог донести короб с овощами до кухни. И зачем, спрашивается, мучился, если у него ранение было? Потом оказалось, что понравилась я ему, решил познакомиться, – вспоминала, мягко улыбаясь, Римма Константиновна. – Начал он приходить на кухню и говорить со мной обо всём. Санитарки ругались страшно за нарушение режима, а он цветы полевые мне приносил. Потом выписался, уехал дальше службу нести. Ты не представляешь, как я тогда расстроилась: ходила больше двух недель как в воду опущенная. Дальше жизнь стала прежней, забот прибавилось, и перестала я так часто думать об этом солдате. Но не забыла и, когда война закончилась, встретила его снова. Судьба, я считаю, не иначе! Это твой дедушка был, Вить, – добавила бабушка Римма, чтобы мальчик смог придать эфемерному образу незнакомого парнишки родные черты, видимые только в раннем детстве, но хранимые в памяти до сих пор.
– Ну, что? – старушка захлопнула альбом и водрузила его на подлокотник дивана, обратившись к Витьке. – Хочешь ещё на машину времени посмотреть?
– Можно всё-таки? – просиял мальчишка, улыбнувшись.
Римма Константиновна глубоко вздохнула и слегка усмехнулась, посмотрев на внука с высоты прожитых лет:
– Знаешь, я тут подумала... Её в порядок привести надо, рано тебе ещё смотреть. Беги вон, поиграй с ребятами, а я пирожков напеку.
Витька, уже расстроившийся оттого, что не увидит чудесный прибор, приободрился, как только услышал о бабушкиной затее, и выбежал на улицу, напоследок крикнув о том, что ещё вернётся. А Римма Константиновна осталась в доме наедине с прожитыми ею годами, наполненными событиями, постоянно отзывающимися в душе, просящими вспоминать их хоть иногда и переноситься в ту пору.
Спустя тридцать лет, разбирая бабушкины вещи, Виктор нашёл тот самый альбом, заботливо оставленный Риммой Константиновной на трёхногом столике возле дивана. Открыв его первый разворот, мужчина увидел знакомые детские глаза и наконец-то понял, как работает загадочная машина времени.
Больше всего в своей жизни Витька любил приключения. И не важно, какие именно были эти приключения: втайне от мамы сходить с соседскими мальчишками на речку, наловить в банку кузнечиков и принести их домой, чтобы посмотреть, чем они занимаются в повседневной жизни, или запустить с папой огромного, ярко раскрашенного воздушного змея, которого мастерили всей семьёй. Поэтому, когда Витькина бабушка Римма Константиновна, улыбаясь и хитро щуря глаза, сказала, что у неё есть машина времени, мальчик твёрдо решил, что ему непременно надо на неё взглянуть. Ведь бабушка врать не будет, а значит, в её доме, деревянном, низеньком, с резными наличниками, потемневшими от времени, стоит настоящая, всамделишная машина времени! О работе такого хитрого прибора Витька, честно сказать, знал мало: пару раз видел в научно-фантастических журналах картинки с учёными, стоящими около громадных, похожих на печки устройств с многочисленными лампочками, сверкающими разными цветами, да и всё.
Когда Римма Константиновна, открывшая дверь внуку, прилагающему все силы, чтобы принять серьёзный вид ради столь важного дела, повела его не в тайную комнату, предназначенную для хранения машины времени, а в спальню с полинявшими старыми диванчиками и столь же старым столом, с которого уже слезла краска, Витька насторожился и спросил:
– Бабушка, а ты уверена, что у тебя есть машина времени?
Мальчик покрутился вокруг своей оси, упорно пытаясь разглядеть в знакомой комнате что-то новое. Безрезультатно! Всё оставалось прежним: кровать с деревянной, грубо вытесанной спинкой, часы с кукушкой, переставшей петь уже давным-давно, висящий на стене ковёр с хитрым узором.
– Уверена, Вить, уверена, – ответила Римма Константиновна, кряхтя, села на диван, взяв с низкого столика, балансирующего на трёх ножках, увесистую книгу в истрепавшемся от времени кожаном переплёте. – А ты сомневаешься во мне, да?
– Ну… Машина времени большая, а у тебя тут такую громадину даже спрятать негде.
Мальчик, разочарованно вздохнув, запрыгнул на диван, протестующе скрипнувший от резких движений, и уселся рядом с бабушкой.
– А тебе прямо всё вынь да положь? Вот молодёжь пошла! – бабушка Римма усмехнулась и покачала головой. – Давай так: я тебе кое-что показываю, а ты решаешь, понял ли, в чём хитрость машины времени.
– Ладно, – протянул Витька, откинувшись на спинку дивана и подняв прищуренные глаза на бабушку.
Римма Константиновна, улыбнувшись непоседливому внуку (что взять с десятилетнего мальчишки?), открыла альбом, лежащий у неё на коленях, пролистав несколько пожелтевших от времени страниц, указала на фотографию маленькой девочки и произнесла:
– Это я в детстве. Совсем маленькой тогда была, даже младше тебя, – бабушка посмотрела на Витьку, заметно оживившегося, с неподдельным интересом заглядывающего в альбом. – Помню, как мы с родителями собирались в город, чтобы сделать фотографию в специальном ателье. В те времена это было дорогим удовольствием. Денег у всех было мало, но мама каким-то чудом купила мне новые ботиночки, белые, блестящие, с ремешком на щиколотке и голубым бантиком на носочке. Они мне невероятно нравились: раньше у меня были только грубые, тёмные башмаки, которые я донашивала за старшими сёстрами и братьями, а тут – такое! Я, как принцесса из сказки, была в нарядном платье, сшитом бабушкой специально для такого важного повода, и в тех самых ботиночках. Я собой налюбоваться не могла: ходила мимо зеркала и думала о том, что не похожа я на себя неопрятную и чумазую от вечной беготни по деревне. Потом мама устала, оттого что я кручусь у неё под ногами и мешаю собираться, и отправила меня на улицу. А день был просто загляденье! Летний, жаркий, немного душный день, оттого что всю неделю, не переставая, шли дожди, наполненный пением птиц и радостными вскриками ребят и девчонок, резвящихся на речке. Мне так захотелось к ним пойти! Пусть не поиграть, просто поздороваться и похвастаться, что я, мол, еду в фотоателье, как важная особа. От нашего дома до речки было рукой подать – я бы сбегала быстро, и мама даже не заметила бы. Решила я пойти к речке самой короткой дорогой, проходившей через заросшие поля и огороды. Да тут и появилась проблема: забежала я в эти огороды, а земля там сырая, вязкая, после дождей она высохнуть не успела. Когда выбежала на дорогу, обнаружила, что одного моего ботиночка нет: потеряла, когда шла. И где именно? Ведь по всему огороду прошлась, пока пыталась найти дорогу. Мне тогда стало так обидно, но больше даже не за то, что потеряла ботинок, а за то, что ругаться будут. Мама-то на них деньги копила. Поэтому я сняла вторую туфельку, бросила её куда-то в высокую траву (вдруг не заметят моей пропажи!) и пошла к дому. Мама, конечно же, всё заметила, но ничего не сказала, только вздохнула глубоко и повезла меня в город на фотографию в старых башмаках…
Витька рассмеялся:
– Да как же ты так сделать могла? Нужно было второй оставлять. Может, не заметили бы, что первый пропал.
– Ну, – улыбнулась Римма Константиновна, потрепав внука по голове, – я тогда не так размышляла. Но благодарю за высказанное мнение! Я учту. Вдруг опять ботиночки потеряю.
Бабушка Римма снова пролистала несколько страниц альбома, остановившись на другой фотографии: там уже было намного больше людей, все они сидели на лавках, составленных полукругом, и смотрели прямо в камеру.
– А вот здесь я уже намного старше: окончила школу, отучилась девять классов, хотя почти все в нашей деревне обычно переставали заниматься учёбой после пяти-шести классов и начинали больше помогать по хозяйству родителям, искать работу. А я очень уж любила получать знания: и арифметикой занималась, и историей, и русским языком. Когда нам сказали, что из города приедет фотограф, все невероятно обрадовались. Помню, как я перед этим событием всю ночь перекраивала свою старую одежду для того, чтобы она на мне смотрелась лучше, наряднее. Взяла я тогда у бабушки швейную машинку и начала трудиться. Из бесформенного, длинного сарафана получилось красивое платье до колена, с воротничком и рукавами-фонариками. Пришла в школу, и все девчонки мне завидовали. В то время такое модно было носить, но стоили обновки дорого – не все могли себе позволить. Мне даже городской фотограф сделал комплимент, представляешь? Сказал, что я красиво получаюсь в кадре, – вспоминала Римма Константиновна. – Были же времена… А потом, Вить, началась война. Тяжёлые это были годы. Тогда уже о платьях и фотографах не мечталось.
Бабушка Римма повернулась и посмотрела на внезапно замолчавшего Витьку, задумчиво водившего пальцами по поверхностям фотографий в альбоме, а потом проговорила:
– Ну, чего ты? У меня ещё истории есть, они самые разные: и грустные, и весёлые.
Римма Константиновна открыла следующий альбомный разворот и указала внуку на фотографию: там, на фоне многочисленных железных кроватей, составленных у стен с обсыпающейся штукатуркой, замерло множество людей. Кто-то был одет в длинные белоснежные халаты врачей, кто-то – в накрахмаленные передники и косынки медсестёр, а кто-то – в поварские халаты с закатанными рукавами.
– Ты была санитаркой? – уточнил у бабушки Витька, подняв голову и вглядевшись в её глаза.
Римма Константиновна заливисто рассмеялась, словно не вспоминала переживания и страхи прошлого.
– Куда мне! Я до дрожи в руках боялась навредить раненому. Но на войне каждые рабочие руки на счету, поэтому я стала служить кухаркой в госпитале. Работы было много: кормить нужно было и врачей, и медсестёр, и солдат. Мы справлялись. Иногда даже служивые помогали в меру своих возможностей. Так, однажды мне парень помог донести короб с овощами до кухни. И зачем, спрашивается, мучился, если у него ранение было? Потом оказалось, что понравилась я ему, решил познакомиться, – вспоминала, мягко улыбаясь, Римма Константиновна. – Начал он приходить на кухню и говорить со мной обо всём. Санитарки ругались страшно за нарушение режима, а он цветы полевые мне приносил. Потом выписался, уехал дальше службу нести. Ты не представляешь, как я тогда расстроилась: ходила больше двух недель как в воду опущенная. Дальше жизнь стала прежней, забот прибавилось, и перестала я так часто думать об этом солдате. Но не забыла и, когда война закончилась, встретила его снова. Судьба, я считаю, не иначе! Это твой дедушка был, Вить, – добавила бабушка Римма, чтобы мальчик смог придать эфемерному образу незнакомого парнишки родные черты, видимые только в раннем детстве, но хранимые в памяти до сих пор.
– Ну, что? – старушка захлопнула альбом и водрузила его на подлокотник дивана, обратившись к Витьке. – Хочешь ещё на машину времени посмотреть?
– Можно всё-таки? – просиял мальчишка, улыбнувшись.
Римма Константиновна глубоко вздохнула и слегка усмехнулась, посмотрев на внука с высоты прожитых лет:
– Знаешь, я тут подумала... Её в порядок привести надо, рано тебе ещё смотреть. Беги вон, поиграй с ребятами, а я пирожков напеку.
Витька, уже расстроившийся оттого, что не увидит чудесный прибор, приободрился, как только услышал о бабушкиной затее, и выбежал на улицу, напоследок крикнув о том, что ещё вернётся. А Римма Константиновна осталась в доме наедине с прожитыми ею годами, наполненными событиями, постоянно отзывающимися в душе, просящими вспоминать их хоть иногда и переноситься в ту пору.
Спустя тридцать лет, разбирая бабушкины вещи, Виктор нашёл тот самый альбом, заботливо оставленный Риммой Константиновной на трёхногом столике возле дивана. Открыв его первый разворот, мужчина увидел знакомые детские глаза и наконец-то понял, как работает загадочная машина времени.
Поликутин Лев. Лунный рыцарь
Как-то летом Петька приехал погостить в деревню на месяцок, как обычно и бывало в конце каждого учебного года. Интернет там был на вес золота, но это как раз таки и было поводом заняться другими делами. Игры с друзьями, походы с розжигом костров, дневной лагерь, купание в речке, помощь на огороде и другие интересные занятия – Петьке нравилась деревня.
Была там лишь одна ложка дёгтя в бочке мёда – это кромешная темнота. Как ни ложился он спать, так всё время приходилось ему сталкиваться с ней. Петька и так не любил ночь, потому что в ночное время было скучно… и страшно. Но если в городе по ночам хотя бы светили фонарные столбы, то в деревне был лишь один фонарь. И тот у школы. Поэтому бабушкин двор был практически не освещён, а в комнате Петьки так и вообще не видно ни зги.
Вот и сейчас мальчишка готовился ко сну, стоя перед выключателем. "Щёлк!" – жёлтый свет погас, и комната погрузилась во мрак, а Петька побежал со всех ног и запрыгнул на кровать, чтобы длинные ледяные руки под ней не схватили его за пятку. Он закутался в одеяло, оставив снаружи лишь голову, и постарался заснуть. Но энергии у парня было хоть отбавляй, поэтому засыпал он плохо. Как всегда. И исходя из собственных наблюдений, так ему придётся провести ещё около часа. Чтобы скоротать время, Петька всматривался в темноту.
Поначалу были видны лишь тусклые блики настенных часов. Тихо тикала секундная стрелка. Когда глаза привыкли к темноте, а луна вышла из-за облаков, Петька смог разглядеть бледные обои на стенах, очертания тумбочки и предметов, в том числе жутких неваляшек. С комода своими большущими глазами смотрели на него заяц и девочка в платочке. Мальчик испугался и тут же повернулся на другой бок, лицом к настенному ковру.
Петька уже не раз замечал, что днём эти неваляшки – безобидные и весёлые, а ночью словно преображаются и улыбаются, как клоуны из страшилок. Вроде бы и милые, но чувство такое, будто сейчас съедят. Ноги из-под одеяла Петька высовывать не осмеливался. Ни на дюйм.
На настенном ковре светился небольшой квадрат. Сначала мальчик подумал, будто сам ковёр тускло сиял, а потом догадался, что это луна светит на него через окошко. Глядя на освещённые узоры, Петька успокоился, и тяжесть от страха понемногу улетучилась.
Через пять минут он закрыл глаза и уже готов был уснуть, как вдруг на чердаке что-то громыхнуло и утихло. Первобытный ужас пронзил сердце Петьки, он распахнул глаза и перевернулся на спину.
"Показалось", – подумал Петька. Он хотел думать, что ему просто послышалось.
Но через некоторое время на чердаке вновь что-то зашуршало, забегало. Петька подумал, что это всего лишь кошка.
"Действительно, кто же ещё?" – пытался сгладить ситуацию рассудок.
Однако такие звуки не могла издавать кошка. Слишком уж они беспорядочные. Да и мяуканья никакого не было слышно.
"Наверняка какой-нибудь бабайка", – стоило Петьке подумать об этом, как его парализовал страх, столь сильный, что мальчику срочно захотелось по-маленькому, а сердце сжало в тиски.
Он закрыл глаза и старался не обращать внимания на странный шум..
. Но и через полчаса звуки не прекратились, а мальчишке ещё сильнее хотелось в туалет. Заснул Петька в холодном поту.
Проснулся паренёк от того, что его пятки что-то щекотало, а щёки приятно покалывало. Странно, но на его веках не рябил солнечный свет, как это обычно бывает по утрам, поэтому мальчик решил проверить, что же его щекочет. Он приподнялся и открыл глаза. Снова была кромешная темнота. Однако на этот раз вместо очертаний предметов и бледных стен Петька увидел блёклый свет луны за чёрными облаками и траву. Мальчишка был в недоумении. Он моргнул пару раз, и перед ним уже простиралось большое поле размером со стадион.
Петька затрясся от страха и был готов в любой момент заплакать. Так он бы и остался здесь трястись, но трава зашелестела. Шелест превратился в шёпот. Петька, пересилив страх, открыл глаза и приподнялся, чтобы понять, откуда идёт этот шёпот. Но стоило ему встать - и шёпот стал раздаваться со всех сторон, сливаясь в однородный неразборчивый шум. Создавалось ощущение, будто это голоса призраков дразнили его и запугивали перед тем, как утащить Петьку с собой.
"Но призраков ведь нет… Ведь нет?" – попытался он себя успокоить, и тут мимо него скользнула тень. Петька обернулся, но никого не увидел. Ещё одна. Оглянулся – и опять никого. От подобных шуточек сердце мальчика забилось быстрее, согревая его ледяное тело.
Вдруг недалеко от Петьки, прямо на его глазах, вырос тёмный силуэт. Он был похож на сгорбившуюся девушку с длинными волосами. Страх сковал Петьку в холодных объятиях. Девушка подняла голову, и на паренька уставилась пара пустых холодных глаз.
Квакнула лягушка, но мальчику показалось, будто это девушка открыла свою широкую, как у глубоководной рыбы, пасть и издала такой истошный звук. Петька заорал на всю округу, и что есть мочи побежал от девушки-монстра.
Пока бежал, он то и дело спотыкался о земляные комки и пару раз даже угодил в засохшие коровьи лепёшки. Бежал - и всё продолжал голосить. Звонко, чуть не навзрыд. Но шёпот не удалялся, а тени гнались за ним по пятам. За ближайшими деревьями Петька на пару мгновений увидел зловещего зайца-робота, отчего побежал ещё быстрее.
– СПАСИ-ТЕ-Е-Е! – в ужасе надрывал он глотку.
Теперь помимо шёпота, он теперь слышал и топот железных лап. Паренёк разогнался, насколько это возможно, побив школьный рекорд по бегу, но в итоге споткнулся о валун и упал, поцарапав лицо жёсткой травой и веточками.
Хоть Петька упал в высокую траву, он знал, что его это не спасёт. К тому же, он растянул себе ногу, врезавшись на огромной скорости в кусок земли, поэтому бежать уже не мог. Петька тихо заплакал.
– Бог, пожалуйста, если ты есть, спаси меня, прошу спаси, – засопел мальчишка. – Ради всего хорошего, спаси, ну тебе сложно что ли? – молиться он не умел, поэтому сказал то, что первым пришло в голову.
Недалеко от него послышались шаги, сливающиеся с шелестом травы. Хор призрачных шептунов всё не утихал. Петька больше не вернётся домой, спасения нет.
"Раз мне всё равно помирать, хоть сделаю это достойно", – подумал мальчик и встал, выпрямив спину. В последние минуты своей жизни Петька захотел быть как те герои из мультфильмов, которые храбро встречают свою смерть, глядя страху прямо в глаза.
На пацана уставились два блёклых глаза.
– Давай, делай со мной что хочешь. Я тебя не боюсь, – хотя он так и говорил, но сердце его билось как бешеное.
Чудище, услышав это, стало медленно подходить к нахалёнку. Шёпот становился отчётливее. Однако Петька и не думал отводить взгляд. Подойдя ближе, девушка-монстр разинула широкий рот, оскалив белые острые зубы. Петька зажмурил глаза и опустил голову. Рот чудища – явно не то, что хотелось бы видеть перед смертью. Мальчишка приготовился к самой страшной расправе, которую только мог представить.
Внезапно гул шептунов затих. И Петька подумал, что всё, конец. Он открыл глаза, чтобы увидеть свет в конце тоннеля, но увидел лишь всё то же поле. Девушки уже не было, как не было ни теней, ни робота-зайца.
Полная луна вышла из-за облаков, осветила местность холодно-бледным светом, и Петька смог лицезреть завораживающее зрелище: заросший стадион возле дома бабушки, дубовая роща неподалёку, деревенские дома, свинцово-чёрные облака, и всё это в матовой дымке лунного света, а на небе висел яркий белый диск с тёмными пятнами.
Петька так засмотрелся на эту красоту, что позабыл обо всех монстрах, что были тут недавно. Даже позабыл где он.
"Почему я тут стою? Мне же домой надо", – подумал он.
Но Петька не хотел уходить. Он впервые увидел красоту ночи и потому хотел запомнить это мгновение как можно лучше, хотел побыть здесь ещё немного. Мальчишка огляделся, потом сел и уставился в лесную даль. Тёмные очертания далёкого леса покладисто наклонялись под лихими порывами ветра. Облака расступились, и на небе показались звёзды. Синие, белые, даже оранжевые. Всех мастей и областей. Петька посчитал, что будет хорошей идеей полюбоваться ночным небом, поэтому лёг на траву, подперев голову ладонями.
"О! Эта большая планета… по ходу, Юпитер. А тут, чуть ниже, Сатурн. А может, Венера? Уж больно мелковата для Сатурна эта планетка. Это ведь… как там дедушка говорил? Противостояние планет. Большой Медведицы что-то не видать. Да и Полярной звезды тоже. Зато Вега сияет… красота", – с этими мыслями Петька и заснул.
Открыл глаза: вокруг всё ещё было темно. Стрелки настенных часов показывали три часа ночи.
"Так это был всего лишь сон", – мальчик почувствовал, как внутри у него всё отлегло. А ещё почувствовал сильную нужду. Перед сном он ведь так и не осмелился встать с кровати. Но теперь он опустил ноги на пол – однако сразу же отдёрнул, вспомнив о монстре под кроватью. Ещё и неваляшки эти. Слава Богу, сейчас они улыбались не так жутко, почти не страшно. Шум на чердаке тоже прекратился. Как бы то ни было, в туалет сходить надо, а то Петька рисковал сделать лужу прямо здесь.
Решив перехитрить монстра, мальчик слез с кровати и в пару прыжков добрался до двери. В надежде, что за ней никого нет, мальчик распахнул её и выбежал в коридор. Петьку вновь окутал страх темноты, и монстры полезли из концов коридора. Он зажмурил глаза, а потом вспомнил последние мгновения своего сна.
"Я – лунный рыцарь! И никто ко мне не подойдёт!" – он воспылал этими мыслями и, представив, что его обнимает лунный свет, расправил плечи и смело пошёл в туалет.
На обратном пути Петька обратил внимание на дверь в кладовую с жуткими узорами, которая его постоянно пугала. Он подошёл к ней и властно положил ладонь на ручку, словно принц, что усмиряет дикое животное. Он постоял так, пока не услышал храп дедушки в соседней комнате, и поспешил к себе.
Теперь Петька чувствовал себя гораздо храбрее, чем когда засыпал. Он вообще впервые чувствовал себя храбрецом, чем невероятно гордился.
"Бесстрашен не тот, кто не имеет страха, а тот, кто не боится столкнуться с ним лицом к лицу", – вспомнил Петька фразу из компьютерной игры. Теперь он, наконец, понял её смысл. С ней же и уснул.
Как-то летом Петька приехал погостить в деревню на месяцок, как обычно и бывало в конце каждого учебного года. Интернет там был на вес золота, но это как раз таки и было поводом заняться другими делами. Игры с друзьями, походы с розжигом костров, дневной лагерь, купание в речке, помощь на огороде и другие интересные занятия – Петьке нравилась деревня.
Была там лишь одна ложка дёгтя в бочке мёда – это кромешная темнота. Как ни ложился он спать, так всё время приходилось ему сталкиваться с ней. Петька и так не любил ночь, потому что в ночное время было скучно… и страшно. Но если в городе по ночам хотя бы светили фонарные столбы, то в деревне был лишь один фонарь. И тот у школы. Поэтому бабушкин двор был практически не освещён, а в комнате Петьки так и вообще не видно ни зги.
Вот и сейчас мальчишка готовился ко сну, стоя перед выключателем. "Щёлк!" – жёлтый свет погас, и комната погрузилась во мрак, а Петька побежал со всех ног и запрыгнул на кровать, чтобы длинные ледяные руки под ней не схватили его за пятку. Он закутался в одеяло, оставив снаружи лишь голову, и постарался заснуть. Но энергии у парня было хоть отбавляй, поэтому засыпал он плохо. Как всегда. И исходя из собственных наблюдений, так ему придётся провести ещё около часа. Чтобы скоротать время, Петька всматривался в темноту.
Поначалу были видны лишь тусклые блики настенных часов. Тихо тикала секундная стрелка. Когда глаза привыкли к темноте, а луна вышла из-за облаков, Петька смог разглядеть бледные обои на стенах, очертания тумбочки и предметов, в том числе жутких неваляшек. С комода своими большущими глазами смотрели на него заяц и девочка в платочке. Мальчик испугался и тут же повернулся на другой бок, лицом к настенному ковру.
Петька уже не раз замечал, что днём эти неваляшки – безобидные и весёлые, а ночью словно преображаются и улыбаются, как клоуны из страшилок. Вроде бы и милые, но чувство такое, будто сейчас съедят. Ноги из-под одеяла Петька высовывать не осмеливался. Ни на дюйм.
На настенном ковре светился небольшой квадрат. Сначала мальчик подумал, будто сам ковёр тускло сиял, а потом догадался, что это луна светит на него через окошко. Глядя на освещённые узоры, Петька успокоился, и тяжесть от страха понемногу улетучилась.
Через пять минут он закрыл глаза и уже готов был уснуть, как вдруг на чердаке что-то громыхнуло и утихло. Первобытный ужас пронзил сердце Петьки, он распахнул глаза и перевернулся на спину.
"Показалось", – подумал Петька. Он хотел думать, что ему просто послышалось.
Но через некоторое время на чердаке вновь что-то зашуршало, забегало. Петька подумал, что это всего лишь кошка.
"Действительно, кто же ещё?" – пытался сгладить ситуацию рассудок.
Однако такие звуки не могла издавать кошка. Слишком уж они беспорядочные. Да и мяуканья никакого не было слышно.
"Наверняка какой-нибудь бабайка", – стоило Петьке подумать об этом, как его парализовал страх, столь сильный, что мальчику срочно захотелось по-маленькому, а сердце сжало в тиски.
Он закрыл глаза и старался не обращать внимания на странный шум..
. Но и через полчаса звуки не прекратились, а мальчишке ещё сильнее хотелось в туалет. Заснул Петька в холодном поту.
Проснулся паренёк от того, что его пятки что-то щекотало, а щёки приятно покалывало. Странно, но на его веках не рябил солнечный свет, как это обычно бывает по утрам, поэтому мальчик решил проверить, что же его щекочет. Он приподнялся и открыл глаза. Снова была кромешная темнота. Однако на этот раз вместо очертаний предметов и бледных стен Петька увидел блёклый свет луны за чёрными облаками и траву. Мальчишка был в недоумении. Он моргнул пару раз, и перед ним уже простиралось большое поле размером со стадион.
Петька затрясся от страха и был готов в любой момент заплакать. Так он бы и остался здесь трястись, но трава зашелестела. Шелест превратился в шёпот. Петька, пересилив страх, открыл глаза и приподнялся, чтобы понять, откуда идёт этот шёпот. Но стоило ему встать - и шёпот стал раздаваться со всех сторон, сливаясь в однородный неразборчивый шум. Создавалось ощущение, будто это голоса призраков дразнили его и запугивали перед тем, как утащить Петьку с собой.
"Но призраков ведь нет… Ведь нет?" – попытался он себя успокоить, и тут мимо него скользнула тень. Петька обернулся, но никого не увидел. Ещё одна. Оглянулся – и опять никого. От подобных шуточек сердце мальчика забилось быстрее, согревая его ледяное тело.
Вдруг недалеко от Петьки, прямо на его глазах, вырос тёмный силуэт. Он был похож на сгорбившуюся девушку с длинными волосами. Страх сковал Петьку в холодных объятиях. Девушка подняла голову, и на паренька уставилась пара пустых холодных глаз.
Квакнула лягушка, но мальчику показалось, будто это девушка открыла свою широкую, как у глубоководной рыбы, пасть и издала такой истошный звук. Петька заорал на всю округу, и что есть мочи побежал от девушки-монстра.
Пока бежал, он то и дело спотыкался о земляные комки и пару раз даже угодил в засохшие коровьи лепёшки. Бежал - и всё продолжал голосить. Звонко, чуть не навзрыд. Но шёпот не удалялся, а тени гнались за ним по пятам. За ближайшими деревьями Петька на пару мгновений увидел зловещего зайца-робота, отчего побежал ещё быстрее.
– СПАСИ-ТЕ-Е-Е! – в ужасе надрывал он глотку.
Теперь помимо шёпота, он теперь слышал и топот железных лап. Паренёк разогнался, насколько это возможно, побив школьный рекорд по бегу, но в итоге споткнулся о валун и упал, поцарапав лицо жёсткой травой и веточками.
Хоть Петька упал в высокую траву, он знал, что его это не спасёт. К тому же, он растянул себе ногу, врезавшись на огромной скорости в кусок земли, поэтому бежать уже не мог. Петька тихо заплакал.
– Бог, пожалуйста, если ты есть, спаси меня, прошу спаси, – засопел мальчишка. – Ради всего хорошего, спаси, ну тебе сложно что ли? – молиться он не умел, поэтому сказал то, что первым пришло в голову.
Недалеко от него послышались шаги, сливающиеся с шелестом травы. Хор призрачных шептунов всё не утихал. Петька больше не вернётся домой, спасения нет.
"Раз мне всё равно помирать, хоть сделаю это достойно", – подумал мальчик и встал, выпрямив спину. В последние минуты своей жизни Петька захотел быть как те герои из мультфильмов, которые храбро встречают свою смерть, глядя страху прямо в глаза.
На пацана уставились два блёклых глаза.
– Давай, делай со мной что хочешь. Я тебя не боюсь, – хотя он так и говорил, но сердце его билось как бешеное.
Чудище, услышав это, стало медленно подходить к нахалёнку. Шёпот становился отчётливее. Однако Петька и не думал отводить взгляд. Подойдя ближе, девушка-монстр разинула широкий рот, оскалив белые острые зубы. Петька зажмурил глаза и опустил голову. Рот чудища – явно не то, что хотелось бы видеть перед смертью. Мальчишка приготовился к самой страшной расправе, которую только мог представить.
Внезапно гул шептунов затих. И Петька подумал, что всё, конец. Он открыл глаза, чтобы увидеть свет в конце тоннеля, но увидел лишь всё то же поле. Девушки уже не было, как не было ни теней, ни робота-зайца.
Полная луна вышла из-за облаков, осветила местность холодно-бледным светом, и Петька смог лицезреть завораживающее зрелище: заросший стадион возле дома бабушки, дубовая роща неподалёку, деревенские дома, свинцово-чёрные облака, и всё это в матовой дымке лунного света, а на небе висел яркий белый диск с тёмными пятнами.
Петька так засмотрелся на эту красоту, что позабыл обо всех монстрах, что были тут недавно. Даже позабыл где он.
"Почему я тут стою? Мне же домой надо", – подумал он.
Но Петька не хотел уходить. Он впервые увидел красоту ночи и потому хотел запомнить это мгновение как можно лучше, хотел побыть здесь ещё немного. Мальчишка огляделся, потом сел и уставился в лесную даль. Тёмные очертания далёкого леса покладисто наклонялись под лихими порывами ветра. Облака расступились, и на небе показались звёзды. Синие, белые, даже оранжевые. Всех мастей и областей. Петька посчитал, что будет хорошей идеей полюбоваться ночным небом, поэтому лёг на траву, подперев голову ладонями.
"О! Эта большая планета… по ходу, Юпитер. А тут, чуть ниже, Сатурн. А может, Венера? Уж больно мелковата для Сатурна эта планетка. Это ведь… как там дедушка говорил? Противостояние планет. Большой Медведицы что-то не видать. Да и Полярной звезды тоже. Зато Вега сияет… красота", – с этими мыслями Петька и заснул.
Открыл глаза: вокруг всё ещё было темно. Стрелки настенных часов показывали три часа ночи.
"Так это был всего лишь сон", – мальчик почувствовал, как внутри у него всё отлегло. А ещё почувствовал сильную нужду. Перед сном он ведь так и не осмелился встать с кровати. Но теперь он опустил ноги на пол – однако сразу же отдёрнул, вспомнив о монстре под кроватью. Ещё и неваляшки эти. Слава Богу, сейчас они улыбались не так жутко, почти не страшно. Шум на чердаке тоже прекратился. Как бы то ни было, в туалет сходить надо, а то Петька рисковал сделать лужу прямо здесь.
Решив перехитрить монстра, мальчик слез с кровати и в пару прыжков добрался до двери. В надежде, что за ней никого нет, мальчик распахнул её и выбежал в коридор. Петьку вновь окутал страх темноты, и монстры полезли из концов коридора. Он зажмурил глаза, а потом вспомнил последние мгновения своего сна.
"Я – лунный рыцарь! И никто ко мне не подойдёт!" – он воспылал этими мыслями и, представив, что его обнимает лунный свет, расправил плечи и смело пошёл в туалет.
На обратном пути Петька обратил внимание на дверь в кладовую с жуткими узорами, которая его постоянно пугала. Он подошёл к ней и властно положил ладонь на ручку, словно принц, что усмиряет дикое животное. Он постоял так, пока не услышал храп дедушки в соседней комнате, и поспешил к себе.
Теперь Петька чувствовал себя гораздо храбрее, чем когда засыпал. Он вообще впервые чувствовал себя храбрецом, чем невероятно гордился.
"Бесстрашен не тот, кто не имеет страха, а тот, кто не боится столкнуться с ним лицом к лицу", – вспомнил Петька фразу из компьютерной игры. Теперь он, наконец, понял её смысл. С ней же и уснул.
Стребкова Елизавета. Экзотическая материя
Я не видел людей уже очень давно. После произошедшего мы жили обособленными группами, потому что так легче было найти способы выжить, легче помогать друг другу. Но я никого спасать не собирался. Помощь отдельным людям давно потеряла для меня смысл. Это всего лишь смерть. Такое случается с каждым, невозможно оплакивать мертвых вечно, поэтому можно не пытаться даже частично.
После катастрофы я, как и все, кто имел несчастье выжить, пережил невыносимо долгую череду черных мучений. Но остаток моего сознания все-таки озарился подобием мысли. Я вспомнил, что давно, когда прогресс еще не превратился в огромную мельницу с остро заточенным жерновами, я был ученым. Теперь раздача хлеба нуждающимся и предоставление крова потерянным не были важны. Человечеству уже не поможет милосердие, ему поможет только машина времени, позволяющая вырвать залитые кровью страницы, начать с чистого листа.
Если удалить злокачественную опухоль до ее прогрессирования, если вырвать самый корень, оставив только углубление могилки в земле, ничего не будет. Не будет метастазов, расползшихся по коллективному разуму и вызвавших его деформацию, не будет детей, выросших под стальным крылом войны и впитавших желание убивать вместе с материнским молоком, не будет страшной привычки к смерти, которая поразила нас так, что привела к череде необратимых взрывных реакций. Моя жена будет жива.
С тех пор все мое существование было подчинено одной единственной цели: я должен был вернуться и убить Диктатора раньше, чем он успеет что-то предпринять. Раньше, чем станет лидером, которому люди верили в отчаянном желании достичь блага. Раньше, чем он прочтет книги, в его голове переплавившиеся в котел самоуничтожения. Раньше, чем он закончит школу. Может быть, даже раньше, чем он успеет родиться.
Я никогда не мог предположить, что произведенное над человеком насилие открывает в нем такую бессознательную бездну. Из моих чувств испарилось все, кроме исступленной жажды мести.
Удивительно, что после всех научных концепций, созданных людьми до катастрофы, их проблемы решились именно теперь. Все они останавливались в сомнениях то над мотивацией создания машины времени, то над принципом ее работы. Проблема оказалась совсем в другом.
Принцип работы теперь не вызывал ни единого вопроса: найти пробоину в пространстве-времени после всего, что человечество так маниакально над ним производило, было даже слишком просто. Это были «кротовые норы» - тоннели между двумя временными промежутками, протекавшими в одном и том же пространстве. Удары атомных бомб и не то могут сотворить с привычным состоянием природы. Чтобы вернуться в прошлое, нужно было разогнать один из концов кротовой норы достаточно сильно, чтобы иметь возможность перейти в другой. С этим также не было проблем: мы убили течение времени. Оно заблудилось само в себе, поэтому дни и ночи сменялись совершенно непредсказуемо, а иногда не сменялись совсем. Мы могли неделями идти по знакомой тропинке к дому, а потом обогнуть континент за считаные мгновения.
Сложнее было не позволить порталу закрыться прежде, чем я вернусь. Я уж точно не хотел оставаться в петле навсегда, моя жизнь и без того превратилась в удавку. Мне нужна была экзотическая материя. Звучащая столь сложно, она должна была, по сути, подчиняться одному простому принципу – не следовать законам физики. Это было невозможно, потому, что в искаженных законах труднее всего было определить свойства материи. Но я обязан был найти ее, чтобы убить Диктатора. Какая злая и изящная ирония: нужен был не гениальный ум, не удивительное открытие, а бесконечный поиск отрицательной плотности энергии.
Фактически это магическое сочетание – отрицательная плотность энергии – и было машиной времени. Было спасением всего, что я когда-либо любил. Тем, чего, я знал, жаждут жалкие остатки человечества.
Мне нужен был всего один выстрел. Всего один удар слепого металла в сердце, и мир был бы свободен, никто и никогда больше не рассыпался бы в пепел, не плавился и не кричал от невыносимой боли. Глупо было бы полагать, что такая большая катастрофа зависит только от одного маленького человека. Но у меня не было времени на философские изыскания.
Больше не было и тени веры в предопределенность: если бы кто-то наверху обладал даже простейшим планом, то он бы никогда не допустил того, что случилось.
В тот вечер я снова медленно засыпал над расчетами, будучи вынужденным поддерживать измученную голову рукой. Комната, единственным источником света в которой был жалкий огрызок стеариновой свечи, озарилась невиданным сиянием. Я вскочил со своего места, готовясь защищаться.
Медленно, деформируя пространство, в мое жилище вплыли неизвестные. Мужчина с благостным женским лицом. Ребенок со взрослыми глазами на прелестном детском лице. Первый пристально смотрел на меня электрическими синими радужками, высверленными на блестящих белках глаз. Его серьги мерно покачивались, бесчисленно дробясь и отражаясь в высоких браслетах.
- Мы потревожили вас? – голос разлился вокруг меня золотистым сиянием, я на мгновение перестал чувствовать под ногами опору и снова рухнул на стул, - он так просил о подарке, я не смог отказать…
Я не понимал, о каких подарках может идти речь сейчас, но и не пытался осмыслить. Слишком абсурдно было происходящее. Хрустальный звон его бус, невыносимый блеск белков глаз, солнечное свечение, задрапировавшее всю мою комнату в усталые тени. Я взывал к себе, но никак не мог разозлиться на их мягкое и уверенное благополучие. Я не мог в него поверить…
Гость наклонился к ребенку и мне показалось, что я вижу не движение, а постепенную смену кадров.
- Ты обещаешь вернуть ее, когда согреешь друзей красотой?
Ребенок уверенно кивнул. С одобрительного жеста отца он просеменил к моему обшарпанному подоконнику, и я не слышал шагов. Он шел по мягкой изумрудной траве, а не бетонному полу, усыпанному клочками обоев – я чувствовал это собственными ступнями. Я успел забыть это ощущение. Взобравшись вверх, ребенок легко и тихо распахнул форточку и, привстав на цыпочки, протянул ладонь к звезде, мерцавшей в раме окна, как экспонат галереи. Звезда послушно соскочила со своего места и приземлилась на детскую ручку, кротко мигнув соседкам. Ребенок восторженно ахнул, бережно прижимая к груди небесное сияние. Космический гигант из газа и плазмы. Бесконечные взрывы термоядерных реакций. Нежная улыбка отца.
- Спасибо, - тихо заключил гость, хотя вся его фигура и без того благодарила мир одной красотой величественного спокойствия. Он проплыл к выходу, едва касаясь иконописно сложенной рукой плеча ребенка.
Нечеловеческим усилием я преодолел захватившую меня немоту и, поднявшись на дрожащие ноги, отчеканил:
- Экзотическая материя.
Я требовал ее у золотистого благополучия, у бархатной улыбки гостя. Только в нем сейчас заключался ответ на вопрос всей моей жалкой жизни.
- Мне нужна экзотическая материя.
Его электрические глаза смотрели на меня долго и внимательно. Мне была невыносима льющаяся из них любовь. Я захлебывался в ней.
Он смотрел на детство. И ему улыбались пришитые уши плюшевых зайцев, первые огоньки новогодних елок, зарытая в саду шкатулка, быстрое сердцебиение пригревшейся птички, гирлянды кристальных слезинок.
Он смотрел на бездомного. И тот улыбался бескрайнему небу, накрывающему его молитвенным куполом. Улыбался собакам, плакавшим от нежности и пытавшимся лизнуть его руки, прикоснуться к рубищу плюшевыми носами.
Он смотрел в утробу насилия, которое само вспороло себе брюхо. И убийца улыбался и плакал, побежденный хрупкостью жизни, качая на коленях невинного агнца. Отпускал его бежать по лугу, рассказывать белоснежной пушистой матери, что жертвы больше не нужны, что темноты больше никогда и ни с кем не случится.
Весь мир пульсировал и корчился в одной колоссальной улыбке невысказанной любви.
Он смотрел на меня.
- Завтра она сама найдет тебя.
Я проснулся, лежа головой на своих записях и расчетах. Выцветшее солнце уже тускло освещало мою бетонную клетку. Я смутно пытался вспомнить обстоятельства вчерашнего вечера и мог бы даже рассмеяться нелепости своих снов о золотых браслетах и хрустальных бусах. Но я давно забыл, как смеяться. Форточка был открыта.
Влекомый неизвестным предчувствием, я на ватных ногах спустился по оставшимся ступеням. Огляделся вокруг, внимательно изучая лежащие всюду бетонные коряги в ветвях арматуры. Напротив полуразрушенного здания, под тем, что осталось от куста сирени, сидела девочка, полупрозрачными руками прижимающая к груди котенка. Словно звезду.
Мне вдруг захотелось посмотреть на нее электрическими глазами, чтобы вся ее болезненная фигурка окунулась в исцеляющее золотое сияние. У нее были глаза моей умершей жены, на ее лице была печать надежды, которую давно забыло человечество. Она была еще жива, и я мог ей помочь. Я протянул руку.
- Как давно я искала тебя.
Мой бесконечный поиск машины времени завершен. У любви отрицательная плотность энергии.
Я не видел людей уже очень давно. После произошедшего мы жили обособленными группами, потому что так легче было найти способы выжить, легче помогать друг другу. Но я никого спасать не собирался. Помощь отдельным людям давно потеряла для меня смысл. Это всего лишь смерть. Такое случается с каждым, невозможно оплакивать мертвых вечно, поэтому можно не пытаться даже частично.
После катастрофы я, как и все, кто имел несчастье выжить, пережил невыносимо долгую череду черных мучений. Но остаток моего сознания все-таки озарился подобием мысли. Я вспомнил, что давно, когда прогресс еще не превратился в огромную мельницу с остро заточенным жерновами, я был ученым. Теперь раздача хлеба нуждающимся и предоставление крова потерянным не были важны. Человечеству уже не поможет милосердие, ему поможет только машина времени, позволяющая вырвать залитые кровью страницы, начать с чистого листа.
Если удалить злокачественную опухоль до ее прогрессирования, если вырвать самый корень, оставив только углубление могилки в земле, ничего не будет. Не будет метастазов, расползшихся по коллективному разуму и вызвавших его деформацию, не будет детей, выросших под стальным крылом войны и впитавших желание убивать вместе с материнским молоком, не будет страшной привычки к смерти, которая поразила нас так, что привела к череде необратимых взрывных реакций. Моя жена будет жива.
С тех пор все мое существование было подчинено одной единственной цели: я должен был вернуться и убить Диктатора раньше, чем он успеет что-то предпринять. Раньше, чем станет лидером, которому люди верили в отчаянном желании достичь блага. Раньше, чем он прочтет книги, в его голове переплавившиеся в котел самоуничтожения. Раньше, чем он закончит школу. Может быть, даже раньше, чем он успеет родиться.
Я никогда не мог предположить, что произведенное над человеком насилие открывает в нем такую бессознательную бездну. Из моих чувств испарилось все, кроме исступленной жажды мести.
Удивительно, что после всех научных концепций, созданных людьми до катастрофы, их проблемы решились именно теперь. Все они останавливались в сомнениях то над мотивацией создания машины времени, то над принципом ее работы. Проблема оказалась совсем в другом.
Принцип работы теперь не вызывал ни единого вопроса: найти пробоину в пространстве-времени после всего, что человечество так маниакально над ним производило, было даже слишком просто. Это были «кротовые норы» - тоннели между двумя временными промежутками, протекавшими в одном и том же пространстве. Удары атомных бомб и не то могут сотворить с привычным состоянием природы. Чтобы вернуться в прошлое, нужно было разогнать один из концов кротовой норы достаточно сильно, чтобы иметь возможность перейти в другой. С этим также не было проблем: мы убили течение времени. Оно заблудилось само в себе, поэтому дни и ночи сменялись совершенно непредсказуемо, а иногда не сменялись совсем. Мы могли неделями идти по знакомой тропинке к дому, а потом обогнуть континент за считаные мгновения.
Сложнее было не позволить порталу закрыться прежде, чем я вернусь. Я уж точно не хотел оставаться в петле навсегда, моя жизнь и без того превратилась в удавку. Мне нужна была экзотическая материя. Звучащая столь сложно, она должна была, по сути, подчиняться одному простому принципу – не следовать законам физики. Это было невозможно, потому, что в искаженных законах труднее всего было определить свойства материи. Но я обязан был найти ее, чтобы убить Диктатора. Какая злая и изящная ирония: нужен был не гениальный ум, не удивительное открытие, а бесконечный поиск отрицательной плотности энергии.
Фактически это магическое сочетание – отрицательная плотность энергии – и было машиной времени. Было спасением всего, что я когда-либо любил. Тем, чего, я знал, жаждут жалкие остатки человечества.
Мне нужен был всего один выстрел. Всего один удар слепого металла в сердце, и мир был бы свободен, никто и никогда больше не рассыпался бы в пепел, не плавился и не кричал от невыносимой боли. Глупо было бы полагать, что такая большая катастрофа зависит только от одного маленького человека. Но у меня не было времени на философские изыскания.
Больше не было и тени веры в предопределенность: если бы кто-то наверху обладал даже простейшим планом, то он бы никогда не допустил того, что случилось.
В тот вечер я снова медленно засыпал над расчетами, будучи вынужденным поддерживать измученную голову рукой. Комната, единственным источником света в которой был жалкий огрызок стеариновой свечи, озарилась невиданным сиянием. Я вскочил со своего места, готовясь защищаться.
Медленно, деформируя пространство, в мое жилище вплыли неизвестные. Мужчина с благостным женским лицом. Ребенок со взрослыми глазами на прелестном детском лице. Первый пристально смотрел на меня электрическими синими радужками, высверленными на блестящих белках глаз. Его серьги мерно покачивались, бесчисленно дробясь и отражаясь в высоких браслетах.
- Мы потревожили вас? – голос разлился вокруг меня золотистым сиянием, я на мгновение перестал чувствовать под ногами опору и снова рухнул на стул, - он так просил о подарке, я не смог отказать…
Я не понимал, о каких подарках может идти речь сейчас, но и не пытался осмыслить. Слишком абсурдно было происходящее. Хрустальный звон его бус, невыносимый блеск белков глаз, солнечное свечение, задрапировавшее всю мою комнату в усталые тени. Я взывал к себе, но никак не мог разозлиться на их мягкое и уверенное благополучие. Я не мог в него поверить…
Гость наклонился к ребенку и мне показалось, что я вижу не движение, а постепенную смену кадров.
- Ты обещаешь вернуть ее, когда согреешь друзей красотой?
Ребенок уверенно кивнул. С одобрительного жеста отца он просеменил к моему обшарпанному подоконнику, и я не слышал шагов. Он шел по мягкой изумрудной траве, а не бетонному полу, усыпанному клочками обоев – я чувствовал это собственными ступнями. Я успел забыть это ощущение. Взобравшись вверх, ребенок легко и тихо распахнул форточку и, привстав на цыпочки, протянул ладонь к звезде, мерцавшей в раме окна, как экспонат галереи. Звезда послушно соскочила со своего места и приземлилась на детскую ручку, кротко мигнув соседкам. Ребенок восторженно ахнул, бережно прижимая к груди небесное сияние. Космический гигант из газа и плазмы. Бесконечные взрывы термоядерных реакций. Нежная улыбка отца.
- Спасибо, - тихо заключил гость, хотя вся его фигура и без того благодарила мир одной красотой величественного спокойствия. Он проплыл к выходу, едва касаясь иконописно сложенной рукой плеча ребенка.
Нечеловеческим усилием я преодолел захватившую меня немоту и, поднявшись на дрожащие ноги, отчеканил:
- Экзотическая материя.
Я требовал ее у золотистого благополучия, у бархатной улыбки гостя. Только в нем сейчас заключался ответ на вопрос всей моей жалкой жизни.
- Мне нужна экзотическая материя.
Его электрические глаза смотрели на меня долго и внимательно. Мне была невыносима льющаяся из них любовь. Я захлебывался в ней.
Он смотрел на детство. И ему улыбались пришитые уши плюшевых зайцев, первые огоньки новогодних елок, зарытая в саду шкатулка, быстрое сердцебиение пригревшейся птички, гирлянды кристальных слезинок.
Он смотрел на бездомного. И тот улыбался бескрайнему небу, накрывающему его молитвенным куполом. Улыбался собакам, плакавшим от нежности и пытавшимся лизнуть его руки, прикоснуться к рубищу плюшевыми носами.
Он смотрел в утробу насилия, которое само вспороло себе брюхо. И убийца улыбался и плакал, побежденный хрупкостью жизни, качая на коленях невинного агнца. Отпускал его бежать по лугу, рассказывать белоснежной пушистой матери, что жертвы больше не нужны, что темноты больше никогда и ни с кем не случится.
Весь мир пульсировал и корчился в одной колоссальной улыбке невысказанной любви.
Он смотрел на меня.
- Завтра она сама найдет тебя.
Я проснулся, лежа головой на своих записях и расчетах. Выцветшее солнце уже тускло освещало мою бетонную клетку. Я смутно пытался вспомнить обстоятельства вчерашнего вечера и мог бы даже рассмеяться нелепости своих снов о золотых браслетах и хрустальных бусах. Но я давно забыл, как смеяться. Форточка был открыта.
Влекомый неизвестным предчувствием, я на ватных ногах спустился по оставшимся ступеням. Огляделся вокруг, внимательно изучая лежащие всюду бетонные коряги в ветвях арматуры. Напротив полуразрушенного здания, под тем, что осталось от куста сирени, сидела девочка, полупрозрачными руками прижимающая к груди котенка. Словно звезду.
Мне вдруг захотелось посмотреть на нее электрическими глазами, чтобы вся ее болезненная фигурка окунулась в исцеляющее золотое сияние. У нее были глаза моей умершей жены, на ее лице была печать надежды, которую давно забыло человечество. Она была еще жива, и я мог ей помочь. Я протянул руку.
- Как давно я искала тебя.
Мой бесконечный поиск машины времени завершен. У любви отрицательная плотность энергии.
Лагутина Мария. Десять лет – одна встреча
Вокзал. Город Кремневск. Станция «Васильки».
Шум тарахтящих колес, скрипящие двери поезда, разноголосый гул пассажиров. Среди этой кутерьмы судеб, обрывков фраз и мелькающих человечков легко потеряться. Терять опасно, теряться еще опасней. Из брюха железной гусеницы вылетела рыженькая девчушка. Кажется, что чемодан, который она тащила, весил раза в два больше своей обладательницы.
Девушка оглянулась, привычно выискивая глазами кого-то знакомого. «Неужели не встретит никто?», – сердце екнуло от одной мысли. Чемодан хотелось пнуть, сжать кулаки со всей силы, заплакать и закричать во весь голос. Из всего этого девушка разрешила себе только кулаки. Оглядев суетящийся перрон, девушка облюбовала местечко на лавке.
«Одна осталась», – это звучит как никем не оглашенный приговор. Словно диагноз, который ей достался семнадцать лет назад, как только она появилась на этот свет.
Диагноз неизлечимой болезни под страшным названием «одиночество». Она подтверждала его всем: привычкой обнимать себя за плечи, сереющими глазами, детским шрамом на лбу, напоминающим цифру один. Даже именем! Альбина. Будто название редкого цветка или еще хуже – генетическая болезнь. Что-то редкое и обособленное от этого мира.
– Прощу прощения, Вы Альбина? – девушка вздрогнула от неожиданности.Мужчина лет тридцати в изумрудном пиджаке, чуть наклонив голову, полную мелких русых кудрей ненавязчиво рассматривал незнакомку.
– Вы Альбина? – бледные губы плавно повторили вопрос.
– Д-да, – голос почему-то предательски дрогнул, как и комкающие голубую кофточку, руки.
– Замечательно, – зеркальные глаза молодого человека блеснули по-доброму,
– Я – Владимир. Возможно, вы слышали обо мне от вашей маменьки, Марианны Михайловны, я работаю в библиотеке вашего дедушки. Михаил Петрович неважно себя почувствовал и… О, не пугайтесь так, с ним уже все хорошо, но встреча с вами стала исключительно моей задачей. Разрешите взять чемодан?
Альбина молча кивнула. Идти за Владимиром легко, садиться в автобус еще легче и былое напряжение отступает. Альбину ждет её настоящий дом, пусть и приютивший нового, незнакомого ей человека.
Как это странно: за день сердце может прокатиться по американским горкам несколько раз, ударяясь в затылок и тут же падая в живот.
Владимир тоже кажется ей странным, словно он не человек, а оживший персонаж из книги двадцатого века.
Однако он похож на того, кому доверилась бы её мать. «Мать». От одного слова табун мурашек по телу. Достигнув больших успехов в карьере, эта женщина превратилась в робота. Бесчувственная, строгая, статная бизнес-леди, привыкшая кидать деньги в любую проблему, дабы она исчезла. От маленькой проблемы, внезапно появившейся на свет из-за более серьезной проблемы, с которой дело до загса так и не дошло, деньгами откупиться не получалось.
«Маленькая проблема» требовала от нее каких-то чувств, постоянно плакала и твердила про далекие для женщины слова, вроде «любовь» и «забота». Марианна совала девочке под нос новую коллекционную куклу в надежде на покой, но ее отпихивали.
– Как ты понять не можешь: мне мать нужна, родная, любящая, а не банкомат! – Альбина-подросток излагала свои мысли еще непонятней.
Марианна не могла это признать и не признала бы никогда, но она слишком устала. Поэтому после очередной стычки с дочерью было принято решение отправить к деду, в надежде, что девчонка достаточно взрослая, чтобы не беспокоить бесполезными скандалами больного человека.
Михаил Петрович жил в небольшом городке, заведуя библиотекой. Блистающий красными крышами частных домов, Кремниевск с аккуратными вывесками магазинов и каменными дорожками, хотелось назвать именно городком. А библиотека была семейной ценностью вот уже пятый десяток лет и продолжала расти, наполняясь литературой.
Альбина была здесь десять лет назад. Последнее лето в Кремневске оказалось вспышкой сплошного счастья. Улыбающиеся лучи солнца гладили Алю по голове, трава возле родного книжного храма щекотала ноги особенно приятно, а дедушкины руки ласково обнимали. Этой любовью хотелось напитаться на годы вперед, как терпкими яблоками, которые девочка с удовольствием жевала, сидя на ветвистом дереве.
А потом дедушка заболел. Девочка пошла во второй класс элитной городской школы. Летом поехать в Кремневск не получилось.
«Ему нужен покой», объяснила мать, и тогда, как Альбине показалось, в ее глазах впервые мелькнуло что-то живое.
Альбина училась лучше всех, но цель у нее была одна – писать письма в родной Кремневск. В последующие года она слышала о каком-то Владимире, что будет следить за состоянием библиотеки и быть опорой Михаилу Петровичу.
Десять лет летели одним сплошным днем. Вот лето на море, которое Аль терпеть не могла, вот лето в деловой поездке заграницу с бизнес-леди… Подготовка к экзаменам – высшие баллы. Еще одни учебные каникулы – а там и снова высший балл.
Вернуться в родной дом оказалось проще простого, ведь у Марианны появились проблемы в главной для нее сфере жизни, а значит зудящий подросток рядом стал лишним отвлекающим фактором.
И вот Альба снова вдыхает солнце и глазами целует каждый сантиметр деревянного двухэтажного храма своей души. Влетает бабочкой по лестнице, совершенно не смотря под ноги. Смотреть вовсе не нужно, ноги все помнят.
«Первым этажом читальный зал и картотека, за шкафами лестница, ага, вверх – третья и восьмая ступеньки были подбиты – оп, такими и остались! Кухонькая моя родная! Дверь… Фух, всё, вхожу», – мысли путаются, сердце стучит, тело не останавливается.
– Родная приехала!, – приподнявшись из кресла, дрожащей рукой поседевший Михаил Петрович цепляет на нос пенсне, второй обнимая прилетевшую в объятия Альбину.
Здравствуй, мой дом, здравствуй, родненький!
Слезы непроизвольно катятся. Заглянувший в щелочку двери с чемоданом Владимир решил тактично не вмешиваться, и никто не заметил, как быстро он смахнул что-то с левой щеки.
С того дня ровно на три месяца слово «лето» приобрело значение «счастье».
Оказалось, Владимир очень хороший человек, читающий, спокойный, умеющий слушать и знающий свою работу. В первую встречу хотелось назвать его горным бараном за кудри и излишнюю витиеватость речи, а теперь хочется сравнись с сиамским котом. Элегантный стиль одежды, плавность движений, а знаний, будто и правда девятую жизнь живет. Вечера с ним за стаканчиками лимонада и аккомпанементами соловья таили особенное очарование.
Здоровье хозяина библиотеки улучшалось с каждым днем. «Я не видел Михаила Петровича столь сияющим», – восхищался Владимир в разговорах с Альбиной.
Библиотека работала все также, на радость жителям Кремневска, что несомненно грело душу хранителям её очага.
Сентябрь подкрался дождливым утром отъезда и телеграммой матери с тремя неизбежными словами.
«ПРИЕЗЖАЙ ТЕБЯ ПРИНЯЛИ ИНСТИТУТ»
Альбина всю ночь просидела на полу между шкафов с книгами, скрестив под себя ноги, перебирая старые романы, поглаживала страницы.
– Вам бы вздремнуть хотя бы час, – ближе к двум часам ночи заглянул Владимир.
– Не хочу, – Альбина удивилась надломившемуся голосу и по старой привычке обхватила себя руками.
– Альбина, с вами побыть? – спросил Владимир, выделяя каждое слово особой интонацией.
– М-м-м, – девушка жалостливо замычала, мотнула рыжей головой, и еще более неловко пискнула, – Поспите. Вам нужнее.
Владимир бесшумно скрылся, словно тень, не имеющая тела.
Альбине показалось, что здесь больше ничего не имеет ни тела, ни души. Внезапно появившийся сквознячок будто услышал мысль девушки и задул лампадку. Холод добрался до сердца.
***
Вокзал. Город Кремневск. Станция «Васильки».
Через десять лет на том же месте.
Из гудящего поезда выходит рыжеволосая девушка, оглядывая перрон. Глаза ловят родной взгляд.
– Владимир! – улыбка озаряет лицо, чемодан падает, а Альбина с криком летит в объятия.
– Как вы похорошели! – голос такой же спокойный, с нотками ласки, а глаза вновь по-доброму светятся.
– А вы совсем не изменились, – девушка не может скрыть улыбки и легкого румянца, свободно проступающего на щеках.
– Ну-ну, – Владимир прячет за кошачьим взглядом легкое смущение и одергивает зеленую водолазку, – Пойдемте домой, хозяйка. Я же могу вас теперь так называть?
– Слишком официально, – фыркает девушка и вновь смеется, – Просто Альбина или Аль.
– Я понял вас, Аль, – и Владимир пропускает девушку по знакомому пути, чтобы ехать в место, где будет течь ее новая, наконец-то счастливая жизнь.
Родная библиотека. Родной дом. Родной Кремневск.
Это такое свойство у родины – оставаться милой сердцу, сколько бы времени не утекло.
– Михаил Петрович просил передать, – через пару дней после обустройства хозяйки в её литературном доме Владимир подносит девушке стопку конвертов.
– Что это? – прошло уже восемь лет с момента смерти, а сердце все также екает.
– Письма и дневники, – Владимир складывает стопку на стол, – Просто почитайте.
Альбина благодарно кивает Владимиру, желая что-то сказать... Но в доме слышатся шаги, по лестнице к ним влетает молодой человек со стопкой книг, держа их как самое драгоценное сокровище. Кажется, возраст его близок к тридцати, черная шевелюра чуть растрепана, а клетчатая рубашка выглядывает из-под серых джинсов.
– Влади… – молодой человек краснеет, встретившись взглядом с Альбиной.
– Андрей, здравствуй! – Владимир радушно и чуть лукаво улыбается. Но Андрей уже не слышит. Не слышит и хозяйка литературного дома, теребя указательный палец. Владимир, не скрывая довольной улыбки, бесшумно удаляется. Объяснять ничего не нужно. Они сами друг другу всё объяснят.
«Теперь в этом доме будет жить полная, счастливая семья», - мелькает мысль в голове у Владимира.
И спустя десять, да и спустя тридцать лет. И всё на том же месте.
Вокзал. Город Кремневск. Станция «Васильки».
Шум тарахтящих колес, скрипящие двери поезда, разноголосый гул пассажиров. Среди этой кутерьмы судеб, обрывков фраз и мелькающих человечков легко потеряться. Терять опасно, теряться еще опасней. Из брюха железной гусеницы вылетела рыженькая девчушка. Кажется, что чемодан, который она тащила, весил раза в два больше своей обладательницы.
Девушка оглянулась, привычно выискивая глазами кого-то знакомого. «Неужели не встретит никто?», – сердце екнуло от одной мысли. Чемодан хотелось пнуть, сжать кулаки со всей силы, заплакать и закричать во весь голос. Из всего этого девушка разрешила себе только кулаки. Оглядев суетящийся перрон, девушка облюбовала местечко на лавке.
«Одна осталась», – это звучит как никем не оглашенный приговор. Словно диагноз, который ей достался семнадцать лет назад, как только она появилась на этот свет.
Диагноз неизлечимой болезни под страшным названием «одиночество». Она подтверждала его всем: привычкой обнимать себя за плечи, сереющими глазами, детским шрамом на лбу, напоминающим цифру один. Даже именем! Альбина. Будто название редкого цветка или еще хуже – генетическая болезнь. Что-то редкое и обособленное от этого мира.
– Прощу прощения, Вы Альбина? – девушка вздрогнула от неожиданности.Мужчина лет тридцати в изумрудном пиджаке, чуть наклонив голову, полную мелких русых кудрей ненавязчиво рассматривал незнакомку.
– Вы Альбина? – бледные губы плавно повторили вопрос.
– Д-да, – голос почему-то предательски дрогнул, как и комкающие голубую кофточку, руки.
– Замечательно, – зеркальные глаза молодого человека блеснули по-доброму,
– Я – Владимир. Возможно, вы слышали обо мне от вашей маменьки, Марианны Михайловны, я работаю в библиотеке вашего дедушки. Михаил Петрович неважно себя почувствовал и… О, не пугайтесь так, с ним уже все хорошо, но встреча с вами стала исключительно моей задачей. Разрешите взять чемодан?
Альбина молча кивнула. Идти за Владимиром легко, садиться в автобус еще легче и былое напряжение отступает. Альбину ждет её настоящий дом, пусть и приютивший нового, незнакомого ей человека.
Как это странно: за день сердце может прокатиться по американским горкам несколько раз, ударяясь в затылок и тут же падая в живот.
Владимир тоже кажется ей странным, словно он не человек, а оживший персонаж из книги двадцатого века.
Однако он похож на того, кому доверилась бы её мать. «Мать». От одного слова табун мурашек по телу. Достигнув больших успехов в карьере, эта женщина превратилась в робота. Бесчувственная, строгая, статная бизнес-леди, привыкшая кидать деньги в любую проблему, дабы она исчезла. От маленькой проблемы, внезапно появившейся на свет из-за более серьезной проблемы, с которой дело до загса так и не дошло, деньгами откупиться не получалось.
«Маленькая проблема» требовала от нее каких-то чувств, постоянно плакала и твердила про далекие для женщины слова, вроде «любовь» и «забота». Марианна совала девочке под нос новую коллекционную куклу в надежде на покой, но ее отпихивали.
– Как ты понять не можешь: мне мать нужна, родная, любящая, а не банкомат! – Альбина-подросток излагала свои мысли еще непонятней.
Марианна не могла это признать и не признала бы никогда, но она слишком устала. Поэтому после очередной стычки с дочерью было принято решение отправить к деду, в надежде, что девчонка достаточно взрослая, чтобы не беспокоить бесполезными скандалами больного человека.
Михаил Петрович жил в небольшом городке, заведуя библиотекой. Блистающий красными крышами частных домов, Кремниевск с аккуратными вывесками магазинов и каменными дорожками, хотелось назвать именно городком. А библиотека была семейной ценностью вот уже пятый десяток лет и продолжала расти, наполняясь литературой.
Альбина была здесь десять лет назад. Последнее лето в Кремневске оказалось вспышкой сплошного счастья. Улыбающиеся лучи солнца гладили Алю по голове, трава возле родного книжного храма щекотала ноги особенно приятно, а дедушкины руки ласково обнимали. Этой любовью хотелось напитаться на годы вперед, как терпкими яблоками, которые девочка с удовольствием жевала, сидя на ветвистом дереве.
А потом дедушка заболел. Девочка пошла во второй класс элитной городской школы. Летом поехать в Кремневск не получилось.
«Ему нужен покой», объяснила мать, и тогда, как Альбине показалось, в ее глазах впервые мелькнуло что-то живое.
Альбина училась лучше всех, но цель у нее была одна – писать письма в родной Кремневск. В последующие года она слышала о каком-то Владимире, что будет следить за состоянием библиотеки и быть опорой Михаилу Петровичу.
Десять лет летели одним сплошным днем. Вот лето на море, которое Аль терпеть не могла, вот лето в деловой поездке заграницу с бизнес-леди… Подготовка к экзаменам – высшие баллы. Еще одни учебные каникулы – а там и снова высший балл.
Вернуться в родной дом оказалось проще простого, ведь у Марианны появились проблемы в главной для нее сфере жизни, а значит зудящий подросток рядом стал лишним отвлекающим фактором.
И вот Альба снова вдыхает солнце и глазами целует каждый сантиметр деревянного двухэтажного храма своей души. Влетает бабочкой по лестнице, совершенно не смотря под ноги. Смотреть вовсе не нужно, ноги все помнят.
«Первым этажом читальный зал и картотека, за шкафами лестница, ага, вверх – третья и восьмая ступеньки были подбиты – оп, такими и остались! Кухонькая моя родная! Дверь… Фух, всё, вхожу», – мысли путаются, сердце стучит, тело не останавливается.
– Родная приехала!, – приподнявшись из кресла, дрожащей рукой поседевший Михаил Петрович цепляет на нос пенсне, второй обнимая прилетевшую в объятия Альбину.
Здравствуй, мой дом, здравствуй, родненький!
Слезы непроизвольно катятся. Заглянувший в щелочку двери с чемоданом Владимир решил тактично не вмешиваться, и никто не заметил, как быстро он смахнул что-то с левой щеки.
С того дня ровно на три месяца слово «лето» приобрело значение «счастье».
Оказалось, Владимир очень хороший человек, читающий, спокойный, умеющий слушать и знающий свою работу. В первую встречу хотелось назвать его горным бараном за кудри и излишнюю витиеватость речи, а теперь хочется сравнись с сиамским котом. Элегантный стиль одежды, плавность движений, а знаний, будто и правда девятую жизнь живет. Вечера с ним за стаканчиками лимонада и аккомпанементами соловья таили особенное очарование.
Здоровье хозяина библиотеки улучшалось с каждым днем. «Я не видел Михаила Петровича столь сияющим», – восхищался Владимир в разговорах с Альбиной.
Библиотека работала все также, на радость жителям Кремневска, что несомненно грело душу хранителям её очага.
Сентябрь подкрался дождливым утром отъезда и телеграммой матери с тремя неизбежными словами.
«ПРИЕЗЖАЙ ТЕБЯ ПРИНЯЛИ ИНСТИТУТ»
Альбина всю ночь просидела на полу между шкафов с книгами, скрестив под себя ноги, перебирая старые романы, поглаживала страницы.
– Вам бы вздремнуть хотя бы час, – ближе к двум часам ночи заглянул Владимир.
– Не хочу, – Альбина удивилась надломившемуся голосу и по старой привычке обхватила себя руками.
– Альбина, с вами побыть? – спросил Владимир, выделяя каждое слово особой интонацией.
– М-м-м, – девушка жалостливо замычала, мотнула рыжей головой, и еще более неловко пискнула, – Поспите. Вам нужнее.
Владимир бесшумно скрылся, словно тень, не имеющая тела.
Альбине показалось, что здесь больше ничего не имеет ни тела, ни души. Внезапно появившийся сквознячок будто услышал мысль девушки и задул лампадку. Холод добрался до сердца.
***
Вокзал. Город Кремневск. Станция «Васильки».
Через десять лет на том же месте.
Из гудящего поезда выходит рыжеволосая девушка, оглядывая перрон. Глаза ловят родной взгляд.
– Владимир! – улыбка озаряет лицо, чемодан падает, а Альбина с криком летит в объятия.
– Как вы похорошели! – голос такой же спокойный, с нотками ласки, а глаза вновь по-доброму светятся.
– А вы совсем не изменились, – девушка не может скрыть улыбки и легкого румянца, свободно проступающего на щеках.
– Ну-ну, – Владимир прячет за кошачьим взглядом легкое смущение и одергивает зеленую водолазку, – Пойдемте домой, хозяйка. Я же могу вас теперь так называть?
– Слишком официально, – фыркает девушка и вновь смеется, – Просто Альбина или Аль.
– Я понял вас, Аль, – и Владимир пропускает девушку по знакомому пути, чтобы ехать в место, где будет течь ее новая, наконец-то счастливая жизнь.
Родная библиотека. Родной дом. Родной Кремневск.
Это такое свойство у родины – оставаться милой сердцу, сколько бы времени не утекло.
– Михаил Петрович просил передать, – через пару дней после обустройства хозяйки в её литературном доме Владимир подносит девушке стопку конвертов.
– Что это? – прошло уже восемь лет с момента смерти, а сердце все также екает.
– Письма и дневники, – Владимир складывает стопку на стол, – Просто почитайте.
Альбина благодарно кивает Владимиру, желая что-то сказать... Но в доме слышатся шаги, по лестнице к ним влетает молодой человек со стопкой книг, держа их как самое драгоценное сокровище. Кажется, возраст его близок к тридцати, черная шевелюра чуть растрепана, а клетчатая рубашка выглядывает из-под серых джинсов.
– Влади… – молодой человек краснеет, встретившись взглядом с Альбиной.
– Андрей, здравствуй! – Владимир радушно и чуть лукаво улыбается. Но Андрей уже не слышит. Не слышит и хозяйка литературного дома, теребя указательный палец. Владимир, не скрывая довольной улыбки, бесшумно удаляется. Объяснять ничего не нужно. Они сами друг другу всё объяснят.
«Теперь в этом доме будет жить полная, счастливая семья», - мелькает мысль в голове у Владимира.
И спустя десять, да и спустя тридцать лет. И всё на том же месте.
Паньшина Алиса. Чужие люди
Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка
Захотели сладкого сахарного пряничка…
К. Чуковский
С нами постоянно жили чужие люди. Она их любила. Очень. Всегда прилетала с новостями. Кто умер, кто женился. Мы отмечали их свадьбы и носили цветы на их могилы. Она их приводила за руки ко мне. Я благословляла их на счастье. Никогда не открывала плечи. Всегда что-нибудь больше на размер-два. Говорила, ей так удобнее. У неё — свитера, и капюшончатые худи, водолазки, окрещённые за полноту свитшотами, толстовки — само собой. Она под этими балахонами прятала всех своих любимых, чтобы было не так одиноко ходить в школу. Я любила дона Румату. И очень любила Киру. Кира любила вязать и всё время ходила в вязаном. Всю себя обвязывала. Свитеры, палантины. Почему-то только себя — по крайней мере, я больше ни про кого не знала. Кира — это моя одноклассница. Она верила каждому слову. А я всё проверяла и всего боялась. Она не любила Льва Толстого, потому что он издевался над своей женой и «вообще был не очень хороший человек». Она переписывала мои стихи в тетрадочку.
А портрет Льва Толстого, тот, который самый известный, недописан. Там он в своей рубашке, которую носил, потому что хотел быть как простой мужик. Такой свободной. Потом её назвали толстовкой и записали Толстого, одетого в мужицкую рубашку. Она всё время носит толстовки. Кира не носит. Не знаю почему. Сонечка носила. Сонечка курила и поедала кислый мармелад, который ужасно дорого стоит. Никогда ни с кем долго не оставалась. Про неё всё время ходили слухи, и всё время находились те, кто говорил про неё пошлости. Ещё она сидела на партах и столах. И смеялась раненой чайкой. Когда вслух читала Толстого. Тогда все смеялись. Она валялась везде, будто земля ей была пухом.
Кира не говорила про Толстого. Она сама не очень знала, нравится он ей или нет. Света не ворожила. У Светы красная прядка и короткая стрижка. Света — гостья из будущего. Она говорит резко. На ней всё красиво. Я — в сером. Когда холодно, меня заставляли носить синий свитер, ультрамариновый и с высокой стоячей горловиной. Я в нём становилась деревянная, как будто бы он меня замораживал своим синим цветом. И язык у меня от него во рту пересыхал. Она кормила трёхцветную ласковую уличную кошку. Ей не давали кошку взять домой, потому что думали, что кошка царапает ей руки.
Потом Жанночка заболела. Точнее, у неё заболел ребёнок. Жанночка — это наша классная. Она всегда делает, как ей сказали. И как в методичке написано. И искренне верит — старается верить — в то, что ей говорят всякие голоса. Она, наверное, святая.
Поэтому вместо Жанночки проводить групповую консультацию он пришёл. Евгений Владимирович, социальный педагог. Вообще-то он учился на военного журналиста, но то ли получил ранение, то ли упал со стула — уж не знаю, как на самом деле было — но остался хром и не мог работать по специальности. В школе он сделал маленькую редакцию. Мы там издавали сатирический журнал, и там же собирался хвостик Евгения Владимировича, состоявший в основном из кисельных барышень, вылезших, со всей очевидностью, из какого-то очень кислого кисельного колодца. Не знаю уж, чего они там ели, но говорили в основном всё на букву «Е». Он им очень нравился, потому что демонстрировал совершенную незаинтересованность в женском поле. Я похихикивала — на женский пол мне было наплевать, как и на мужской, а вот люди мне казались интересны, и я с удовольствием училась искусству подметить мелочь, раздуть до скандала, поджечь в одночасье острым словом, подмочить репутацию негодяю и выставить хорошего человека в лучшем свете. Но главное — я училась ржать, отстраняться и ржать над человечеством и над действительностью. Я ему нравилась — он говорил, что я способная ученица. Мы с ним ржали по-тихому и по-эзоповому над его длинненьким хвостиком. Он носил колючий свитер с катышками, серые узкие джинсы, а в левом ухе у него была серьга, по которой его хвостик отдельно сходил с ума. Я — серая мышь.
Он сразу заявил, что вступил с методичкой по групповым консультациям в полемику. И что вообще-то должен был с нами сегодня беседовать про какую-то психологическую ерунду у подростков. Но не будет. Потому что авторы методички хотят сделать из нас смиренных рабов капитализма и поэтому промывают нам мозги. А он, видите ли, хочет нас научить думать своей головой. Кто-то с задней парты заржал. Евгений Владимирович ткнул в него пальцем и заявил, что это несознательный элемент капиталистического общества. И что сейчас придётся этот конкретный элемент в первую очередь учить думать головой. Элемент испугался и спросил весело:
- А можно выйти?
- Нельзя, - сказал Евгений Владимирович.
- А почему?
- Потому что я тогда напишу про тебя в журнале. И все про тебя узнают какую-нибудь гадость.
Журнал наш многие читали. Он был смешной, там всё время над кем-нибудь смеялись. Никому не хотелось, чтобы там про него писали. Директору мы нравились. Она вообще поддерживала свободную прессу. Элемент сказал неуверенно:
- Да идите вы…
Евгений Владимирович сказал хмуро:
- Всё? Больше никто? Тогда продолжим. Мы с вами должны были говорить про кумиров. Ибо, как известно, «не сотвори себе кумира своего». Кто-нибудь хочет поведать про свою звезду? Ну, смелее, у нас свобода слова… Свобода любит смелых!
Она сегодня была в очень огромном худи, в котором её было очень плохо видно. Но в классе очень жарко и очень душно, зима. Холод нас душит, из-за него нельзя открыть окно. Она осталась в майке, которая под её балахонами обычно прячется. Она смелая. И каждому слову верит. Сказала:
- Можно, я?
- Ну разумеется, - и Евгений Владимирович прислонился на краешек стола, а рукой на него опёрся.
Она стала рассказывать про одного из наших сожителей. Его зовут на букву «Е» и он уже давно с нами. Бывают такие, которые живут у нас периодами, такие, которые живут неделю и остаются потом с ней друзьями. А это, видимо, любовь на всю жизнь. Огромная любовь. Она его всегда утешает и поддерживает. И очень крепко обнимает. Он слушает критически, Евгений Владимирович, и я вижу, что ищет, к чему бы прицепиться, где бы пересмеять.
- Послушай, - он с этаким прищуром на неё глядит, - а вот скажи нам всем, что тебе конкретно в нём нравится?
- Ну… - это она растерялась, - он красивый. И у него очень красивые песни и голос, у него голос офигенный, а ещё он на гитаре играет, я так, наверное, никогда не смогу! И он хороший просто.
У неё чёрные кудри, прямо цвета воронова крыла. Чуть-чуть эта карешка у неё до плеч не достаёт.
- Ага. То есть ты хочешь на него походить внешне и, может быть, хотела бы петь и играть на гитаре, как он.
- Ну… Наверное.
- Хорошо, тогда смотри. Нужно более точно это сформулировать, - а я им приучена замечать, я замечаю, что он краем глаза смотрит в методичку, - Понимаешь, вот это вот «просто хороший» - это очень размытая характеристика. Вот как ты думаешь, какие у него есть хорошие качества?
- Ну… А я не знаю. Он добрый, наверное. И честный. И… Не знаю.
- А вот теперь скажи, - он делает театральную паузу, чтобы мы поняли важность его слов, - а можешь ли ты точно знать, что некий музыкант, с которым ты даже не знакома, честный и добрый? - и я вижу, что он уже идёт совсем по методичке.
Она не может оправдаться. Он точно по методичке загибает это всё на то, что такие качества, как добрый, хороший и честный, она может видеть и в более близких ей людях, чем далёкий от неё певец, например, конечно, в её родителях, в её школьных учителях, которые учат её добру. Учителя не разрешали открывать окна. Она опускает голову. Он никому не верит, и ей не поверит. Она спешно, в какой-то полуистерике и путаясь в рукавах, залезает обратно в худи и сбегает за дверь.
В пятницу я пришла в редакцию. Евгений Владимирович меня увидел, обрадовался. Руку пожал, - это у нас всегда с ним так, - и говорит:
- Вот ты помнишь вашу групповую консультацию?
Я, осторожно:
- Помню.
Он ещё больше обрадовался:
- Я вот думаю, было б неплохо из этого статью замутить, - и рассказывает мне, как он выбил подростковую дурь из бедной девочки, - Да к тому же, она ведь сбежала без моего разрешения, а я обещал, что мы за такое в журнале напишем. Я вижу вдруг, что у него седина. И сигаретами от него несёт. И хвостик тут же, рядом. И всё на букву «Е» — Евгений Владимирович то, Евгений Владимирович сё, а он на ними ржёт. И над ней хочет ржать. И нравится ведь ему, что за ним хвостик ходит. А пуще нравится ржать над ним. И как они статьи его в журнальчик на компьютере перепечатывают по очереди.
- Вы же тоже на букву «Е», - говорю.
- А я, как ты сама видишь, очень далёк от того, кого они там себе придумали.
Когда она пришла домой, она сняла балахон. Её дома встретил некто на букву «Е» и долго утешал и обнимал. Потом явилась к ней на букву «С» и поила зелёным чаем. Все, кто были дома тогда, у кого не было концертов, интервью или съёмок там, кто не был задействован сейчас в сюжете книги, к ней сошлись изо всех углов. Они её любили. Сонечка, Кира, благородный дон Румата, Светлана, Анна Каренина, Жанна д'Арк.
Потом у Жанночки выздоровел ребёнок. Она сказала, что душно, удивилась — на улице почти плюс, почему окна наглухо? - и открыла окна. Она больше не раздевалась в школе. Я ушла из редакции и сняла синий свитер. Мы шли строго по методичке.
Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка
Захотели сладкого сахарного пряничка…
К. Чуковский
С нами постоянно жили чужие люди. Она их любила. Очень. Всегда прилетала с новостями. Кто умер, кто женился. Мы отмечали их свадьбы и носили цветы на их могилы. Она их приводила за руки ко мне. Я благословляла их на счастье. Никогда не открывала плечи. Всегда что-нибудь больше на размер-два. Говорила, ей так удобнее. У неё — свитера, и капюшончатые худи, водолазки, окрещённые за полноту свитшотами, толстовки — само собой. Она под этими балахонами прятала всех своих любимых, чтобы было не так одиноко ходить в школу. Я любила дона Румату. И очень любила Киру. Кира любила вязать и всё время ходила в вязаном. Всю себя обвязывала. Свитеры, палантины. Почему-то только себя — по крайней мере, я больше ни про кого не знала. Кира — это моя одноклассница. Она верила каждому слову. А я всё проверяла и всего боялась. Она не любила Льва Толстого, потому что он издевался над своей женой и «вообще был не очень хороший человек». Она переписывала мои стихи в тетрадочку.
А портрет Льва Толстого, тот, который самый известный, недописан. Там он в своей рубашке, которую носил, потому что хотел быть как простой мужик. Такой свободной. Потом её назвали толстовкой и записали Толстого, одетого в мужицкую рубашку. Она всё время носит толстовки. Кира не носит. Не знаю почему. Сонечка носила. Сонечка курила и поедала кислый мармелад, который ужасно дорого стоит. Никогда ни с кем долго не оставалась. Про неё всё время ходили слухи, и всё время находились те, кто говорил про неё пошлости. Ещё она сидела на партах и столах. И смеялась раненой чайкой. Когда вслух читала Толстого. Тогда все смеялись. Она валялась везде, будто земля ей была пухом.
Кира не говорила про Толстого. Она сама не очень знала, нравится он ей или нет. Света не ворожила. У Светы красная прядка и короткая стрижка. Света — гостья из будущего. Она говорит резко. На ней всё красиво. Я — в сером. Когда холодно, меня заставляли носить синий свитер, ультрамариновый и с высокой стоячей горловиной. Я в нём становилась деревянная, как будто бы он меня замораживал своим синим цветом. И язык у меня от него во рту пересыхал. Она кормила трёхцветную ласковую уличную кошку. Ей не давали кошку взять домой, потому что думали, что кошка царапает ей руки.
Потом Жанночка заболела. Точнее, у неё заболел ребёнок. Жанночка — это наша классная. Она всегда делает, как ей сказали. И как в методичке написано. И искренне верит — старается верить — в то, что ей говорят всякие голоса. Она, наверное, святая.
Поэтому вместо Жанночки проводить групповую консультацию он пришёл. Евгений Владимирович, социальный педагог. Вообще-то он учился на военного журналиста, но то ли получил ранение, то ли упал со стула — уж не знаю, как на самом деле было — но остался хром и не мог работать по специальности. В школе он сделал маленькую редакцию. Мы там издавали сатирический журнал, и там же собирался хвостик Евгения Владимировича, состоявший в основном из кисельных барышень, вылезших, со всей очевидностью, из какого-то очень кислого кисельного колодца. Не знаю уж, чего они там ели, но говорили в основном всё на букву «Е». Он им очень нравился, потому что демонстрировал совершенную незаинтересованность в женском поле. Я похихикивала — на женский пол мне было наплевать, как и на мужской, а вот люди мне казались интересны, и я с удовольствием училась искусству подметить мелочь, раздуть до скандала, поджечь в одночасье острым словом, подмочить репутацию негодяю и выставить хорошего человека в лучшем свете. Но главное — я училась ржать, отстраняться и ржать над человечеством и над действительностью. Я ему нравилась — он говорил, что я способная ученица. Мы с ним ржали по-тихому и по-эзоповому над его длинненьким хвостиком. Он носил колючий свитер с катышками, серые узкие джинсы, а в левом ухе у него была серьга, по которой его хвостик отдельно сходил с ума. Я — серая мышь.
Он сразу заявил, что вступил с методичкой по групповым консультациям в полемику. И что вообще-то должен был с нами сегодня беседовать про какую-то психологическую ерунду у подростков. Но не будет. Потому что авторы методички хотят сделать из нас смиренных рабов капитализма и поэтому промывают нам мозги. А он, видите ли, хочет нас научить думать своей головой. Кто-то с задней парты заржал. Евгений Владимирович ткнул в него пальцем и заявил, что это несознательный элемент капиталистического общества. И что сейчас придётся этот конкретный элемент в первую очередь учить думать головой. Элемент испугался и спросил весело:
- А можно выйти?
- Нельзя, - сказал Евгений Владимирович.
- А почему?
- Потому что я тогда напишу про тебя в журнале. И все про тебя узнают какую-нибудь гадость.
Журнал наш многие читали. Он был смешной, там всё время над кем-нибудь смеялись. Никому не хотелось, чтобы там про него писали. Директору мы нравились. Она вообще поддерживала свободную прессу. Элемент сказал неуверенно:
- Да идите вы…
Евгений Владимирович сказал хмуро:
- Всё? Больше никто? Тогда продолжим. Мы с вами должны были говорить про кумиров. Ибо, как известно, «не сотвори себе кумира своего». Кто-нибудь хочет поведать про свою звезду? Ну, смелее, у нас свобода слова… Свобода любит смелых!
Она сегодня была в очень огромном худи, в котором её было очень плохо видно. Но в классе очень жарко и очень душно, зима. Холод нас душит, из-за него нельзя открыть окно. Она осталась в майке, которая под её балахонами обычно прячется. Она смелая. И каждому слову верит. Сказала:
- Можно, я?
- Ну разумеется, - и Евгений Владимирович прислонился на краешек стола, а рукой на него опёрся.
Она стала рассказывать про одного из наших сожителей. Его зовут на букву «Е» и он уже давно с нами. Бывают такие, которые живут у нас периодами, такие, которые живут неделю и остаются потом с ней друзьями. А это, видимо, любовь на всю жизнь. Огромная любовь. Она его всегда утешает и поддерживает. И очень крепко обнимает. Он слушает критически, Евгений Владимирович, и я вижу, что ищет, к чему бы прицепиться, где бы пересмеять.
- Послушай, - он с этаким прищуром на неё глядит, - а вот скажи нам всем, что тебе конкретно в нём нравится?
- Ну… - это она растерялась, - он красивый. И у него очень красивые песни и голос, у него голос офигенный, а ещё он на гитаре играет, я так, наверное, никогда не смогу! И он хороший просто.
У неё чёрные кудри, прямо цвета воронова крыла. Чуть-чуть эта карешка у неё до плеч не достаёт.
- Ага. То есть ты хочешь на него походить внешне и, может быть, хотела бы петь и играть на гитаре, как он.
- Ну… Наверное.
- Хорошо, тогда смотри. Нужно более точно это сформулировать, - а я им приучена замечать, я замечаю, что он краем глаза смотрит в методичку, - Понимаешь, вот это вот «просто хороший» - это очень размытая характеристика. Вот как ты думаешь, какие у него есть хорошие качества?
- Ну… А я не знаю. Он добрый, наверное. И честный. И… Не знаю.
- А вот теперь скажи, - он делает театральную паузу, чтобы мы поняли важность его слов, - а можешь ли ты точно знать, что некий музыкант, с которым ты даже не знакома, честный и добрый? - и я вижу, что он уже идёт совсем по методичке.
Она не может оправдаться. Он точно по методичке загибает это всё на то, что такие качества, как добрый, хороший и честный, она может видеть и в более близких ей людях, чем далёкий от неё певец, например, конечно, в её родителях, в её школьных учителях, которые учат её добру. Учителя не разрешали открывать окна. Она опускает голову. Он никому не верит, и ей не поверит. Она спешно, в какой-то полуистерике и путаясь в рукавах, залезает обратно в худи и сбегает за дверь.
В пятницу я пришла в редакцию. Евгений Владимирович меня увидел, обрадовался. Руку пожал, - это у нас всегда с ним так, - и говорит:
- Вот ты помнишь вашу групповую консультацию?
Я, осторожно:
- Помню.
Он ещё больше обрадовался:
- Я вот думаю, было б неплохо из этого статью замутить, - и рассказывает мне, как он выбил подростковую дурь из бедной девочки, - Да к тому же, она ведь сбежала без моего разрешения, а я обещал, что мы за такое в журнале напишем. Я вижу вдруг, что у него седина. И сигаретами от него несёт. И хвостик тут же, рядом. И всё на букву «Е» — Евгений Владимирович то, Евгений Владимирович сё, а он на ними ржёт. И над ней хочет ржать. И нравится ведь ему, что за ним хвостик ходит. А пуще нравится ржать над ним. И как они статьи его в журнальчик на компьютере перепечатывают по очереди.
- Вы же тоже на букву «Е», - говорю.
- А я, как ты сама видишь, очень далёк от того, кого они там себе придумали.
Когда она пришла домой, она сняла балахон. Её дома встретил некто на букву «Е» и долго утешал и обнимал. Потом явилась к ней на букву «С» и поила зелёным чаем. Все, кто были дома тогда, у кого не было концертов, интервью или съёмок там, кто не был задействован сейчас в сюжете книги, к ней сошлись изо всех углов. Они её любили. Сонечка, Кира, благородный дон Румата, Светлана, Анна Каренина, Жанна д'Арк.
Потом у Жанночки выздоровел ребёнок. Она сказала, что душно, удивилась — на улице почти плюс, почему окна наглухо? - и открыла окна. Она больше не раздевалась в школе. Я ушла из редакции и сняла синий свитер. Мы шли строго по методичке.
Карпова Полина. Собери радугу
Абсолютная пустота. Нет ни страха, ни боли, а только постоянное равнодушие и холод. О том, что такое блеск в глазах, искренний смех и любовь, Рита забыла очень давно. Сидя в пустой и холодной комнате, она вновь и вновь прокручивала в голове смертельный диагноз, который услышала от лечащего врача: онкология…
Это страшное слово сначала пугало её и снилось по ночам, а потом страх сменился безразличием. Вокруг неё будто сгущался странный туман, окутывающий серой пеленой и вытягивающий последние силы. Рита перестала замечать абсолютно всех. Ей было всё равно, как она одета, чем питается и где находится. На работе она механически выполняла требования шефа, не замечала коллег и перестала быть душой компании. Все гадали, что могло привести девушку к такой резкой перемене, но ответа не находили. Идя домой, она не замечала ни дождя, ни ветра, ни жары. Для неё было все серо и однообразно. Жизнь превратилась в существование. Через несколько дней у неё должен быть отпуск, но сейчас это её не радовало. Зачем он ей? Что она будет делать? «Надо будет подойти к шефу и отказаться», - думала она.
Так бы и продолжалось дальше, если бы в один из таких безрадостных вечеров не раздался звонок в дверь, и в квартиру, словно вихрь, не ворвалась подруга Риты - Юлька.
Юлька была её подружкой со школы. Она рано вышла замуж. Андрей, её муж, был спокойным добродушным парнем, который, на удивление всем, безоговорочно слушался свою жену.
Тряхнув золотыми кудряшками, она огляделась вокруг и быстро заговорила: «Фу, Ритка, какая у тебя духотища!» Она, не раздумывая, подбежала к окну, раздвинула шторы и открыла окно. В комнату ворвался поток свежего воздуха.
«Так, что ты сидишь, как тень? Выйди хоть на улицу, прогуляйся! Посмотри, какая погода! - продолжала Юлька. – Что же всё-таки случилось?»
Рита удивлённо посмотрела на подругу и произнесла упавшим голосом: «Я думала, ты поняла. Я же всё тебе рассказала. Моя жизнь сера и бессмысленна. Это ужасно, я знаю. Но я ничего не могу поделать».
Юльку будто подбросило. «Нет! Нет!- воскликнула она. - Я ничего не хочу понимать. Я не буду тебе читать лекцию о том, что в мире миллионы людей имеют подобный диагноз, но они так не раскисают. У нас с Андреем другие планы, подруга! Даю тебе два дня на сборы. Мы с Андреем едем на неделю к морю. Ты едешь с нами! Отказ не принимается! Я тебе ещё позвоню». И Юлька убежала так же внезапно, как и появилась.
«Ну, что ж, - вздохнула Рита, - какая разница, где бесцельно проводить время». Она, не задумываясь, побросала в дорожную сумку нехитрые вещички и стала ждать звонка Юльки.
Не прошло и дня, как та позвонила: «Подруга! Ты готова? Вечером мы за тобой заедем».
А дальше потянулась пыльная и серая дорога. Юлька всё время громко восхищалась тем, что мелькало за стеклами машины: то красивым деревянным домом, то пробегающей собакой с длинными ушами, то полями подсолнечника, а Рита, закрыв глаза, думала, что ей нужен покой, и покой её ждёт уже скоро.
К обеду они подъехали к небольшому частному отелю на берегу моря, а за ним поднимались белоснежные верхушки гор. К счастью, поблизости не было никаких танцевальных площадок, поэтому они могли в полной мере наслаждаться шумом прибоя.
Наскоро пообедав, Юлька потащила Риту на пляж. Андрей не пошёл, решил отоспаться после бессонной дороги. А подруги, выбрали свободное местечко и расположились почти у самой кромки воды. Юлька, не раздумывая, бросилась в прохладную воду. Рита только коснулась водной поверхности, но тут же сделала шаг назад: море показалось ей ледяным. Она тут же вышла и легла на коврик. Юлька прибежала вся весёлая, блестящая от капелек воды и замотала головой. Капельки солёной воды попали на Риту. Она поёжилась, а Юлька высыпала на полотенце абрикосы, купленные на небольшом рынке. «Ешь! Набирайся витаминов!» - сказала она подруге. И сама с аппетитом начала их уплетать. Рита поблагодарила её, но аппетита не было, и она, пригретая солнышком, заснула.
Проснулась девушка от прохлады. Улыбающаяся Юлька сидела рядом с ней: «Ну, что, соня, всё проспала. Тут такие дельфины в море прыгали! Вот, смотри!» И она протянула свой телефон с видеозаписью. «Пойдём домой!» - сказала Юлька. «Я побуду ещё немножко здесь», - ответила Рита. «Ну, как хочешь, а я пошла», - бросила Юлька и отправилась в отель. Рита поднялась и накинула на плечи лёгкий шарфик красноватого оттенка. Пляж почти опустел. Она медленно брела по берегу и молочно-белая пена омывала её ноги. Ветер усилился и развевал её шарфик. Навстречу ей по пляжу шла пожилая сухенькая женщина в соломенной шляпке. Вдруг порыв ветра сорвал с головы её элегантный головной убор, и он упал в воду. Женщина не ожидала и растерянно смотрела по сторонам, ожидая помощи. Рита побежала за шляпкой, пока её не унесло море, и принесла женщине. Та благодарно улыбаясь, взяла девушку за руку и сказала: «Собери радугу…». Женщина пошла дальше, Рита подумала: «Какая -то сумасшедшая бабулька», и отправилась в отель. В номере, на столе, стояло большое блюдо с фруктами, а Юлька и Андрей пили чай. Юлька заголосила: «Где ты так долго была? Давай, присоединяйся к нам!» Они выпили по чашке чая с мятой. Юлька не успокаивалась: «Так, пойдем фотографироваться!» И она потащила Риту и Андрея на балкон. Шарф Риты развевался и всё время мешал, но Юлька смеялась и говорила, что это здорово, так получается естественнее.
На другой день, за ужином, Юлька объявила, что очень хочет сходить с ночёвкой в горы. Они взяли в пункте проката синюю палатку и с утра отправились по намеченному маршруту.
Горы казались такими близкими, но путь был для Риты утомительным. Солнце нещадно светило, воздух казался серым, липким, но когда они поднялись выше и посмотрели вниз, то на секунду ей показалось, будто она птица, парящая над землёй. Пока Андрей устанавливал палатку, подруги уселись на склоне и любовались ярким солнцем на фоне зелени. Рите на минутку показалось, что она улыбается.
Южный день угасал понемногу. Красный диск солнца опускался в облака, небо на горизонте стало розовато-золотистым и сияло тёплым светом, а они всё сидели на холме и тихо разговаривали. Рита упорно, опять и опять возвращалась к своей проблеме, пытаясь разобраться, что она чувствует. Но ей на миг показалось, что боль её отпускает.
Её мысли прервал голос Андрея: «Дамы! Ужин готов! Берите ложки и скорее идите к «столу»! А то ничего не достанется!» Он приготовил обыкновенную гречневую кашу с тушёнкой, но Рита была уверена, что ничего вкуснее она не пробовала.
Уснула она в одно мгновение, даже не дослушав, что ей рассказывает Юлька.
Проснулась Рита рано. Сквозь верх палатки пробивались солнечные лучи. Юлька ещё спала, натянув на себя плед, а Андрей проспал всю ночь возле костра.
Рита смотрела вдаль на просыпающийся мир и поймала себя на мысли, что ей не хочется отсюда уходить. Вокруг царили умиротворение, покой и ничем не ограниченная свобода – то, чего ей так не хватало в городе. Смотря на птиц, смело летающих под облаками, чувствуя волшебную атмосферу, она находила в себе некое дыхание вновь пробуждающейся жизни.
К вечеру они вернулись в отель. Андрей отправился к морю, чтобы искупаться в нем, а Юля и Рита уселись на балконе, ели мороженое и смотрели, как морскую гладь бороздят белые яхты.
Утром Юлька объявила, что приготовила всем сюрприз и надо одеться в спортивную одежду. Пока Рита терялась в догадках, подъехало такси, и они поехали. Куда? Только Юльке это было известно. Вскоре они подъехали к спортивному аэродрому. И Юлька торжественно произнесла: «Рита! Я знаю, что ты всегда мечтала прыгнуть с парашютом. И сейчас, здесь, осуществится твоя мечта! Поторопимся, нас уже ждут». И действительно их встретил инструктор, который всё объяснил, заставил переодеться в специальную форму и проводил до спортивного самолёта. Когда самолёт поднялся в воздух, Рите стало немного страшно. Сердце бешено заколотилось. Юлька и Андрей немного подсмеивались над ней. Но вот раздалась команда инструктора: «Приготовиться!» Открылась дверь самолёта, и Рита, собравшись с духом и крепко зажмурившись, прыгнула в воздушную бездну. Дернув за кольцо, она услышала, как парашют открылся. Рита открыла глаза и увидела над собой его белый купол. А вокруг – небо !.. Оно было ярко-голубое, бесконечное. Лёгкие перистые облака были похожи на птичьи пёрышки. Волна радости захлестнула её. Она плавно спускалась, а ей хотелось парить в облаках.
На следующий день к ним в номер постучала администратор и попросила Риту спуститься вниз, так как в холле её ожидает молодой человек. Сойдя, Рита увидела идущего к ней инструктора, в руке он держал букетик горной лаванды…
По пути домой в памяти Риты всплывали картины: горы, море, голубое небо, белый парашют, самолет, улыбающийся инструктор…
Когда они въезжали в город, началась гроза. Друзья высадили Риту возле ее дома. Она поблагодарила их за путешествие и быстро скрылась в подъезде. Через час позвонила Юлька: «Рит, я тебе на почту сбросила фотографии. Посмотри на досуге!»
Рита открыла компьютер и начала рассматривать фотографии: алый развевающийся шарф, пляжное полотенце, на котором лежат оранжевые фрукты, ослепительно желтое солнце, яркая зелень горных деревьев, голубое небо, синяя палатка и… она с букетиком фиолетовой лаванды. Девушка подумала: «Это была отличная неделя!»
Она ещё долго рассматривала эти фотографии. И вдруг ей так легко стало на душе, появилось огромное желание ЖИТЬ. ЖИТЬ, ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО!!! Девушка поняла, что у неё есть силы бороться, справляться с трудностями и идти дальше. «НАДО ЖИТЬ!!! Я БУДУ ЖИТЬ!!!»- повторяла Рита.
Она подошла к окну, открыла его и увидела, что гроза прошла. А в небольшой кусочек неба проглядывает радуга.
Абсолютная пустота. Нет ни страха, ни боли, а только постоянное равнодушие и холод. О том, что такое блеск в глазах, искренний смех и любовь, Рита забыла очень давно. Сидя в пустой и холодной комнате, она вновь и вновь прокручивала в голове смертельный диагноз, который услышала от лечащего врача: онкология…
Это страшное слово сначала пугало её и снилось по ночам, а потом страх сменился безразличием. Вокруг неё будто сгущался странный туман, окутывающий серой пеленой и вытягивающий последние силы. Рита перестала замечать абсолютно всех. Ей было всё равно, как она одета, чем питается и где находится. На работе она механически выполняла требования шефа, не замечала коллег и перестала быть душой компании. Все гадали, что могло привести девушку к такой резкой перемене, но ответа не находили. Идя домой, она не замечала ни дождя, ни ветра, ни жары. Для неё было все серо и однообразно. Жизнь превратилась в существование. Через несколько дней у неё должен быть отпуск, но сейчас это её не радовало. Зачем он ей? Что она будет делать? «Надо будет подойти к шефу и отказаться», - думала она.
Так бы и продолжалось дальше, если бы в один из таких безрадостных вечеров не раздался звонок в дверь, и в квартиру, словно вихрь, не ворвалась подруга Риты - Юлька.
Юлька была её подружкой со школы. Она рано вышла замуж. Андрей, её муж, был спокойным добродушным парнем, который, на удивление всем, безоговорочно слушался свою жену.
Тряхнув золотыми кудряшками, она огляделась вокруг и быстро заговорила: «Фу, Ритка, какая у тебя духотища!» Она, не раздумывая, подбежала к окну, раздвинула шторы и открыла окно. В комнату ворвался поток свежего воздуха.
«Так, что ты сидишь, как тень? Выйди хоть на улицу, прогуляйся! Посмотри, какая погода! - продолжала Юлька. – Что же всё-таки случилось?»
Рита удивлённо посмотрела на подругу и произнесла упавшим голосом: «Я думала, ты поняла. Я же всё тебе рассказала. Моя жизнь сера и бессмысленна. Это ужасно, я знаю. Но я ничего не могу поделать».
Юльку будто подбросило. «Нет! Нет!- воскликнула она. - Я ничего не хочу понимать. Я не буду тебе читать лекцию о том, что в мире миллионы людей имеют подобный диагноз, но они так не раскисают. У нас с Андреем другие планы, подруга! Даю тебе два дня на сборы. Мы с Андреем едем на неделю к морю. Ты едешь с нами! Отказ не принимается! Я тебе ещё позвоню». И Юлька убежала так же внезапно, как и появилась.
«Ну, что ж, - вздохнула Рита, - какая разница, где бесцельно проводить время». Она, не задумываясь, побросала в дорожную сумку нехитрые вещички и стала ждать звонка Юльки.
Не прошло и дня, как та позвонила: «Подруга! Ты готова? Вечером мы за тобой заедем».
А дальше потянулась пыльная и серая дорога. Юлька всё время громко восхищалась тем, что мелькало за стеклами машины: то красивым деревянным домом, то пробегающей собакой с длинными ушами, то полями подсолнечника, а Рита, закрыв глаза, думала, что ей нужен покой, и покой её ждёт уже скоро.
К обеду они подъехали к небольшому частному отелю на берегу моря, а за ним поднимались белоснежные верхушки гор. К счастью, поблизости не было никаких танцевальных площадок, поэтому они могли в полной мере наслаждаться шумом прибоя.
Наскоро пообедав, Юлька потащила Риту на пляж. Андрей не пошёл, решил отоспаться после бессонной дороги. А подруги, выбрали свободное местечко и расположились почти у самой кромки воды. Юлька, не раздумывая, бросилась в прохладную воду. Рита только коснулась водной поверхности, но тут же сделала шаг назад: море показалось ей ледяным. Она тут же вышла и легла на коврик. Юлька прибежала вся весёлая, блестящая от капелек воды и замотала головой. Капельки солёной воды попали на Риту. Она поёжилась, а Юлька высыпала на полотенце абрикосы, купленные на небольшом рынке. «Ешь! Набирайся витаминов!» - сказала она подруге. И сама с аппетитом начала их уплетать. Рита поблагодарила её, но аппетита не было, и она, пригретая солнышком, заснула.
Проснулась девушка от прохлады. Улыбающаяся Юлька сидела рядом с ней: «Ну, что, соня, всё проспала. Тут такие дельфины в море прыгали! Вот, смотри!» И она протянула свой телефон с видеозаписью. «Пойдём домой!» - сказала Юлька. «Я побуду ещё немножко здесь», - ответила Рита. «Ну, как хочешь, а я пошла», - бросила Юлька и отправилась в отель. Рита поднялась и накинула на плечи лёгкий шарфик красноватого оттенка. Пляж почти опустел. Она медленно брела по берегу и молочно-белая пена омывала её ноги. Ветер усилился и развевал её шарфик. Навстречу ей по пляжу шла пожилая сухенькая женщина в соломенной шляпке. Вдруг порыв ветра сорвал с головы её элегантный головной убор, и он упал в воду. Женщина не ожидала и растерянно смотрела по сторонам, ожидая помощи. Рита побежала за шляпкой, пока её не унесло море, и принесла женщине. Та благодарно улыбаясь, взяла девушку за руку и сказала: «Собери радугу…». Женщина пошла дальше, Рита подумала: «Какая -то сумасшедшая бабулька», и отправилась в отель. В номере, на столе, стояло большое блюдо с фруктами, а Юлька и Андрей пили чай. Юлька заголосила: «Где ты так долго была? Давай, присоединяйся к нам!» Они выпили по чашке чая с мятой. Юлька не успокаивалась: «Так, пойдем фотографироваться!» И она потащила Риту и Андрея на балкон. Шарф Риты развевался и всё время мешал, но Юлька смеялась и говорила, что это здорово, так получается естественнее.
На другой день, за ужином, Юлька объявила, что очень хочет сходить с ночёвкой в горы. Они взяли в пункте проката синюю палатку и с утра отправились по намеченному маршруту.
Горы казались такими близкими, но путь был для Риты утомительным. Солнце нещадно светило, воздух казался серым, липким, но когда они поднялись выше и посмотрели вниз, то на секунду ей показалось, будто она птица, парящая над землёй. Пока Андрей устанавливал палатку, подруги уселись на склоне и любовались ярким солнцем на фоне зелени. Рите на минутку показалось, что она улыбается.
Южный день угасал понемногу. Красный диск солнца опускался в облака, небо на горизонте стало розовато-золотистым и сияло тёплым светом, а они всё сидели на холме и тихо разговаривали. Рита упорно, опять и опять возвращалась к своей проблеме, пытаясь разобраться, что она чувствует. Но ей на миг показалось, что боль её отпускает.
Её мысли прервал голос Андрея: «Дамы! Ужин готов! Берите ложки и скорее идите к «столу»! А то ничего не достанется!» Он приготовил обыкновенную гречневую кашу с тушёнкой, но Рита была уверена, что ничего вкуснее она не пробовала.
Уснула она в одно мгновение, даже не дослушав, что ей рассказывает Юлька.
Проснулась Рита рано. Сквозь верх палатки пробивались солнечные лучи. Юлька ещё спала, натянув на себя плед, а Андрей проспал всю ночь возле костра.
Рита смотрела вдаль на просыпающийся мир и поймала себя на мысли, что ей не хочется отсюда уходить. Вокруг царили умиротворение, покой и ничем не ограниченная свобода – то, чего ей так не хватало в городе. Смотря на птиц, смело летающих под облаками, чувствуя волшебную атмосферу, она находила в себе некое дыхание вновь пробуждающейся жизни.
К вечеру они вернулись в отель. Андрей отправился к морю, чтобы искупаться в нем, а Юля и Рита уселись на балконе, ели мороженое и смотрели, как морскую гладь бороздят белые яхты.
Утром Юлька объявила, что приготовила всем сюрприз и надо одеться в спортивную одежду. Пока Рита терялась в догадках, подъехало такси, и они поехали. Куда? Только Юльке это было известно. Вскоре они подъехали к спортивному аэродрому. И Юлька торжественно произнесла: «Рита! Я знаю, что ты всегда мечтала прыгнуть с парашютом. И сейчас, здесь, осуществится твоя мечта! Поторопимся, нас уже ждут». И действительно их встретил инструктор, который всё объяснил, заставил переодеться в специальную форму и проводил до спортивного самолёта. Когда самолёт поднялся в воздух, Рите стало немного страшно. Сердце бешено заколотилось. Юлька и Андрей немного подсмеивались над ней. Но вот раздалась команда инструктора: «Приготовиться!» Открылась дверь самолёта, и Рита, собравшись с духом и крепко зажмурившись, прыгнула в воздушную бездну. Дернув за кольцо, она услышала, как парашют открылся. Рита открыла глаза и увидела над собой его белый купол. А вокруг – небо !.. Оно было ярко-голубое, бесконечное. Лёгкие перистые облака были похожи на птичьи пёрышки. Волна радости захлестнула её. Она плавно спускалась, а ей хотелось парить в облаках.
На следующий день к ним в номер постучала администратор и попросила Риту спуститься вниз, так как в холле её ожидает молодой человек. Сойдя, Рита увидела идущего к ней инструктора, в руке он держал букетик горной лаванды…
По пути домой в памяти Риты всплывали картины: горы, море, голубое небо, белый парашют, самолет, улыбающийся инструктор…
Когда они въезжали в город, началась гроза. Друзья высадили Риту возле ее дома. Она поблагодарила их за путешествие и быстро скрылась в подъезде. Через час позвонила Юлька: «Рит, я тебе на почту сбросила фотографии. Посмотри на досуге!»
Рита открыла компьютер и начала рассматривать фотографии: алый развевающийся шарф, пляжное полотенце, на котором лежат оранжевые фрукты, ослепительно желтое солнце, яркая зелень горных деревьев, голубое небо, синяя палатка и… она с букетиком фиолетовой лаванды. Девушка подумала: «Это была отличная неделя!»
Она ещё долго рассматривала эти фотографии. И вдруг ей так легко стало на душе, появилось огромное желание ЖИТЬ. ЖИТЬ, ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО!!! Девушка поняла, что у неё есть силы бороться, справляться с трудностями и идти дальше. «НАДО ЖИТЬ!!! Я БУДУ ЖИТЬ!!!»- повторяла Рита.
Она подошла к окну, открыла его и увидела, что гроза прошла. А в небольшой кусочек неба проглядывает радуга.
Крючкова Ульяна. Найти своего человека
Ещё котёнок…
Иногда жизнь так несправедлива! Вот ты родился в неплохом питомнике, имеешь какую-никакую родословную, являешься чистопородным сибирским котом, у тебя спина мощная, мордочка имеет плавное очертание, хвост пушистый, выразительные изумрудно-зелёные глаза, в общем, хоть сейчас на выставку. Наш герой по прозвищу Космос именно такой.
Так в чём же несправедливость? А заключается она в одном дефекте, выраженном на мордашке этого красавца в виде заячьей губы. Все «сибиряки» были забронированы ещё до рождения. Но потенциальные хозяева посчитали невозможным любить котёнка, в чьей внешности был такой изъян, поэтому отказались от него. Было принято решение продать Космоса по заниженной цене на стороннем сайте. Достался он, казалось бы, приличной семье, уже имевшей двух котов и собачонку карликовой породы. Новые хозяева называли животных именно членами своей семьи, в которой, увы, Космос оказался лишним. Бедного котёнка невзлюбили «старшие братья»: они гоняли своего сожителя по всему дому, съедали порцию корма, предназначенную ему, и начали метить территорию. Последнее очень не нравилось хозяевам. Так ещё и глава семейства решил, что поцарапанный диван тоже на совести новичка, а доказать обратное, конечно же, за гранью кошачьих возможностей.
Особо церемониться с Космосом не стали. Просто отвезли и оставили в каком-то посёлке. Да, иногда приличные, на первый взгляд, люди оказываются не очень хорошими.
Очутившись в непривычной обстановке, котёнок всё равно не растерялся и отправился обследовать новую территорию. Таким образом, пушистый красавец пробрался на один из участков, где его заметил рыжеволосый мальчик лет десяти. Он подошёл к Космосу с целью погладить того, но кот держал дистанцию. Обладатель волос цвета меди принёс котёнку котлету, а потом притащил нитку, к концу которой был привязан фантик от конфеты. Космос перекусил, а потом и поиграл с незнакомцем. Во время игры мальчик размышлял о причине появления, как он думал, раны на мордочке красавца. После этого сибирский кот стал ежедневно навещать нового друга. Оказалось, что пацан этот не любит мясо, вот и начал мальчуган почти всю свою порцию, например, печёночных блинчиков отдавать новому знакомому. Жил мальчик с бабушкой, не разрешавшей заводить животных, а сам всю жизнь мечтал о колли и коте крупной породы. Поэтому он стремился как можно скорее оказаться дома, чтобы вновь увидеться с Космосом.
В один не самый прекрасный день мальчик ждал своего друга очень долго, но зеленоглазый котёнок так и не объявился. Ну, конечно, ведь Космос находился уже очень далеко от места, где он так прекрасно проводил время. Кажется, как будто судьба специально уводит котёнка как можно дальше от места, где ему было комфортно. Иначе я просто не знаю, как ещё объяснить внезапное появившийся интерес хвостатого к насекомым, а именно к бабочкам, одна из которых привела Космоса прямиком к дороге, заставившей котёнка бежать куда угодно, главное- подальше от шума машин.
Сибирский кот растерялся. Космос был уверен в том, что он не мог далеко убежать и отправился искать дорогу в посёлок. Но хвостатый никак не мог понять, откуда он прибежал.
Не теряя надежду увидеться с рыжим мальчиком, Космос решил довериться интуиции и просто бежать в... влево! Почему бы и нет, собственно. К сожалению, кот выбрал противоположное верному направление. Он бежал достаточно долго. Уже вечереет. Нужно что-то делать. Обладатель пушистого хвоста отправился на поиски укрытия и пропитания, решив, что возвращением в посёлок займётся завтра.
Уже взрослый…
…На улице весна. Снега остаётся совсем немного, а солнце, которое отражается в образовавшихся лужах, напоминает о приближающемся лете. Люди чаще открывают окна, чтобы впустить в свои квартиры свежий весенний воздух вместе со звуками пения птиц, уже вернувшихся в родные края. В школе сегодня последний день перед каникулами, поэтому ученикам, стремящимся покинуть учебное заведение как можно скорее, сейчас совсем нет дела до кота, что пришёл сюда в поиске того, кто полюбит его, приютит и больше никогда не позволит потеряться. Он искал своего человека.
Этот кот был некрупным, имел длинную шерсть, которая при должном уходе выглядела бы просто невероятно. Возможно, так же невероятно, как и его изумрудные глаза. Скорее всего, Вы уже догадались, что к воротам школы пришёл Космос, только он уже не тот несмышлёный котёнок, что может потерять своё счастье в погоне за капустницей, а усвоивший правила жизни на улице кот. Он надолго не задерживался на одном месте, был готов обойти весь город, ведь где-то же он должен найти своего хозяина! Но хозяин никак не находился.
Конечно же, Космос не мог знать, почему некоторые люди, подходя ближе, вдруг отстранялись от него, как от заразного. А ведь они действительно так считали. Часто, когда маленькие дети подбегали к «сибиряку», чтобы погладить его, а тот радостно спешил навстречу, звучала фраза «Не трогай кису - она больная». Иногда обладатель заячьей губы слышал предположения, что его собаки порвали или коты во время драки поранили, и всё в этом духе. Да, всё-таки несмотря на отсутствие расщепления нёба, изъян на мордочке этого красавца был слишком заметен. Но, повторю ещё раз, откуда коту знать, что именно этот дефект так замедлял поиск хозяина. Хотя, даже если бы Космос вдруг понял это, вряд ли бы он отчаялся. Нет, наш герой не такой. Он верит в то, что у каждого бездомного животного на самом деле есть человек, просто его надо вычислить из толпы.
В принципе, Космос был доволен своей жизнью. Сейчас он обосновался в теремке на территории детского сада. Рядом с его убежищем было место, где всегда была какая-то еда. Этим ему и приглянулась данная локация. Ну, конечно же, ещё и множество домов, где может жить его человек, тоже сыграло роль.
Космос уже ушёл от школы и теперь отправился по каким-то своим важным кошачьим делам. Недалеко от него прогуливалась стильно одетая девушка, увлеченная телефонным разговором. Левой рукой она прислоняла к уху телефон, а в правой держала поводок, что давал ей контроль над небольшим зверьком. Это был хорёк. Он явно впервые был на прогулке, это можно понять из его поведения.
«Сибиряк» не обратил внимания на эту парочку, зато пушной зверь уж было направился в сторону незнакомца, но хозяйка дёрнула поводок в свою сторону. Тогда представитель семейства куньих ловко «вынырнул» из шлейки и, следуя инстинктам, решил напасть на ничего не подозревающего кота. Девушка скомандовала :«Пряник, ко мне!», но хорёк, кажется, лишь слегка затормозил, услышав своё имя, однако тут же продолжил движение с прежней скоростью.
Космос всё-таки остановился и обратил свой взгляд в сторону приближающегося хищника. Он никогда прежде не видел таких животных. И решил, что лучшим решением будет просто вернуться на территорию детского сада, что он и сделал. Но хорь поспешил за ним и вскоре тоже оказался там. Расстояние между Пряником и Космосом значительно сокращается. И вот коту уже не скрыться от ловкого хорька: тот валит его на землю, стараясь обхватить «добычу», насколько это возможно. Космос неплохо оборонялся, но пришло время переходить в наступление. Попытка «сибиряка» нанести удар передней лапой успехом не увенчалась, зверёк ответил на атаку укусом. Коту всё-таки удалось оттолкнуть противника задними лапами, но он не смог далеко убежать. Уже через несколько шагов повреждение, полученное от зубов фретки пару мгновений назад, дало о себе знать острой болью. Космос остановился лишь на секунду. Хорёк воспользовался временной слабостью противника и снова заставил того прижаться к земле. Хищник спрыгнул и снова быстрым прыжком оказался на теле жертвы, попутно стараясь хоть как-то укусить её, но длинная и пушистая шерсть препятствовала этому. Кот толком не мог отбиваться, хорёк двигался слишком быстро. Ему оставалось лишь царапать лапами воздух, надеясь всё-таки задеть зверька. Он предпринял вторую попытку бегства, но, как только Космос встал на лапы, хорь одним быстрым движением вцепился ему в шею. Ещё секунда - и шерсть уже не будет помехой для пушного зверя. Теперь именно эта секунда представляла из себя либо последний миг жизни кота, либо его шанс на спасение. Вдруг Космос почувствовал, что его держат за шкирку, а челюсти хищника разжимаются. Его спасла хозяйка хорька, который напоследок порвал коту левое ухо.
Девушка принесла «сибиряка» в свою квартиру, Пряника она закрыла в клетке. Космос мирно засыпал на коленях хозяйки хищника, пока она звонила кому-то с просьбой помочь.
На следующий день приехала её подруга, чьи глаза были такого же необыкновенно красивого цвета, как у Космоса. Она отвезла его к ветеринару, а потом в приют.
В приюте обладатель заячьей губы очень скучал. Он никогда особо не контактировал с другими котами, поэтому товарищами не обзавелся. Но обратил внимание на волонтёра, который тоже заинтересовался Космосом. Кстати, кличку в новом доме ему дали такую же, что была и раньше, вот такое совпадение. Так вот, парень долго рассматривал кота, потом тихо сказал:
– Не может такого быть. Вась! Василиса, подойти сюда, пожалуйста, – крикнул юноша девушке-волонтёру, которая через пару секунд оказалась возле него.
– Чего тебе?
– Сколько ему лет?
– Ну, ветеринар сказал, что около десяти.
Парень продолжал смотреть на кота, как зачарованный.
– А что, понравился? – поинтересовалась Василиса. – Юра, – начала она осторожно. – У тебя всё-таки частный дом, живёшь ты теперь один, может, подумаешь? А то кто ещё заберёт бедолагу?
– Кажется, у меня нет выбора. Он сам меня выбрал, причем уже очень давно.
Он открыл вольер, взял кота на руки и прижал к груди, как бы обнимая.
– Теперь ты от меня никуда не денешься, – шепотом произнес юноша.
А Космос и не собирался больше никуда убегать. В этот же день кот оказался на том же участке, где и десять лет назад, но теперь дорога в дом для него открыта. У Юры уже был колли по кличке Барни, и он был рад появлению нового члена семьи. Теперь Космос и Барни вместе гуляли, играли, ждали возвращения хозяина, которому нет дела ни до заячьей губы, ни до порванного уха питомца.
Ещё котёнок…
Иногда жизнь так несправедлива! Вот ты родился в неплохом питомнике, имеешь какую-никакую родословную, являешься чистопородным сибирским котом, у тебя спина мощная, мордочка имеет плавное очертание, хвост пушистый, выразительные изумрудно-зелёные глаза, в общем, хоть сейчас на выставку. Наш герой по прозвищу Космос именно такой.
Так в чём же несправедливость? А заключается она в одном дефекте, выраженном на мордашке этого красавца в виде заячьей губы. Все «сибиряки» были забронированы ещё до рождения. Но потенциальные хозяева посчитали невозможным любить котёнка, в чьей внешности был такой изъян, поэтому отказались от него. Было принято решение продать Космоса по заниженной цене на стороннем сайте. Достался он, казалось бы, приличной семье, уже имевшей двух котов и собачонку карликовой породы. Новые хозяева называли животных именно членами своей семьи, в которой, увы, Космос оказался лишним. Бедного котёнка невзлюбили «старшие братья»: они гоняли своего сожителя по всему дому, съедали порцию корма, предназначенную ему, и начали метить территорию. Последнее очень не нравилось хозяевам. Так ещё и глава семейства решил, что поцарапанный диван тоже на совести новичка, а доказать обратное, конечно же, за гранью кошачьих возможностей.
Особо церемониться с Космосом не стали. Просто отвезли и оставили в каком-то посёлке. Да, иногда приличные, на первый взгляд, люди оказываются не очень хорошими.
Очутившись в непривычной обстановке, котёнок всё равно не растерялся и отправился обследовать новую территорию. Таким образом, пушистый красавец пробрался на один из участков, где его заметил рыжеволосый мальчик лет десяти. Он подошёл к Космосу с целью погладить того, но кот держал дистанцию. Обладатель волос цвета меди принёс котёнку котлету, а потом притащил нитку, к концу которой был привязан фантик от конфеты. Космос перекусил, а потом и поиграл с незнакомцем. Во время игры мальчик размышлял о причине появления, как он думал, раны на мордочке красавца. После этого сибирский кот стал ежедневно навещать нового друга. Оказалось, что пацан этот не любит мясо, вот и начал мальчуган почти всю свою порцию, например, печёночных блинчиков отдавать новому знакомому. Жил мальчик с бабушкой, не разрешавшей заводить животных, а сам всю жизнь мечтал о колли и коте крупной породы. Поэтому он стремился как можно скорее оказаться дома, чтобы вновь увидеться с Космосом.
В один не самый прекрасный день мальчик ждал своего друга очень долго, но зеленоглазый котёнок так и не объявился. Ну, конечно, ведь Космос находился уже очень далеко от места, где он так прекрасно проводил время. Кажется, как будто судьба специально уводит котёнка как можно дальше от места, где ему было комфортно. Иначе я просто не знаю, как ещё объяснить внезапное появившийся интерес хвостатого к насекомым, а именно к бабочкам, одна из которых привела Космоса прямиком к дороге, заставившей котёнка бежать куда угодно, главное- подальше от шума машин.
Сибирский кот растерялся. Космос был уверен в том, что он не мог далеко убежать и отправился искать дорогу в посёлок. Но хвостатый никак не мог понять, откуда он прибежал.
Не теряя надежду увидеться с рыжим мальчиком, Космос решил довериться интуиции и просто бежать в... влево! Почему бы и нет, собственно. К сожалению, кот выбрал противоположное верному направление. Он бежал достаточно долго. Уже вечереет. Нужно что-то делать. Обладатель пушистого хвоста отправился на поиски укрытия и пропитания, решив, что возвращением в посёлок займётся завтра.
Уже взрослый…
…На улице весна. Снега остаётся совсем немного, а солнце, которое отражается в образовавшихся лужах, напоминает о приближающемся лете. Люди чаще открывают окна, чтобы впустить в свои квартиры свежий весенний воздух вместе со звуками пения птиц, уже вернувшихся в родные края. В школе сегодня последний день перед каникулами, поэтому ученикам, стремящимся покинуть учебное заведение как можно скорее, сейчас совсем нет дела до кота, что пришёл сюда в поиске того, кто полюбит его, приютит и больше никогда не позволит потеряться. Он искал своего человека.
Этот кот был некрупным, имел длинную шерсть, которая при должном уходе выглядела бы просто невероятно. Возможно, так же невероятно, как и его изумрудные глаза. Скорее всего, Вы уже догадались, что к воротам школы пришёл Космос, только он уже не тот несмышлёный котёнок, что может потерять своё счастье в погоне за капустницей, а усвоивший правила жизни на улице кот. Он надолго не задерживался на одном месте, был готов обойти весь город, ведь где-то же он должен найти своего хозяина! Но хозяин никак не находился.
Конечно же, Космос не мог знать, почему некоторые люди, подходя ближе, вдруг отстранялись от него, как от заразного. А ведь они действительно так считали. Часто, когда маленькие дети подбегали к «сибиряку», чтобы погладить его, а тот радостно спешил навстречу, звучала фраза «Не трогай кису - она больная». Иногда обладатель заячьей губы слышал предположения, что его собаки порвали или коты во время драки поранили, и всё в этом духе. Да, всё-таки несмотря на отсутствие расщепления нёба, изъян на мордочке этого красавца был слишком заметен. Но, повторю ещё раз, откуда коту знать, что именно этот дефект так замедлял поиск хозяина. Хотя, даже если бы Космос вдруг понял это, вряд ли бы он отчаялся. Нет, наш герой не такой. Он верит в то, что у каждого бездомного животного на самом деле есть человек, просто его надо вычислить из толпы.
В принципе, Космос был доволен своей жизнью. Сейчас он обосновался в теремке на территории детского сада. Рядом с его убежищем было место, где всегда была какая-то еда. Этим ему и приглянулась данная локация. Ну, конечно же, ещё и множество домов, где может жить его человек, тоже сыграло роль.
Космос уже ушёл от школы и теперь отправился по каким-то своим важным кошачьим делам. Недалеко от него прогуливалась стильно одетая девушка, увлеченная телефонным разговором. Левой рукой она прислоняла к уху телефон, а в правой держала поводок, что давал ей контроль над небольшим зверьком. Это был хорёк. Он явно впервые был на прогулке, это можно понять из его поведения.
«Сибиряк» не обратил внимания на эту парочку, зато пушной зверь уж было направился в сторону незнакомца, но хозяйка дёрнула поводок в свою сторону. Тогда представитель семейства куньих ловко «вынырнул» из шлейки и, следуя инстинктам, решил напасть на ничего не подозревающего кота. Девушка скомандовала :«Пряник, ко мне!», но хорёк, кажется, лишь слегка затормозил, услышав своё имя, однако тут же продолжил движение с прежней скоростью.
Космос всё-таки остановился и обратил свой взгляд в сторону приближающегося хищника. Он никогда прежде не видел таких животных. И решил, что лучшим решением будет просто вернуться на территорию детского сада, что он и сделал. Но хорь поспешил за ним и вскоре тоже оказался там. Расстояние между Пряником и Космосом значительно сокращается. И вот коту уже не скрыться от ловкого хорька: тот валит его на землю, стараясь обхватить «добычу», насколько это возможно. Космос неплохо оборонялся, но пришло время переходить в наступление. Попытка «сибиряка» нанести удар передней лапой успехом не увенчалась, зверёк ответил на атаку укусом. Коту всё-таки удалось оттолкнуть противника задними лапами, но он не смог далеко убежать. Уже через несколько шагов повреждение, полученное от зубов фретки пару мгновений назад, дало о себе знать острой болью. Космос остановился лишь на секунду. Хорёк воспользовался временной слабостью противника и снова заставил того прижаться к земле. Хищник спрыгнул и снова быстрым прыжком оказался на теле жертвы, попутно стараясь хоть как-то укусить её, но длинная и пушистая шерсть препятствовала этому. Кот толком не мог отбиваться, хорёк двигался слишком быстро. Ему оставалось лишь царапать лапами воздух, надеясь всё-таки задеть зверька. Он предпринял вторую попытку бегства, но, как только Космос встал на лапы, хорь одним быстрым движением вцепился ему в шею. Ещё секунда - и шерсть уже не будет помехой для пушного зверя. Теперь именно эта секунда представляла из себя либо последний миг жизни кота, либо его шанс на спасение. Вдруг Космос почувствовал, что его держат за шкирку, а челюсти хищника разжимаются. Его спасла хозяйка хорька, который напоследок порвал коту левое ухо.
Девушка принесла «сибиряка» в свою квартиру, Пряника она закрыла в клетке. Космос мирно засыпал на коленях хозяйки хищника, пока она звонила кому-то с просьбой помочь.
На следующий день приехала её подруга, чьи глаза были такого же необыкновенно красивого цвета, как у Космоса. Она отвезла его к ветеринару, а потом в приют.
В приюте обладатель заячьей губы очень скучал. Он никогда особо не контактировал с другими котами, поэтому товарищами не обзавелся. Но обратил внимание на волонтёра, который тоже заинтересовался Космосом. Кстати, кличку в новом доме ему дали такую же, что была и раньше, вот такое совпадение. Так вот, парень долго рассматривал кота, потом тихо сказал:
– Не может такого быть. Вась! Василиса, подойти сюда, пожалуйста, – крикнул юноша девушке-волонтёру, которая через пару секунд оказалась возле него.
– Чего тебе?
– Сколько ему лет?
– Ну, ветеринар сказал, что около десяти.
Парень продолжал смотреть на кота, как зачарованный.
– А что, понравился? – поинтересовалась Василиса. – Юра, – начала она осторожно. – У тебя всё-таки частный дом, живёшь ты теперь один, может, подумаешь? А то кто ещё заберёт бедолагу?
– Кажется, у меня нет выбора. Он сам меня выбрал, причем уже очень давно.
Он открыл вольер, взял кота на руки и прижал к груди, как бы обнимая.
– Теперь ты от меня никуда не денешься, – шепотом произнес юноша.
А Космос и не собирался больше никуда убегать. В этот же день кот оказался на том же участке, где и десять лет назад, но теперь дорога в дом для него открыта. У Юры уже был колли по кличке Барни, и он был рад появлению нового члена семьи. Теперь Космос и Барни вместе гуляли, играли, ждали возвращения хозяина, которому нет дела ни до заячьей губы, ни до порванного уха питомца.
Новикова Валерия. Мы встретимся вновь, я знаю
Я приехала сюда спустя десять лет. Я делала шаг вперед в настоящем, но в мыслях я шагала назад, в прошлое. Душой я была там, вместе с бабушкой и друзьями. Тогда, десять лет назад, мне хотелось оставить всё как есть. Да и сейчас бы я не отказалась от такой возможности. Лето сейчас – лето тогда. Ровно десять лет, не могу в это поверить.
Августовская жара не щадит никого. Как же повезло, что от города ехать всего полчаса. Я отдаю водителю деньги за проезд и выхожу из автобуса. Прямые рейсы давно отменили, но через эту остановку еще ходит транспорт, и водителя можно попросить остановиться. Мои колени немного дрожат от волнения: все же вернуться туда, где был последний раз подростком очень непросто. Я вдыхаю свежий воздух, который кажется мне райским после душного салона автобуса, и оглядываюсь.
Бабушкина деревня встречает меня тишиной и пустотой. Прошло чуть более пяти лет с тех пор, как отсюда уехал последний житель. Всё оставлено в таком виде, как будто все люди уехали ненадолго и совсем скоро вернутся. Но это не так. Дома опустели, поросли травой, и у некоторых даже начала обрушиваться крыша. Заборы, огораживающие домики и участки, к ним прилегающие, начали заваливаться набок. Протоптанные когда-то от калиток к входным дверям тропинки пропали, а вместо них росла высокая трава, которая доходила мне до пояса. Меня мало интересовали заброшенные дома незнакомых людей, но, приезжая к бабушке каждое лето до четырнадцати лет, я успела познакомиться со многими нашими соседями и бабушкиными подругами, поэтому множество домов маленькой деревушки для меня не были чужими.
Наш дом находился почти на самой окраине поселения, поэтому по дороге к нему я успела осмотреть все дома, знакомые мне ранее. Возле въезда в деревню находился дом бабушки Любы, которая держала коз и всегда угощала меня козьим молоком. Соседним с этим домом был дом бабушки Вали и дедушки Толи. Они держали корову, кур и собаку. Всегда давали моей бабушке свойские яйца и молоко, потому что у них этого было в избытке. Пройти чуть дальше и завернуть за угол, по правой стороне будет стоять дом моей подруги Аси. Она была старше меня на год и всегда мне во всем помогала, как старшая сестра, хотя и виделись мы всего три месяца в году. Мы часто ходили гулять вдвоем к пруду или брали с собой всю нашу компанию, которую мы по-ребячески называли «бандой».
Через одиннадцать домов от дома Аси стоит дом моей бабушки. Именно туда я приезжала каждое лето, именно там проводила лучшие дни детства. Наш дом сохранился достаточно хорошо. Там не обвалилась крыша, не просело основание, и он ни чуточку не покосился. Тёмно-зелёный забор тоже стоит прямо, только краска облезла. Единственное, чего было не избежать, это зарослей высокой зелёной травы. Тропинку не видно и, не знай, что она там есть, догадаться о ней было бы невозможно.
Я открываю калитку и делаю шаг. Меня переносит туда, где было хорошо. Буря волнения во мне сменяется успокоением. Я делаю двадцать шагов и останавливаюсь. Долго смотрю на двор нашего участка, вспоминая, как раньше тут играла с подругами. В голове пролетают один за другим тысячи маленьких воспоминаний. Я иду дальше, прямиком к дому. Возле крыльца растет яблоня. Удивительно, но она до сих пор дает плоды. Я даю себе обещание, что обязательно соберу яблоки, когда буду уходить. Достаю ключи из кармана спортивных штанов, недолго вожусь с ветхим замком и отворяю дверь.
На меня летит пыль, которую хорошо видно под лучами солнца. Я не обращаю на это внимание и прохожу в дом. Меня встречает родной запах деревни, старая бабушкина мебель и куча разного барахла, за которым я и приехала. Игрушки, старая одежда, посуда, декоративные принадлежности для комнат. Для всех это все уже давно потеряло важность, а я хочу найти для себя прошлое. На столе в гостиной много бумаг, я сразу решаю для себя, что мне нужно их прочитать. На диване, на котором в юности я спала, лежат все вещи из шкафа. Сам шкаф пустует под большим слоем пыли, хорошо заметной на темном дереве. Я еще раз обхожу всю комнату и подхожу к столу. Нужно разобраться с максимальной частью вещей до темноты: свет в этой деревне отключили сразу после того, как она стала числиться заброшенной.
Первым делом, подходя к столу, я замечаю когда-то важные бумаги, оплату за свет. Откладываю их в сторону все сразу. Дальше идут старые фотографии: мои, бабушкины, родительские. Просмотрев их все, я осторожно откладываю в сторону для того, чтобы, уходя, забрать их. А потом мой взгляд натыкается на то, что я должна была увидеть еще тогда, десять лет назад, когда уезжала навсегда, зная, что не вернусь.
На маленьком клочке бумаги написан номер телефона, а внизу подписано «Ася».
* * *
Сегодня бабушке звонила моя мама, пока я играла на соседнем участке с детьми. Она передала мне, что я должна начать собирать вещи и что они с папой приедут за мной послезавтра в обед. Я жутко расстроилась. У меня было две причины для этого: первая – я не заметила, как пролетело все лето, и до мурашек не хотела прощаться с друзьями, ведь в городе друзей у меня никогда не было; причина вторая – я знала, что мы переезжаем в другой город, далеко отсюда, и шансы приехать сюда до окончания школы приравнивались к нулю.
Следующим утром я побежала под нашу березу и долго была там одна. Сидела на траве и думала о том, что мне сказать и как. Как мне оповестить их о том, что больше никогда не приеду? Как сказать им, что в следующем году мы уже не соберемся под нашей березой, где столько всего произошло? После обеда собралась вся наша банда, и я сразу им все рассказала. Они, как и я, были расстроены, но наша грусть быстро забылась за нашими играми. Одна Ася выглядела немного подавленно весь день, и по ней нельзя было сказать, что в играх она отвлеклась. Вечером она подошла ко мне, спросила точное время моего отъезда, мы немного поболтали и разошлись по домам.
Пока я шла домой, думала, что уже завтра в двенадцать дня я уеду, и мне становилось грустно и даже хотелось плакать.
Настал тот день, когда происходит все самое неприятное. Сегодня двадцать восьмое августа, сегодня приезжают мои родители, и сегодня я с нетерпением жду Асю.
Но Ася не появилась в одиннадцать утра, как мы договаривались. Она не появилась и через полчаса, когда уже приехали родители и пили чай на кухне, потому что бабушка победила в споре под названием «Вы с дороги, уставшие, поешьте хоть немного!». Я ждала Асю возле окна. Я бы и сама сходила к ней, но мамино «Сейчас уйдешь, и где нам потом тебя искать?» я переубедить не смогла.
Через пятнадцать минут я с папой погрузила все свои вещи в багажник его машины и мы ждали маму, которая стойко отнекивалась от бабушкиных гостинцев в трех сумках. Асю я так и не встретила сегодня. А, проезжая мимо ее дома, со слезами на глазах и надеждой в них посмотрела на калитку: вдруг та открыта, и Ася ждет меня. Но калитка закрыта, а на участке Асиного дома никого нет.
* * *
Я взяла в руку листочек, пару минут осматривая его. Маленький, ободранный по краям клочок бумаги в клетку. На нем неровным почерком написаны цифры и три буквы. Но Ася опоздала. На час, на два, а, может, всего на десять минут. А, может, и вовсе перепутала дни и пришла к моей бабушке двадцать девятого, когда я была уже дома. Не знаю этого и не узнаю, наверное, но меня это волновало меньше всего.
Я достаю из кармана штанов свой телефон и быстро набираю цифры, указанные на листке, пару раз перепроверяя правильность. «Может же быть такое, что за десять лет ее номер не изменился? Может же быть такое, я же не меняла!» – крутится у меня в голове, пока я жду первый гудок. Связь плохая здесь, особенно в доме. Выхожу на крыльцо и слышу заветный длинный гудок. Первый, второй, третий... А потом голос... Ее голос.
– Алло… Кто это? – раздается по ту сторону телефона, и я ликую: голос ее! У нее голос изменился, но остался узнаваемым.
– Я, – все, что получается выдавить у меня из себя. На том конце провода что-то шумит и, может, она меня даже узнает, но я через несколько секунд добавляю, – это Леся. Ты где? Тебе долго идти до нашей березы?
– Недолго. Ты приехала? – ее голос веселеет. Видимо, она вспоминает наше время, которое мы проводили вместе или в компании друзей.
– Я приехала. Встречаемся на том же месте, – голос у меня дрожит от волнения, но я стараюсь говорить четко.
– На том же месте, – вторит она и отключается.
Я пришла раньше, как и ожидала. Но ждать ее приходится недолго. Через пять минут я замечаю ее силуэт: она стройная, высокая, с длинными волосами. Бегу к ней и налетаю на нее с объятиями, не боясь повалить. Ася крепко обнимает меня в ответ, и мы стоим так минуты две.
– Никогда бы не подумала, что мы сможем встретиться на том же месте через десять лет, – не отстраняясь, говорю я.
Я приехала сюда спустя десять лет. Я делала шаг вперед в настоящем, но в мыслях я шагала назад, в прошлое. Душой я была там, вместе с бабушкой и друзьями. Тогда, десять лет назад, мне хотелось оставить всё как есть. Да и сейчас бы я не отказалась от такой возможности. Лето сейчас – лето тогда. Ровно десять лет, не могу в это поверить.
Августовская жара не щадит никого. Как же повезло, что от города ехать всего полчаса. Я отдаю водителю деньги за проезд и выхожу из автобуса. Прямые рейсы давно отменили, но через эту остановку еще ходит транспорт, и водителя можно попросить остановиться. Мои колени немного дрожат от волнения: все же вернуться туда, где был последний раз подростком очень непросто. Я вдыхаю свежий воздух, который кажется мне райским после душного салона автобуса, и оглядываюсь.
Бабушкина деревня встречает меня тишиной и пустотой. Прошло чуть более пяти лет с тех пор, как отсюда уехал последний житель. Всё оставлено в таком виде, как будто все люди уехали ненадолго и совсем скоро вернутся. Но это не так. Дома опустели, поросли травой, и у некоторых даже начала обрушиваться крыша. Заборы, огораживающие домики и участки, к ним прилегающие, начали заваливаться набок. Протоптанные когда-то от калиток к входным дверям тропинки пропали, а вместо них росла высокая трава, которая доходила мне до пояса. Меня мало интересовали заброшенные дома незнакомых людей, но, приезжая к бабушке каждое лето до четырнадцати лет, я успела познакомиться со многими нашими соседями и бабушкиными подругами, поэтому множество домов маленькой деревушки для меня не были чужими.
Наш дом находился почти на самой окраине поселения, поэтому по дороге к нему я успела осмотреть все дома, знакомые мне ранее. Возле въезда в деревню находился дом бабушки Любы, которая держала коз и всегда угощала меня козьим молоком. Соседним с этим домом был дом бабушки Вали и дедушки Толи. Они держали корову, кур и собаку. Всегда давали моей бабушке свойские яйца и молоко, потому что у них этого было в избытке. Пройти чуть дальше и завернуть за угол, по правой стороне будет стоять дом моей подруги Аси. Она была старше меня на год и всегда мне во всем помогала, как старшая сестра, хотя и виделись мы всего три месяца в году. Мы часто ходили гулять вдвоем к пруду или брали с собой всю нашу компанию, которую мы по-ребячески называли «бандой».
Через одиннадцать домов от дома Аси стоит дом моей бабушки. Именно туда я приезжала каждое лето, именно там проводила лучшие дни детства. Наш дом сохранился достаточно хорошо. Там не обвалилась крыша, не просело основание, и он ни чуточку не покосился. Тёмно-зелёный забор тоже стоит прямо, только краска облезла. Единственное, чего было не избежать, это зарослей высокой зелёной травы. Тропинку не видно и, не знай, что она там есть, догадаться о ней было бы невозможно.
Я открываю калитку и делаю шаг. Меня переносит туда, где было хорошо. Буря волнения во мне сменяется успокоением. Я делаю двадцать шагов и останавливаюсь. Долго смотрю на двор нашего участка, вспоминая, как раньше тут играла с подругами. В голове пролетают один за другим тысячи маленьких воспоминаний. Я иду дальше, прямиком к дому. Возле крыльца растет яблоня. Удивительно, но она до сих пор дает плоды. Я даю себе обещание, что обязательно соберу яблоки, когда буду уходить. Достаю ключи из кармана спортивных штанов, недолго вожусь с ветхим замком и отворяю дверь.
На меня летит пыль, которую хорошо видно под лучами солнца. Я не обращаю на это внимание и прохожу в дом. Меня встречает родной запах деревни, старая бабушкина мебель и куча разного барахла, за которым я и приехала. Игрушки, старая одежда, посуда, декоративные принадлежности для комнат. Для всех это все уже давно потеряло важность, а я хочу найти для себя прошлое. На столе в гостиной много бумаг, я сразу решаю для себя, что мне нужно их прочитать. На диване, на котором в юности я спала, лежат все вещи из шкафа. Сам шкаф пустует под большим слоем пыли, хорошо заметной на темном дереве. Я еще раз обхожу всю комнату и подхожу к столу. Нужно разобраться с максимальной частью вещей до темноты: свет в этой деревне отключили сразу после того, как она стала числиться заброшенной.
Первым делом, подходя к столу, я замечаю когда-то важные бумаги, оплату за свет. Откладываю их в сторону все сразу. Дальше идут старые фотографии: мои, бабушкины, родительские. Просмотрев их все, я осторожно откладываю в сторону для того, чтобы, уходя, забрать их. А потом мой взгляд натыкается на то, что я должна была увидеть еще тогда, десять лет назад, когда уезжала навсегда, зная, что не вернусь.
На маленьком клочке бумаги написан номер телефона, а внизу подписано «Ася».
* * *
Сегодня бабушке звонила моя мама, пока я играла на соседнем участке с детьми. Она передала мне, что я должна начать собирать вещи и что они с папой приедут за мной послезавтра в обед. Я жутко расстроилась. У меня было две причины для этого: первая – я не заметила, как пролетело все лето, и до мурашек не хотела прощаться с друзьями, ведь в городе друзей у меня никогда не было; причина вторая – я знала, что мы переезжаем в другой город, далеко отсюда, и шансы приехать сюда до окончания школы приравнивались к нулю.
Следующим утром я побежала под нашу березу и долго была там одна. Сидела на траве и думала о том, что мне сказать и как. Как мне оповестить их о том, что больше никогда не приеду? Как сказать им, что в следующем году мы уже не соберемся под нашей березой, где столько всего произошло? После обеда собралась вся наша банда, и я сразу им все рассказала. Они, как и я, были расстроены, но наша грусть быстро забылась за нашими играми. Одна Ася выглядела немного подавленно весь день, и по ней нельзя было сказать, что в играх она отвлеклась. Вечером она подошла ко мне, спросила точное время моего отъезда, мы немного поболтали и разошлись по домам.
Пока я шла домой, думала, что уже завтра в двенадцать дня я уеду, и мне становилось грустно и даже хотелось плакать.
Настал тот день, когда происходит все самое неприятное. Сегодня двадцать восьмое августа, сегодня приезжают мои родители, и сегодня я с нетерпением жду Асю.
Но Ася не появилась в одиннадцать утра, как мы договаривались. Она не появилась и через полчаса, когда уже приехали родители и пили чай на кухне, потому что бабушка победила в споре под названием «Вы с дороги, уставшие, поешьте хоть немного!». Я ждала Асю возле окна. Я бы и сама сходила к ней, но мамино «Сейчас уйдешь, и где нам потом тебя искать?» я переубедить не смогла.
Через пятнадцать минут я с папой погрузила все свои вещи в багажник его машины и мы ждали маму, которая стойко отнекивалась от бабушкиных гостинцев в трех сумках. Асю я так и не встретила сегодня. А, проезжая мимо ее дома, со слезами на глазах и надеждой в них посмотрела на калитку: вдруг та открыта, и Ася ждет меня. Но калитка закрыта, а на участке Асиного дома никого нет.
* * *
Я взяла в руку листочек, пару минут осматривая его. Маленький, ободранный по краям клочок бумаги в клетку. На нем неровным почерком написаны цифры и три буквы. Но Ася опоздала. На час, на два, а, может, всего на десять минут. А, может, и вовсе перепутала дни и пришла к моей бабушке двадцать девятого, когда я была уже дома. Не знаю этого и не узнаю, наверное, но меня это волновало меньше всего.
Я достаю из кармана штанов свой телефон и быстро набираю цифры, указанные на листке, пару раз перепроверяя правильность. «Может же быть такое, что за десять лет ее номер не изменился? Может же быть такое, я же не меняла!» – крутится у меня в голове, пока я жду первый гудок. Связь плохая здесь, особенно в доме. Выхожу на крыльцо и слышу заветный длинный гудок. Первый, второй, третий... А потом голос... Ее голос.
– Алло… Кто это? – раздается по ту сторону телефона, и я ликую: голос ее! У нее голос изменился, но остался узнаваемым.
– Я, – все, что получается выдавить у меня из себя. На том конце провода что-то шумит и, может, она меня даже узнает, но я через несколько секунд добавляю, – это Леся. Ты где? Тебе долго идти до нашей березы?
– Недолго. Ты приехала? – ее голос веселеет. Видимо, она вспоминает наше время, которое мы проводили вместе или в компании друзей.
– Я приехала. Встречаемся на том же месте, – голос у меня дрожит от волнения, но я стараюсь говорить четко.
– На том же месте, – вторит она и отключается.
Я пришла раньше, как и ожидала. Но ждать ее приходится недолго. Через пять минут я замечаю ее силуэт: она стройная, высокая, с длинными волосами. Бегу к ней и налетаю на нее с объятиями, не боясь повалить. Ася крепко обнимает меня в ответ, и мы стоим так минуты две.
– Никогда бы не подумала, что мы сможем встретиться на том же месте через десять лет, – не отстраняясь, говорю я.
Заика Алёна. Страх в подарок
Когда живёшь на планете, где всё сплошь состоит из страха, очень трудно быть трусом. Всем ведь известна великая мудрость: «Храбрый не тот, кто ничего не боится, а тот, кто умеет преодолевать свой страх». Так вот у нас на этой мысли построена вся сущность бытия.
Когда я узнал, что в просторах космоса, кроме нашей планеты, есть и другие, тоже обитаемые, сначала удивился. Всё, что я знал о законах мира, рушилось на уроках астрономии, где нам рассказывали об особенностях быта наших братьев по разуму. Раньше я и подумать не мог, что где-то кто-то может жить не так, как у нас.
Не знаю, исполнится ли однажды моя сокровенная мечта: побывать на другой планете, – но на случай, если не исполнится, решил записать эту историю. Пусть это будет мой вклад в создание научных документов о культурах планет нашей галактики.
Итак, знакомьтесь: планета Фобиара и её искусственный спутник-прожектор Боязар. Страна здесь всего одна – тоже Фобиара, а значение инопланетного слова «материк», равно как и «континент», я не понял. Городов у нас много. Столица, например, Опасения, а её город-спутник (обожаю умные словечки!) – Неспокойн. Там я никогда не был, мой дом – это глухая провинция, село Тревожное.
Но давайте вернёмся к планете. Главный элемент атмосферы здесь – ужасрод, местная валюта – страши, жители – страхолюдины (внешне мы выглядим плюс-минус как, скажем, земляне).
Да, страх. Он окружает нас везде и всегда. Как я уже сказал, главный химический элемент здесь – ужасрод. Здесь всё из него состоит. Твердь под ногами, небо над головой, тревогоры – высокие выступы тверди, морозеро – самый большой источник жидкости на планете, страшилы – по- инопланетному «звери», даже дождь, который проливается из тучаяний, и даже я – ученик девятого класса, Одиночий Мурашкин (имена у нас весёлые, привыкайте).
Ужасрод, как понятно из названия, рождает ужас. Мы вот ходим по страхамням – а это не соединения минеральных веществ, как на других планетах, – это чей-то страх. Ужас никогда не исчезает бесследно: испугался чего-то, и у тебя появляется новый страх – тёмный сгусток ужасрода, который привязан к тебе уздой. Пока этот страх твой, на нём горит красная точка-маяк: это значит, что страх принадлежит тебе и ты должен его побороть.
Когда ты побеждаешь свой страх, точка на нём гаснет, узда отцепляется от тебя и ты можешь положить его в свою коллекцию, как ценный трофей. Чем больше у тебя трофеев, тем, значит, смелее и сильнее ты сам. Не поверите, но я видел сородичей, которые ходят все обвешанные страхами, так и сгибаются под ними – лица не видно! Аж страшно за них…
У меня таких проблем, к счастью, никогда не было, я даже дерзну назвать себя довольно смелым мальчиком. Так вот, когда жизненный путь страхолюдины кончается, все его страхи вместе с ним самим становятся единым целым со всей планетой. Так у нас и появились все эти тревогоры и морозеро.
Из этого морозера, кстати, недавно вылез новый страшила – огромный чёрный пёс. Он уже который день околачивается возле Тревожного и всё пытается подкараулить меня: видимо, он ищет подходящего страхолюдину, чтобы прицепиться к нему на узду – со мной он ошибся, я не боюсь собак (если, конечно, они не выскакивают из-за паникустов со скоростью тьмы).
Я как раз успел добежать до дома и запрыгнуть на забор, чтобы не попасть в его клыки, как вдруг меня окликнули:
– Динка!
На всей планете меня, Одиночия Мурашкина, называли «Динкой» только два существа: мама и школьный товарищ Пугливанн.
– Страшный вечер, Пугля!
Я жестом пригласил его к себе на забор: страх-пёс уже куда-то слинял, но вряд ли это было надолго. Пугля не заставил себя ждать. Мальчишки – они и в другой Вселенной мальчишки, дай только на заборе посидеть!
– И тебе страшный вечер. Догадайся, зачем я пришёл?
– А что, просто так ты прийти не мог?
Я сгорбился на заборе: во-первых, после долгого бега от пса устала спина, во-вторых, чтобы не показать, что нервничаю. Я-то знал, о чём он.
– Ха, ну ты чудак… – Пугля притянул меня к себе и обнял: очень редкий жест в наших краях. Он был старше меня года на два, а я любил его как брата, хоть и жутко стеснялся этого. – С Днём Рождения тебя, Динка. Пусть страх заполняет всё твоё существование и Боязар всегда светит над головой! Здоровья.
– Долго речь готовил? – пробурчал я, чтобы хоть как-то заглушить смущение.
– Я принёс тебе подарок, – как ни в чём не бывало продолжил Пугля.
Вот тут у меня прямо дух захватило.
– Подарок?
– Да. Но я его тебе не отдам.
Для меня осталось тайной, что он в тот момент увидел в моих глазах, но он тут же прыснул от смеха.
– Да ладно тебе! Это жутка.
– Очень смешно!
– Ладно, ладно… Не порть момент. Это тебе!
И он вытянул из кармана тёмный, холодный страх.
Не знаю, какие традиции относительно подарков обитают на Вашей Родине, но у нас так делали всегда. Ведь подарить страх – это значит сказать человеку: «Ты очень сильный и смелый. Я уважаю твой характер». Это большая честь, это значит, что тебе желают перебороть ещё один страх и стать более храбрым.
Я просто затрясся от радости и предвкушения. Мама подарила мне страх ещё утром, и я был очень рад её подарку, но… только потому, что она мама. Её страх меня не очень впечатлил, потому что он был лёгкий – всего лишь страх высоты.
Но этот… от него так и веяло ужасом, хотя я пока и не понял, что этот сгусток тьмы из себя представляет.
– Этой мой детский страх. Он особенный. Потому что… я до сих пор не понимаю, что это и как я это переборол. А ещё…
Тут Пугля слегка запнулся, а потом, словно нехотя, повернул страх другим бочком. Я вздрогнул. Красная точка!
Я пошарил глазами в поисках узды… но так и не нашёл её.
– Что это?… Подожди… Ты не переборол его? Точка светится, значит, страх принадлежит тебе. Или не тебе…
– В этом-то и дело. Узды нет, а значит, это свободный страх. Но точка всё ещё горит, а значит…
Я догадался сразу:
– Это один из Вечных…
Вечных страхов было всего два: Страх смерти и Страх одиночества. Они сидели на высокой башне, на площади в самом центре Опасении и на них всегда горели красные точки, хотя узды не было ни у того, ни у другого. Это означало, что они принадлежат каждому, всему обществу в целом. Неужели, теперь появился третий Вечный?
Пугля отрывисто кивнул и заговорил быстрее:
– Я подумал, если я подарю его тебе и ты сможешь его перебороть, то станешь Мудрейшим. Если ты покажешься ему слабым, он просто уйдёт, а если нет… Но ты не слабый, я знаю, ты справишься!
Он говорил мне ещё много чего, видимо, боялся, что я не оценю подарок. А я был дико рад и в то же время напуган. Вечный страх… Каким образом я с ним справлюсь? Ведь я даже не знаю, какой он… Потом я благодарил Пуглю, и мы болтали о том, о сём… Я всё сидел, держа его подарок в руках, и страх загадочно мигал мне красным огоньком. Потом Пугля по обычаю пожелал мне неспокойной ночи, дружески хлопнул меня по плечу и исчез в вечерних сумерках.
Только тогда я наконец решился. Сжал страх покрепче, поднёс к груди и дал ему привязаться к себе. Страх привязался. Между нами натянулась прочная нить. Я ожидал немедленно почувствовать разрывающую панику, холод в спине или что похуже… но ужаса не было. Наоборот, по телу разлилась непривычная лёгкость. У нас непринято использовать слово «счастье» в повседневной жизни, даже «радость» – явление редкое, всё это удел Мудрейших… но в те минуты я ощущал такое блаженное тепло среди общей стужи планеты, такой бесшабашный прилив сил…
По дороге загремела жуть-телега. Какой-то страхолюдина крикнул с неё: «Эй, мелюзга! Держи ты свой страх в узде!». Это он мне: мой извечный страх в виде маленького паучка отлетел слишком далеко, пока я тут мечтал. Я подтянул его к себе за узду, обхватил двумя руками, всмотрелся в красный паучий глаз. Мне не было страшно. Тогда я поднёс паука к лицу и потёрся о его щетинку. Не страшно.
С оглушительным рыком прямо под мой забор выпрыгнул пёс-страшила. Опять он здесь… Он бросался, выл, но меня даже не передёрнуло. Медленно, но верно я осознавал, что происходит.
Я больше ничего не боялся. Неужели это возможно? Да?! Я запрокинул голову, глядя в мутное небо, и засмеялся – так, как умеют только Мудрейшие. Это было прекрасно!
Тут в моё сознание ворвался крик соседки: «Мурашкин! Матери плохо опять!». Обычно подобные слова взрывались внутри меня приступом ужаса, и мой Страх потерять ближних разбухал на всю катушку, а я стремительно мчался домой, дать маме таблетку…
Но не теперь. Я не двинулся. Я отчётливо понимал, что происходит, но Страх за ближнего молчал. В глубине души я хотел рвать на себе волосы, но весь ужас из меня выбило напрочь. Я покачивался на заборе и безмятежно улыбался. В теле пело чувство грандиозной свободы и одна-единственная мысль, что теперь мне всё по барабану.
А зачем бояться? Жизнь – всего лишь миг…
Соседка сначала смотрела на меня с недоумением, может, думала, что я не расслышал… А потом, видимо, всё поняла. Она выпучила глаза и попятилась в темноту, глядя на меня, как на нового страшилу. И тут я ослепительно ясно осознал смысл одного из древних афоризмов: «Монстры не имеют страха».
Это осознание ударило меня наотмашь, и я с криком полетел на страхамни. Сердце тарабанило. Страх высоты…
На меня стремительной волной накатывали ощущения жизни – Страх ранений от разбитых ладоней, Страх пауков, сидящих в темноте и… Страх за ближнего. Я вскочил на ноги и пулей рванул в дом.
К маме! Таблетку! Запить! Быстро!
Руки у меня тряслись, а за спиной болтался огромный подарок Пугли. Это был Страх потерять страх. Звучит смешно, но мне было не до смеха! Я так боялся снова впасть в это состояние полной безмятежности, так боялся!
Фобиарцы с первых дней жизни мечтают избавиться от всех страхов, а я был чудовищно рад, что теперь боюсь этой мечты. Я всегда ненавидел свои страхи, а этот Страх я вдруг полюбил и был ему благодарен. Любить свой страх, – о, силы Вселенские! Это было до боли странное чувство… И до слёз живое… Страх – не кара небесная, он помогает жить, любить, ценить – вот, что я тогда понял!
Но это уже не важно. Важно, что мама жива-здорова.
И, может быть, не только Мудрейшие бывают счастливыми?..
Одиночий Мурашкин,
15 лет
Когда живёшь на планете, где всё сплошь состоит из страха, очень трудно быть трусом. Всем ведь известна великая мудрость: «Храбрый не тот, кто ничего не боится, а тот, кто умеет преодолевать свой страх». Так вот у нас на этой мысли построена вся сущность бытия.
Когда я узнал, что в просторах космоса, кроме нашей планеты, есть и другие, тоже обитаемые, сначала удивился. Всё, что я знал о законах мира, рушилось на уроках астрономии, где нам рассказывали об особенностях быта наших братьев по разуму. Раньше я и подумать не мог, что где-то кто-то может жить не так, как у нас.
Не знаю, исполнится ли однажды моя сокровенная мечта: побывать на другой планете, – но на случай, если не исполнится, решил записать эту историю. Пусть это будет мой вклад в создание научных документов о культурах планет нашей галактики.
Итак, знакомьтесь: планета Фобиара и её искусственный спутник-прожектор Боязар. Страна здесь всего одна – тоже Фобиара, а значение инопланетного слова «материк», равно как и «континент», я не понял. Городов у нас много. Столица, например, Опасения, а её город-спутник (обожаю умные словечки!) – Неспокойн. Там я никогда не был, мой дом – это глухая провинция, село Тревожное.
Но давайте вернёмся к планете. Главный элемент атмосферы здесь – ужасрод, местная валюта – страши, жители – страхолюдины (внешне мы выглядим плюс-минус как, скажем, земляне).
Да, страх. Он окружает нас везде и всегда. Как я уже сказал, главный химический элемент здесь – ужасрод. Здесь всё из него состоит. Твердь под ногами, небо над головой, тревогоры – высокие выступы тверди, морозеро – самый большой источник жидкости на планете, страшилы – по- инопланетному «звери», даже дождь, который проливается из тучаяний, и даже я – ученик девятого класса, Одиночий Мурашкин (имена у нас весёлые, привыкайте).
Ужасрод, как понятно из названия, рождает ужас. Мы вот ходим по страхамням – а это не соединения минеральных веществ, как на других планетах, – это чей-то страх. Ужас никогда не исчезает бесследно: испугался чего-то, и у тебя появляется новый страх – тёмный сгусток ужасрода, который привязан к тебе уздой. Пока этот страх твой, на нём горит красная точка-маяк: это значит, что страх принадлежит тебе и ты должен его побороть.
Когда ты побеждаешь свой страх, точка на нём гаснет, узда отцепляется от тебя и ты можешь положить его в свою коллекцию, как ценный трофей. Чем больше у тебя трофеев, тем, значит, смелее и сильнее ты сам. Не поверите, но я видел сородичей, которые ходят все обвешанные страхами, так и сгибаются под ними – лица не видно! Аж страшно за них…
У меня таких проблем, к счастью, никогда не было, я даже дерзну назвать себя довольно смелым мальчиком. Так вот, когда жизненный путь страхолюдины кончается, все его страхи вместе с ним самим становятся единым целым со всей планетой. Так у нас и появились все эти тревогоры и морозеро.
Из этого морозера, кстати, недавно вылез новый страшила – огромный чёрный пёс. Он уже который день околачивается возле Тревожного и всё пытается подкараулить меня: видимо, он ищет подходящего страхолюдину, чтобы прицепиться к нему на узду – со мной он ошибся, я не боюсь собак (если, конечно, они не выскакивают из-за паникустов со скоростью тьмы).
Я как раз успел добежать до дома и запрыгнуть на забор, чтобы не попасть в его клыки, как вдруг меня окликнули:
– Динка!
На всей планете меня, Одиночия Мурашкина, называли «Динкой» только два существа: мама и школьный товарищ Пугливанн.
– Страшный вечер, Пугля!
Я жестом пригласил его к себе на забор: страх-пёс уже куда-то слинял, но вряд ли это было надолго. Пугля не заставил себя ждать. Мальчишки – они и в другой Вселенной мальчишки, дай только на заборе посидеть!
– И тебе страшный вечер. Догадайся, зачем я пришёл?
– А что, просто так ты прийти не мог?
Я сгорбился на заборе: во-первых, после долгого бега от пса устала спина, во-вторых, чтобы не показать, что нервничаю. Я-то знал, о чём он.
– Ха, ну ты чудак… – Пугля притянул меня к себе и обнял: очень редкий жест в наших краях. Он был старше меня года на два, а я любил его как брата, хоть и жутко стеснялся этого. – С Днём Рождения тебя, Динка. Пусть страх заполняет всё твоё существование и Боязар всегда светит над головой! Здоровья.
– Долго речь готовил? – пробурчал я, чтобы хоть как-то заглушить смущение.
– Я принёс тебе подарок, – как ни в чём не бывало продолжил Пугля.
Вот тут у меня прямо дух захватило.
– Подарок?
– Да. Но я его тебе не отдам.
Для меня осталось тайной, что он в тот момент увидел в моих глазах, но он тут же прыснул от смеха.
– Да ладно тебе! Это жутка.
– Очень смешно!
– Ладно, ладно… Не порть момент. Это тебе!
И он вытянул из кармана тёмный, холодный страх.
Не знаю, какие традиции относительно подарков обитают на Вашей Родине, но у нас так делали всегда. Ведь подарить страх – это значит сказать человеку: «Ты очень сильный и смелый. Я уважаю твой характер». Это большая честь, это значит, что тебе желают перебороть ещё один страх и стать более храбрым.
Я просто затрясся от радости и предвкушения. Мама подарила мне страх ещё утром, и я был очень рад её подарку, но… только потому, что она мама. Её страх меня не очень впечатлил, потому что он был лёгкий – всего лишь страх высоты.
Но этот… от него так и веяло ужасом, хотя я пока и не понял, что этот сгусток тьмы из себя представляет.
– Этой мой детский страх. Он особенный. Потому что… я до сих пор не понимаю, что это и как я это переборол. А ещё…
Тут Пугля слегка запнулся, а потом, словно нехотя, повернул страх другим бочком. Я вздрогнул. Красная точка!
Я пошарил глазами в поисках узды… но так и не нашёл её.
– Что это?… Подожди… Ты не переборол его? Точка светится, значит, страх принадлежит тебе. Или не тебе…
– В этом-то и дело. Узды нет, а значит, это свободный страх. Но точка всё ещё горит, а значит…
Я догадался сразу:
– Это один из Вечных…
Вечных страхов было всего два: Страх смерти и Страх одиночества. Они сидели на высокой башне, на площади в самом центре Опасении и на них всегда горели красные точки, хотя узды не было ни у того, ни у другого. Это означало, что они принадлежат каждому, всему обществу в целом. Неужели, теперь появился третий Вечный?
Пугля отрывисто кивнул и заговорил быстрее:
– Я подумал, если я подарю его тебе и ты сможешь его перебороть, то станешь Мудрейшим. Если ты покажешься ему слабым, он просто уйдёт, а если нет… Но ты не слабый, я знаю, ты справишься!
Он говорил мне ещё много чего, видимо, боялся, что я не оценю подарок. А я был дико рад и в то же время напуган. Вечный страх… Каким образом я с ним справлюсь? Ведь я даже не знаю, какой он… Потом я благодарил Пуглю, и мы болтали о том, о сём… Я всё сидел, держа его подарок в руках, и страх загадочно мигал мне красным огоньком. Потом Пугля по обычаю пожелал мне неспокойной ночи, дружески хлопнул меня по плечу и исчез в вечерних сумерках.
Только тогда я наконец решился. Сжал страх покрепче, поднёс к груди и дал ему привязаться к себе. Страх привязался. Между нами натянулась прочная нить. Я ожидал немедленно почувствовать разрывающую панику, холод в спине или что похуже… но ужаса не было. Наоборот, по телу разлилась непривычная лёгкость. У нас непринято использовать слово «счастье» в повседневной жизни, даже «радость» – явление редкое, всё это удел Мудрейших… но в те минуты я ощущал такое блаженное тепло среди общей стужи планеты, такой бесшабашный прилив сил…
По дороге загремела жуть-телега. Какой-то страхолюдина крикнул с неё: «Эй, мелюзга! Держи ты свой страх в узде!». Это он мне: мой извечный страх в виде маленького паучка отлетел слишком далеко, пока я тут мечтал. Я подтянул его к себе за узду, обхватил двумя руками, всмотрелся в красный паучий глаз. Мне не было страшно. Тогда я поднёс паука к лицу и потёрся о его щетинку. Не страшно.
С оглушительным рыком прямо под мой забор выпрыгнул пёс-страшила. Опять он здесь… Он бросался, выл, но меня даже не передёрнуло. Медленно, но верно я осознавал, что происходит.
Я больше ничего не боялся. Неужели это возможно? Да?! Я запрокинул голову, глядя в мутное небо, и засмеялся – так, как умеют только Мудрейшие. Это было прекрасно!
Тут в моё сознание ворвался крик соседки: «Мурашкин! Матери плохо опять!». Обычно подобные слова взрывались внутри меня приступом ужаса, и мой Страх потерять ближних разбухал на всю катушку, а я стремительно мчался домой, дать маме таблетку…
Но не теперь. Я не двинулся. Я отчётливо понимал, что происходит, но Страх за ближнего молчал. В глубине души я хотел рвать на себе волосы, но весь ужас из меня выбило напрочь. Я покачивался на заборе и безмятежно улыбался. В теле пело чувство грандиозной свободы и одна-единственная мысль, что теперь мне всё по барабану.
А зачем бояться? Жизнь – всего лишь миг…
Соседка сначала смотрела на меня с недоумением, может, думала, что я не расслышал… А потом, видимо, всё поняла. Она выпучила глаза и попятилась в темноту, глядя на меня, как на нового страшилу. И тут я ослепительно ясно осознал смысл одного из древних афоризмов: «Монстры не имеют страха».
Это осознание ударило меня наотмашь, и я с криком полетел на страхамни. Сердце тарабанило. Страх высоты…
На меня стремительной волной накатывали ощущения жизни – Страх ранений от разбитых ладоней, Страх пауков, сидящих в темноте и… Страх за ближнего. Я вскочил на ноги и пулей рванул в дом.
К маме! Таблетку! Запить! Быстро!
Руки у меня тряслись, а за спиной болтался огромный подарок Пугли. Это был Страх потерять страх. Звучит смешно, но мне было не до смеха! Я так боялся снова впасть в это состояние полной безмятежности, так боялся!
Фобиарцы с первых дней жизни мечтают избавиться от всех страхов, а я был чудовищно рад, что теперь боюсь этой мечты. Я всегда ненавидел свои страхи, а этот Страх я вдруг полюбил и был ему благодарен. Любить свой страх, – о, силы Вселенские! Это было до боли странное чувство… И до слёз живое… Страх – не кара небесная, он помогает жить, любить, ценить – вот, что я тогда понял!
Но это уже не важно. Важно, что мама жива-здорова.
И, может быть, не только Мудрейшие бывают счастливыми?..
Одиночий Мурашкин,
15 лет
Крылова Виктория. Немоша
Стоял теплый летний вечер. Солнце медленно, словно нехотя, садилось за горизонт, заливая оранжевым светом широкие поля около небольшой деревушки. От реки, которая пробегала под мостиком, шла прохлада.
Ребятня, радуясь каникулам, гуляла допоздна: кто играл в городки, кто в футбол, а кто, как Женя и его деревенский друг Митька, собирались на поиски приключений. Зачем же еще ехать в деревню к бабушке, как не за приключениями?
Солнце наконец село, на угасающем небе выступили редкие звезды, и друзья отправились к опушке леса, от которого тянуло сырым запахом молодых листьев и травы. Инициатором такого похода был Митька, убедивший Женю поискать на опушке светлячков. Женя, который вырос в городе и в глаза не видел этих самых светлячков, идею друга поддержал.
Мальчишки шли по дороге, ведущей в гору, мимо высоких полевых трав, тонких паутин на чертополохе. Вдали темнел лес, шумел кронами деревьев. Женя бодрился, не подавал виду, но чувствовал, что чем дальше они продвигаются вперед, тем меньше ему хочется искать светлячков. Как назло, днем Митька стращал его рассказами о лешем, который путает грибников и кричит, как сова. Сейчас же друг решительно шагал к лесу и, казалось, был абсолютно спокоен.
— Я в прошлом году одного светлячка в банку посадил. Крышку сверху сделал с дыркой. Так он по ночам светился. У него брюшко светится, понял? Потом выпустил, конечно…
Вдруг в кустах, мимо которых проходили друзья, что-то тихонько хрустнуло, но этого хватило, чтобы Женя и Митька разом остановились и поглядели друг на друга. До леса оставалось несколько метров, но Женя почувствовал, что идти ему туда совсем не хочется.
— Слушай, может, ну их, этих светлячков? Давай лучше завтра утром поищем?
— Их утром не найти. Они же светятся в темноте. А утром светло! — разъяснил Митька и вдруг прищурился: — А ты что, струсил, да?
— Да ничего я не струсил. Просто темно. Бабушка будет волноваться…
— Бабушка! Так и скажи, что струсил! Лешего боишься?
— Никакого лешего я не боюсь! Это всё…
Тут в кустах раздался новый хруст, и друзья, забыв про спор и визжа на всё поле, помчались в сторону деревни так, что только пятки засверкали.
Дом Жениной бабушки стоял почти на краю деревни. Галина Сергеевна, дожидаясь внука, ставила на плиту чайник. Услышав «Бабушка!», она выскочила на крыльцо и встретилась с запыхавшимися Женей и Митькой.
— Бабушка, там этот!.. Ну, тот…
— Кто? — Галина Сергеевна переводила испуганный взгляд то на Женьку, то на Митьку. — Да говорите же, что случилось?! Кого вы увидали?
— Леший! — выпалил Митька. — Леший в кустах!
— Ох, ты ж, Господи! Я-то подумала, медведя увидели… Леший, — с облегчением сказала бабушка. — Нет там никакого лешего.
— А кто тогда шуршал в кустах? — недоверчиво спросил Женя.
— Да птица какая-нибудь ночная. А вы зачем в лес пошли?
— Хотели на опушке светлячков найти.
— За светлячками необязательно в лес ходить. Вон у нас в саду можно поискать. Ладно, идите на веранду чай пить. Руки только сперва вымойте.
Выполнив требование бабушки, друзья пришли и уселись на веранде за стол, на котором стоял ужин: оладьи, вишнёвое варенье, сметана и чай. Однако, угощаясь, мальчишки никак не могли забыть своё приключение и продолжали делиться впечатлениями.
— Ну, ты и сиганул! — сказал Митька, отхлёбывая чай. — Стометровку сдашь, будь здоров!
— Я сиганул? — Женька даже слегка обиделся. — Да ты впереди меня бежал! Или забыл? Сам-то, видно, не меньше боишься.
— Я боюсь нечести всякой. В жабу ещё превратят… — сознался Митька. — Галина Сергеевна, а вы чего боялись в детстве?
— Я? Ой, ну тоже нечестии всякой. В сказки я верила, много читала их в детстве. Помню, старик у нас в деревне жил — мне тогда лет шесть было — так я считала, что он колдун. Ну, не только я, конечно. Мы все, ребятишки, его боялись.
— Бабуль, а почему ты мне об этом не рассказывала? — спросил Женя.
— А ты и не спрашивал, — рассмеялась Галина Сергеевна.
— Сейчас расскажи!
— Да вы ешьте… Налить еще чаю?
— Бабуль, рассказывай…
— Ну, ладно… Я в детстве тоже была еще та фантазёрка. Книжки любила, особенно сказки. В детстве я считала, что красивый — значит добрый, страшный — значит злой. А у нас в деревне жил старик, его Немошей звали. То ли он родился немым, то ли потом таким сделался — мы, ребятишки, не знали, но никто не слышал, чтобы Немоша разговаривал. У него были седые лохматые волосы и такая же седая, торчащая в разные стороны борода. И одевался он всегда в одно и то же: старая фуфайка, вся в заплатках, темные штаны и кирзовые сапоги, которые он носил круглый год. Притом рост у него был немаленький, да и сам старик был жилистый, крепкий. Его даже некоторые мужики у нас в деревне побаивались. Ну, а про нас, ребятню, что говорить? Но храбрились! Бывало, соберёмся около его дома и кричим: «Немоша! Немоша!» — и палками по палисаднику ему стучим. У Немоши собачонка была заливистая. Мы палками, а она лает, аж, до хрипоты. Нам смешно, мы еще больше стараемся! Немоша выскочит на улицу, сердитый, сам тоже с палкой! Мычит громче обычного, значит, ругается! Мы думали, что заклинания читает…
— Как в «Гарри Поттере»? — перебил Женя.
— Тогда никакого Поттера вашего еще в помине не было.
— Зачем ты перебиваешь? — буркнул Митька. — Там, наверное, заклинания пострашней будут, чем «Левиоса́».
— «Левио́са»! — поправил Женя. — Бабуль, давай дальше.
— Один раз после вот такой нашей выходки гроза была сильная. Кое-где деревья поломало и в огороде овощи градом побило. Так мы решили, что это Немоша рассердился на нас и наслал на всех проклятье.
— Ничего себе, — Митька даже рот от удивления открыл.
— В общем, боялись мы Немошу. Как-то мама отправила меня в магазин за солью. По дороге я Лёньку Серохвостова встретила…
— Это нашего дедушку? — снова перебил Женя.
— Да, — рассмеялась бабушка, — дедушку твоего. Когда мы шли назад, за нами увязалась стая бродячих собак. Был среди них Лютый — злой пёс, который чем-то на волка был похож. Одно ухо у него было прострелено. Его все боялись, потому и звали Лютым. Говорят, хозяин его бил, оттого Лютый и стал таким злым, никому прохода не давал. А теперь, значит, он у нас на пути стоял. И не один. Мы с Лёнькой бочком, бочком, а собаки за нами. Не выдержали мы и побежали. И Лютый со всей стаей следом! На улице, как назло, ни души. Лёнька тут как закричит: «Помогите!» Бежим мы и думаем, что разорвёт нас Лютый. И тут вдруг — Немоша! Выскочил из ворот, а в руках у него палка. Мычит на собак да так, что те аж попятились. Немоша толкнул нас к себе во двор, собак отогнал.
— Так вы во двор к колдуну попали? — Женя давно перестал есть и, затаив дыхание, слушал бабушку.
— Да никакой он не колдун был, — рассмеялась Галина Сергеевна, — самый обычный человек. Он нас потом до дома проводил, а мы родителям рассказали и другим ребятишкам, как нас Немоша спас. Больше его никто не дразнил, а звали по имени-отчеству. Он ведь, по правде-то, Иваном Фёдоровичем звался. Вот так! Человек, которого я считала злодеем, оказался героем. Да вы ешьте, ешьте, а то чай остынет… Спать скоро надо ложиться, хватит на сегодня историй.
— Нет, мы теперь по кругу пойдем, — сказал Митька. — Женька, твоя очередь! Расскажи нам про свой страх.
— Я ничего не боюсь, — твёрдо сказал Женя.
В это время от соседей вернулся дедушка Жени. Невольно подслушав их разговор, он решил подколоть внука: подкрался сзади и выключил свет. На весь дом раздался Женькин визг…
Стоял теплый летний вечер. Солнце медленно, словно нехотя, садилось за горизонт, заливая оранжевым светом широкие поля около небольшой деревушки. От реки, которая пробегала под мостиком, шла прохлада.
Ребятня, радуясь каникулам, гуляла допоздна: кто играл в городки, кто в футбол, а кто, как Женя и его деревенский друг Митька, собирались на поиски приключений. Зачем же еще ехать в деревню к бабушке, как не за приключениями?
Солнце наконец село, на угасающем небе выступили редкие звезды, и друзья отправились к опушке леса, от которого тянуло сырым запахом молодых листьев и травы. Инициатором такого похода был Митька, убедивший Женю поискать на опушке светлячков. Женя, который вырос в городе и в глаза не видел этих самых светлячков, идею друга поддержал.
Мальчишки шли по дороге, ведущей в гору, мимо высоких полевых трав, тонких паутин на чертополохе. Вдали темнел лес, шумел кронами деревьев. Женя бодрился, не подавал виду, но чувствовал, что чем дальше они продвигаются вперед, тем меньше ему хочется искать светлячков. Как назло, днем Митька стращал его рассказами о лешем, который путает грибников и кричит, как сова. Сейчас же друг решительно шагал к лесу и, казалось, был абсолютно спокоен.
— Я в прошлом году одного светлячка в банку посадил. Крышку сверху сделал с дыркой. Так он по ночам светился. У него брюшко светится, понял? Потом выпустил, конечно…
Вдруг в кустах, мимо которых проходили друзья, что-то тихонько хрустнуло, но этого хватило, чтобы Женя и Митька разом остановились и поглядели друг на друга. До леса оставалось несколько метров, но Женя почувствовал, что идти ему туда совсем не хочется.
— Слушай, может, ну их, этих светлячков? Давай лучше завтра утром поищем?
— Их утром не найти. Они же светятся в темноте. А утром светло! — разъяснил Митька и вдруг прищурился: — А ты что, струсил, да?
— Да ничего я не струсил. Просто темно. Бабушка будет волноваться…
— Бабушка! Так и скажи, что струсил! Лешего боишься?
— Никакого лешего я не боюсь! Это всё…
Тут в кустах раздался новый хруст, и друзья, забыв про спор и визжа на всё поле, помчались в сторону деревни так, что только пятки засверкали.
Дом Жениной бабушки стоял почти на краю деревни. Галина Сергеевна, дожидаясь внука, ставила на плиту чайник. Услышав «Бабушка!», она выскочила на крыльцо и встретилась с запыхавшимися Женей и Митькой.
— Бабушка, там этот!.. Ну, тот…
— Кто? — Галина Сергеевна переводила испуганный взгляд то на Женьку, то на Митьку. — Да говорите же, что случилось?! Кого вы увидали?
— Леший! — выпалил Митька. — Леший в кустах!
— Ох, ты ж, Господи! Я-то подумала, медведя увидели… Леший, — с облегчением сказала бабушка. — Нет там никакого лешего.
— А кто тогда шуршал в кустах? — недоверчиво спросил Женя.
— Да птица какая-нибудь ночная. А вы зачем в лес пошли?
— Хотели на опушке светлячков найти.
— За светлячками необязательно в лес ходить. Вон у нас в саду можно поискать. Ладно, идите на веранду чай пить. Руки только сперва вымойте.
Выполнив требование бабушки, друзья пришли и уселись на веранде за стол, на котором стоял ужин: оладьи, вишнёвое варенье, сметана и чай. Однако, угощаясь, мальчишки никак не могли забыть своё приключение и продолжали делиться впечатлениями.
— Ну, ты и сиганул! — сказал Митька, отхлёбывая чай. — Стометровку сдашь, будь здоров!
— Я сиганул? — Женька даже слегка обиделся. — Да ты впереди меня бежал! Или забыл? Сам-то, видно, не меньше боишься.
— Я боюсь нечести всякой. В жабу ещё превратят… — сознался Митька. — Галина Сергеевна, а вы чего боялись в детстве?
— Я? Ой, ну тоже нечестии всякой. В сказки я верила, много читала их в детстве. Помню, старик у нас в деревне жил — мне тогда лет шесть было — так я считала, что он колдун. Ну, не только я, конечно. Мы все, ребятишки, его боялись.
— Бабуль, а почему ты мне об этом не рассказывала? — спросил Женя.
— А ты и не спрашивал, — рассмеялась Галина Сергеевна.
— Сейчас расскажи!
— Да вы ешьте… Налить еще чаю?
— Бабуль, рассказывай…
— Ну, ладно… Я в детстве тоже была еще та фантазёрка. Книжки любила, особенно сказки. В детстве я считала, что красивый — значит добрый, страшный — значит злой. А у нас в деревне жил старик, его Немошей звали. То ли он родился немым, то ли потом таким сделался — мы, ребятишки, не знали, но никто не слышал, чтобы Немоша разговаривал. У него были седые лохматые волосы и такая же седая, торчащая в разные стороны борода. И одевался он всегда в одно и то же: старая фуфайка, вся в заплатках, темные штаны и кирзовые сапоги, которые он носил круглый год. Притом рост у него был немаленький, да и сам старик был жилистый, крепкий. Его даже некоторые мужики у нас в деревне побаивались. Ну, а про нас, ребятню, что говорить? Но храбрились! Бывало, соберёмся около его дома и кричим: «Немоша! Немоша!» — и палками по палисаднику ему стучим. У Немоши собачонка была заливистая. Мы палками, а она лает, аж, до хрипоты. Нам смешно, мы еще больше стараемся! Немоша выскочит на улицу, сердитый, сам тоже с палкой! Мычит громче обычного, значит, ругается! Мы думали, что заклинания читает…
— Как в «Гарри Поттере»? — перебил Женя.
— Тогда никакого Поттера вашего еще в помине не было.
— Зачем ты перебиваешь? — буркнул Митька. — Там, наверное, заклинания пострашней будут, чем «Левиоса́».
— «Левио́са»! — поправил Женя. — Бабуль, давай дальше.
— Один раз после вот такой нашей выходки гроза была сильная. Кое-где деревья поломало и в огороде овощи градом побило. Так мы решили, что это Немоша рассердился на нас и наслал на всех проклятье.
— Ничего себе, — Митька даже рот от удивления открыл.
— В общем, боялись мы Немошу. Как-то мама отправила меня в магазин за солью. По дороге я Лёньку Серохвостова встретила…
— Это нашего дедушку? — снова перебил Женя.
— Да, — рассмеялась бабушка, — дедушку твоего. Когда мы шли назад, за нами увязалась стая бродячих собак. Был среди них Лютый — злой пёс, который чем-то на волка был похож. Одно ухо у него было прострелено. Его все боялись, потому и звали Лютым. Говорят, хозяин его бил, оттого Лютый и стал таким злым, никому прохода не давал. А теперь, значит, он у нас на пути стоял. И не один. Мы с Лёнькой бочком, бочком, а собаки за нами. Не выдержали мы и побежали. И Лютый со всей стаей следом! На улице, как назло, ни души. Лёнька тут как закричит: «Помогите!» Бежим мы и думаем, что разорвёт нас Лютый. И тут вдруг — Немоша! Выскочил из ворот, а в руках у него палка. Мычит на собак да так, что те аж попятились. Немоша толкнул нас к себе во двор, собак отогнал.
— Так вы во двор к колдуну попали? — Женя давно перестал есть и, затаив дыхание, слушал бабушку.
— Да никакой он не колдун был, — рассмеялась Галина Сергеевна, — самый обычный человек. Он нас потом до дома проводил, а мы родителям рассказали и другим ребятишкам, как нас Немоша спас. Больше его никто не дразнил, а звали по имени-отчеству. Он ведь, по правде-то, Иваном Фёдоровичем звался. Вот так! Человек, которого я считала злодеем, оказался героем. Да вы ешьте, ешьте, а то чай остынет… Спать скоро надо ложиться, хватит на сегодня историй.
— Нет, мы теперь по кругу пойдем, — сказал Митька. — Женька, твоя очередь! Расскажи нам про свой страх.
— Я ничего не боюсь, — твёрдо сказал Женя.
В это время от соседей вернулся дедушка Жени. Невольно подслушав их разговор, он решил подколоть внука: подкрался сзади и выключил свет. На весь дом раздался Женькин визг…
Федорова Диана. Сад памяти
Лопата звякнула, ударившись обо что-то твёрдое. Димка разгрёб землю и хмыкнул: это была бутылка из темного толстого стекла.
— Что там? — Соня держала в руках саженец сирени.
— Мусор какой-то, — буркнул Димка. — По ходу, бутылка. Сейчас я ее… — он достал лопатой бутылку и отбросил в сторону.
— Может, это капсула времени? — хохотнула Соня. — Дай посмотрю.
— Да ладно, потом посмотришь, — Димка никогда не отличался терпением, — смотри, все уже заканчивают, а ты с ней возишься!
Соня смахнула влажную землю с бутылки и изучающе принялась разглядывать ее содержимое.
— А там что-то есть… Какая-то бумага. Тут горлышко пробкой заткнули, чтобы она не испортилась.
— Что, реально капсула времени? — Димка всадил лопату в землю и подошел поближе, чтобы рассмотреть находку. — Надо Тамару Фёдоровну позвать. Пусть вскрывает, она же историк. Это по её части.
Но Тамара Фёдоровна уже сама шла к ним, обратив внимание, что саженец Сони и Димки до сих пор не присоединился к акции «Сад Памяти» в честь годовщины Победы.
— Ребят, давайте побыстрее, нам еще надо сделать общее фото.
— Тамара Фёдоровна, тут капсула времени, — сообщила Соня. — Там внутри какое-то послание. Видите? — девушка повертела бутылку перед глазами учительницы.
— Вижу. Ну, тогда заканчивайте с сиренью, потом сделаем общее фото. А потом вскроем бутылку. Договорились?
— Давайте только все вместе, — Димка вдруг почувствовал интерес к содержимому находки.
После, когда весь 9-й «А» собрался вокруг Тамары Фёдоровны и она держала в руках уже отмытую от земли «капсулу времени», Димка всем рассказывал, что это именно он нашёл бутылку с посланием.
— А прикиньте, если там карта? Может, еще сокровища на физкультуре пойдем искать! — фантазировал Димка.
Осторожно вытащив разбухшую от влаги пробку, Тамара Фёдоровна извлекла на свет чуть пожелтевшую от времени бумагу. Учительница бережно развернула ее.
— Действительно, капсула времени… Сейчас прочитаю… Сегодня мы, выпускники 10 «А» класса, покидаем нашу любимую школу. Я, Миронова Настя, торжественно обещаю поступить в медицинское училище и закончить его с отличием. Я, Федотов Борис, торжественно клянусь стать лётчиком и служить во славу Советского Союза. Также мы клянёмся встретиться на этом месте через десять лет, чтобы сказать друг другу самое главное… Подпись… Миронова Анастасия Андреевна, Федотов Борис Захарович… 18 июня 1941 года…
— Ого, какое древнее послание! — выпалил Димка. — Я только одного Бориса Захаровича знаю.
— Я тоже, — отозвалась Тамара Фёдоровна.
— Это же наш ветеран, — сказала Соня. — Мы его летом ходили поздравлять с юбилеем. Помнишь, Катя?
— Конечно, помню, — кивнула староста класса. — Девяносто лет…
— Ну, про Бориса Захаровича мы знаем. А где эта Настя Миронова? — полюбопытствовал Димка. — Вы не знаете, Тамара Фёдоровна?
— Мироновы у нас жили давно. Последняя бабушка Пелагея была. Она уже давно умерла. Сейчас из них никого не осталось… Так, знаете что, ребята, давайте вместе сходим к Борису Захаровичу и расскажем ему про это письмо, расспросим, договорились?
— Договорились!
… Борис Захарович по привычке сидел в глубоком, провалившемся кресле. Для своих лет он держался довольно бодро. Поджав губы, ветеран Великой Отечественной выцветшим взглядом блуждал поверх макушек ребят, которые вместе с Тамарой Фёдоровной пришли послушать его рассказ. В руках Борис Захарович держал то самое послание, написанное им много лет назад.
— Нам часто говорят, что время лечит, — начал старик. — Но это не так. Время учит жить с болью. И учит нас с ней справляться… Мы с Настей тогда были очень молоды, только школу закончили. Тогда, как сейчас, парни с девчонками не обнимались… Как-то скромнее мы были. А я так вообще робел всегда. В школе про нас с Настей говорили, что мы парочка, — при этих словах Борис Захарович улыбнулся. — Я тоже так считал. Но всё равно стеснялся… Помню, глаза у Насти были голубые… две косы, длинные-предлинные. Она на меня посмотрит, засмеётся, а я краснею как рак… У нас даже место для свиданий своё было. Возле речки с ней гуляли… Я всё представлял, как однажды мы с ней поженимся, и здесь, у речки, будут наши ребятишки бегать… А тут выпускной. Она и говорит: «Боря, мы с тобой сейчас разъедемся. Давай напишем послание и закопаем за школой? А через десять лет на этом же месте встретимся, откопаем и скажем друг другу то, что уже давно пора сказать». Я сейчас думаю, что надо было тогда ей во всём признаться, ведь десять лет – это много. Но я опять растерялся. Согласился на ее предложение… Разве мы тогда могли знать, как всё обернётся?..
— А потом сразу война началась? — спросил Димка.
— Война. Я в танковом девять месяцев пробыл, оттуда — на фронт. Вот ведь… Хотел лётчиком, но война все планы спутала.
— А Настя? — не выдержала Соня.
— Медсестрой пошла. Мы с ней разминулись, но связь держали. Она мне всё писала. Несколько писем сохранилось. Я их никому не показывал… Теперь, видно, время пришло… Поначалу она мне часто писала. Вспоминали с ней и про речку, и про свидания... А в 43-м на Курской меня ранило. С осколком в ноге и контузией в госпитале пролежал. Написал Насте, но ответа не получил. А потом от матери мне пришло письмо, что в медсанчасть, где Настя работала, прилетела бомба… — Борис Захарович замолчал. — Так вот, ребятки…
Девятиклассники молчали. Тамара Фёдоровна едва сдерживала слёзы, следя за тем, как дрожащими от волнения руками ветеран теребит листок с посланием. Борис Захарович поднял глаза и устремил взгляд в угол, где над комодом в деревянной рамке висела старая, выцветшая от времени фотография выпуска 41-го года. Из-под тонкого стекла на Бориса Захаровича задорно глядели милые сердцу глаза.
— До Берлина я не дошел. На Днепре меня ранило второй раз. После этого комиссовали. Так что победу я встречал уже дома.
— Вы так и не женились? — с огорчением спросила Соня.
— Нет, — глухо отозвался Борис Захарович.
Соня вздохнула и представила себе тихую речонку и молодого Бориса Захаровича, одиноко сидящего около березки спустя десять лет. В ожидании той девушки, которая никогда не придёт.
… Тамара Фёдоровна вывела пятиклассников на экскурсию. Ребята шли по асфальтированной дорожке мимо цветущих под майским солнцем молодых яблонь и кустов сирени. За пять лет здесь раскинулся Сад Памяти.
— Это яблоня посажена в честь детей блокадного Ленинграда, которые жили в детском доме в нашем районном центре… А вон та яблоня в память о тех, кто не вернулся с войны… А этот куст сирени, — Тамара Фёдоровна остановилась, — у него очень интересная история. Это куст Насти и Бориса. Я вам сейчас о нём расскажу…
Лопата звякнула, ударившись обо что-то твёрдое. Димка разгрёб землю и хмыкнул: это была бутылка из темного толстого стекла.
— Что там? — Соня держала в руках саженец сирени.
— Мусор какой-то, — буркнул Димка. — По ходу, бутылка. Сейчас я ее… — он достал лопатой бутылку и отбросил в сторону.
— Может, это капсула времени? — хохотнула Соня. — Дай посмотрю.
— Да ладно, потом посмотришь, — Димка никогда не отличался терпением, — смотри, все уже заканчивают, а ты с ней возишься!
Соня смахнула влажную землю с бутылки и изучающе принялась разглядывать ее содержимое.
— А там что-то есть… Какая-то бумага. Тут горлышко пробкой заткнули, чтобы она не испортилась.
— Что, реально капсула времени? — Димка всадил лопату в землю и подошел поближе, чтобы рассмотреть находку. — Надо Тамару Фёдоровну позвать. Пусть вскрывает, она же историк. Это по её части.
Но Тамара Фёдоровна уже сама шла к ним, обратив внимание, что саженец Сони и Димки до сих пор не присоединился к акции «Сад Памяти» в честь годовщины Победы.
— Ребят, давайте побыстрее, нам еще надо сделать общее фото.
— Тамара Фёдоровна, тут капсула времени, — сообщила Соня. — Там внутри какое-то послание. Видите? — девушка повертела бутылку перед глазами учительницы.
— Вижу. Ну, тогда заканчивайте с сиренью, потом сделаем общее фото. А потом вскроем бутылку. Договорились?
— Давайте только все вместе, — Димка вдруг почувствовал интерес к содержимому находки.
После, когда весь 9-й «А» собрался вокруг Тамары Фёдоровны и она держала в руках уже отмытую от земли «капсулу времени», Димка всем рассказывал, что это именно он нашёл бутылку с посланием.
— А прикиньте, если там карта? Может, еще сокровища на физкультуре пойдем искать! — фантазировал Димка.
Осторожно вытащив разбухшую от влаги пробку, Тамара Фёдоровна извлекла на свет чуть пожелтевшую от времени бумагу. Учительница бережно развернула ее.
— Действительно, капсула времени… Сейчас прочитаю… Сегодня мы, выпускники 10 «А» класса, покидаем нашу любимую школу. Я, Миронова Настя, торжественно обещаю поступить в медицинское училище и закончить его с отличием. Я, Федотов Борис, торжественно клянусь стать лётчиком и служить во славу Советского Союза. Также мы клянёмся встретиться на этом месте через десять лет, чтобы сказать друг другу самое главное… Подпись… Миронова Анастасия Андреевна, Федотов Борис Захарович… 18 июня 1941 года…
— Ого, какое древнее послание! — выпалил Димка. — Я только одного Бориса Захаровича знаю.
— Я тоже, — отозвалась Тамара Фёдоровна.
— Это же наш ветеран, — сказала Соня. — Мы его летом ходили поздравлять с юбилеем. Помнишь, Катя?
— Конечно, помню, — кивнула староста класса. — Девяносто лет…
— Ну, про Бориса Захаровича мы знаем. А где эта Настя Миронова? — полюбопытствовал Димка. — Вы не знаете, Тамара Фёдоровна?
— Мироновы у нас жили давно. Последняя бабушка Пелагея была. Она уже давно умерла. Сейчас из них никого не осталось… Так, знаете что, ребята, давайте вместе сходим к Борису Захаровичу и расскажем ему про это письмо, расспросим, договорились?
— Договорились!
… Борис Захарович по привычке сидел в глубоком, провалившемся кресле. Для своих лет он держался довольно бодро. Поджав губы, ветеран Великой Отечественной выцветшим взглядом блуждал поверх макушек ребят, которые вместе с Тамарой Фёдоровной пришли послушать его рассказ. В руках Борис Захарович держал то самое послание, написанное им много лет назад.
— Нам часто говорят, что время лечит, — начал старик. — Но это не так. Время учит жить с болью. И учит нас с ней справляться… Мы с Настей тогда были очень молоды, только школу закончили. Тогда, как сейчас, парни с девчонками не обнимались… Как-то скромнее мы были. А я так вообще робел всегда. В школе про нас с Настей говорили, что мы парочка, — при этих словах Борис Захарович улыбнулся. — Я тоже так считал. Но всё равно стеснялся… Помню, глаза у Насти были голубые… две косы, длинные-предлинные. Она на меня посмотрит, засмеётся, а я краснею как рак… У нас даже место для свиданий своё было. Возле речки с ней гуляли… Я всё представлял, как однажды мы с ней поженимся, и здесь, у речки, будут наши ребятишки бегать… А тут выпускной. Она и говорит: «Боря, мы с тобой сейчас разъедемся. Давай напишем послание и закопаем за школой? А через десять лет на этом же месте встретимся, откопаем и скажем друг другу то, что уже давно пора сказать». Я сейчас думаю, что надо было тогда ей во всём признаться, ведь десять лет – это много. Но я опять растерялся. Согласился на ее предложение… Разве мы тогда могли знать, как всё обернётся?..
— А потом сразу война началась? — спросил Димка.
— Война. Я в танковом девять месяцев пробыл, оттуда — на фронт. Вот ведь… Хотел лётчиком, но война все планы спутала.
— А Настя? — не выдержала Соня.
— Медсестрой пошла. Мы с ней разминулись, но связь держали. Она мне всё писала. Несколько писем сохранилось. Я их никому не показывал… Теперь, видно, время пришло… Поначалу она мне часто писала. Вспоминали с ней и про речку, и про свидания... А в 43-м на Курской меня ранило. С осколком в ноге и контузией в госпитале пролежал. Написал Насте, но ответа не получил. А потом от матери мне пришло письмо, что в медсанчасть, где Настя работала, прилетела бомба… — Борис Захарович замолчал. — Так вот, ребятки…
Девятиклассники молчали. Тамара Фёдоровна едва сдерживала слёзы, следя за тем, как дрожащими от волнения руками ветеран теребит листок с посланием. Борис Захарович поднял глаза и устремил взгляд в угол, где над комодом в деревянной рамке висела старая, выцветшая от времени фотография выпуска 41-го года. Из-под тонкого стекла на Бориса Захаровича задорно глядели милые сердцу глаза.
— До Берлина я не дошел. На Днепре меня ранило второй раз. После этого комиссовали. Так что победу я встречал уже дома.
— Вы так и не женились? — с огорчением спросила Соня.
— Нет, — глухо отозвался Борис Захарович.
Соня вздохнула и представила себе тихую речонку и молодого Бориса Захаровича, одиноко сидящего около березки спустя десять лет. В ожидании той девушки, которая никогда не придёт.
… Тамара Фёдоровна вывела пятиклассников на экскурсию. Ребята шли по асфальтированной дорожке мимо цветущих под майским солнцем молодых яблонь и кустов сирени. За пять лет здесь раскинулся Сад Памяти.
— Это яблоня посажена в честь детей блокадного Ленинграда, которые жили в детском доме в нашем районном центре… А вон та яблоня в память о тех, кто не вернулся с войны… А этот куст сирени, — Тамара Фёдоровна остановилась, — у него очень интересная история. Это куст Насти и Бориса. Я вам сейчас о нём расскажу…
Бойко Роман. Сила - в единстве
Хвостик засохшей колбасы, корка чёрствого хлеба, 2 варёные картошины и пара ложек гречневой каши в разорванном целлофановом пакетике – всё это лежало скромной кучкой на лестничной площадке прямо около мусоропровода.
- Не могли побольше чего-нибудь просыпать, - проворчала старая крыса Шуршалья.
- Скажи спасибо, что хоть это досталось, - промяукала кошка Мурка.
- Конечно, тебе-то что? Тебя и так накормят, - огрызнулась Шуршалья. В силу своего возраста она могла себе позволить такое обращение со своенравной модницей-соседкой, которая давно уже не трогала её.
- Так что, друзья? Доброе утро! – поприветствовал всех спускавшийся по лестнице кот Борзян. – Начинаем наше утреннее заседание.
На протяжении уже нескольких лет кот Борзян занимал главенствующее положение во всём доме. Дом, правда, был небольшой, всего три этажа и девять квартир, однако авторитет кота это нисколько не подрывало, а напротив, даже укрепляло. Его уважали и побаивались все домашние питомцы, обитающие в доме: кошка Мурка, молодые коты-братья Пушистик и Мурзик, такса Валет и старый дворняга Фирс, и даже крыса Шуршалья, старая и наглая, и та боялась Борзяна. Понятно, что прозвище кота говорило всё само за себя. Толстый, пушистый, с немигающим взглядом, кот Борзян, однако, был ярым борцом за справедливость. Именно поэтому он взял на себя ответственную роль – делить пищевые отходы между остро нуждающимися соседями-животными. Вначале эту значимую должность кота назвали «заседатель», но так как Борзян жил в семье интеллигентных и образованных людей, где каждому слову уделялось большое значение, то и сам кот, прямо скажем, придрался к обозначению своей роли: ему не давала покоя приставка за-, которая, по его мнению, наполняла слово «заседатель» состоянием вечной невыполненности, рутинности и пребыванием в зоне «мёртвой точки». Коту было ближе слово «председатель»: приставка пред- импонировала Борзяну значением «впереди чего-то или кого-то», а наш герой привык во всём быть первым. Таким образом, для своих соседей Борзян был не просто котом, а председателем.
- Итак, - продолжил Борзян. – Очередное заседание по распределению продуктов разрешаю считать открытым. Он уселся поудобнее и расстелил по полу свой пушистый хвост.
- Ну я бы от колбаски не отказалась, - промурлыкала Мурка. – А остальное пусть Шуршалья забирает.
- Кто-то возражает? – спросил Борзян.
Воцарилась тишина.
- Что ж, - продолжил Борзян. – Единогласно.
- Ой, спасибо, спасибо, - глаза Шуршальи засверкали, а сама она начала быстро сгребать всю снедь в разорванный пакетик.
Кусочек колбаски исчез быстро: Мурка, поедая колбасные изделия, никогда не превращала этот процесс в ритуал. Остальные равнодушно наблюдали всю эту картину. Было особенно заметно, что есть пока что никому больше не хотелось.
- Там, кстати, пёс какой-то прибился, - промолвила Мурка. – По всей видимости, бездомный. Развалился во дворе…С прошлого вечера лежит.
- Может, с ним бы чем поделиться? – нерешительно спросил Фирс.
- Фиг ему! – окрысилась Шуршалья. – Лапы целы? Сам прокормится!
Кот Борзян обеспокоился. Мысль о незнакомой собаке, появившейся во дворе, словно жалом кольнула его в самое сердце. Однако показывать свой страх ему никак нельзя: он, Борзян, - кот бесстрашный, и пусть все продолжают так думать! Борзяну и того достаточно, что такса Валет и старый дворняга Фирс (двор-терьер, как тот сам себя называл) признали авторитет кота и ни в чём ему не перечили, а ведь процесс «покорения» был достаточно непрост.
- Наше собрание разрешите считать оконченным, - заторопился Борзян.
- Да как же? А новости обсудить? – заволновались Мурзик и Пушистик.
- Вам рано ещё новости обсуждать, - заявил Борзян. – Подрастите для начала.
Вскоре все разошлись. Борзян поспешил к своей двери и громко мяукнул. Хозяин открыл дверь, и кот вбежал в квартиру.
- Странно, - почесал затылок хозяин, наблюдая за котом. – И даже в кухню не зашёл…
Впрочем, он тут же позабыл о коте, потому что его самого ждал утренний кофе.
Борзян же вышел на балкон. Отсюда можно было увидеть весь двор и при этом остаться незамеченным…
Лохматый чёрный пёс лежал возле беседки. Он вёл себя спокойно и почти никак не реагировал на появление соседей. Пёс лежал и смотрел куда-то в сторону.
- Интересно, как долго он будет здесь пребывать? И получится ли у меня найти общий язык с ним? – размышлял Борзян.
В этот момент пёс повернул голову, и дворовый авторитет почувствовал невероятный ужас… Боже! Как он мог сразу не узнать его?? Это же Рей, страшное воспоминание нашего Борзяна… Кот осторожно пригибался всё ниже и ниже, ему хотелось стать невидимым, расплющиться и сравняться с балконными перилами, на которых он ещё минуту назад сидел, стараясь вернуть себе веру в собственную мощь…
Лето…Жаркое лето позапрошлого года… Тогда Борзян впервые оказался в деревне. Хозяин купил дачу, и кот должен был переловить всех мышей, поселившихся под старым домом. Это лето могло бы стать счастливым временем для Борзяна, потому что с полученным заданием бесстрашный кот справился достаточно успешно, за что его очень хвалил хозяин. Да и самого кота устраивал гонорар за выполненную работу: ежедневное парное молоко и свежая речная рыба. Льстило и уважение деревенских котов, признавших авторитет Борзяна, который, кстати, и подорвал этот злополучный Рей…
В то утро Рей вбежал во двор дачи. Глаза собаки лукаво блестели: пёс был молодой, и ему хотелось с кем-то поиграть. И тут он увидел Борзяна в окружении других котов. Борзян вёл очередное собрание по политинформации, а благодарные слушатели боялись пропустить хотя бы слово. Чудесная картина! Как тут пройти мимо? Рей побежал, коты застыли в ужасе, а Борзян пустился наутёк, с перепугу запрыгнул на берёзу, а потом долго не мог слезть…И этот кошачий позор наблюдали все деревенские коты…
Борзян зажмурился. Нет, этого позора ему никогда не забыть, а мысль о том, что о происшедшем могут узнать дворовые обитатели, была подобна смерти.
Весь день кот ничего не ел. Он долго и мучительно думал, не спал всю ночь, а утром всё-таки решился (будь что будет!) и вышел во двор. Рей продолжал лежать возле беседки. Возле него стояла чашка с водой. «Он, наверное, голодный», - подумал Борзян и сам себе удивился. Злость на собаку куда-то улетучилась… Кот подошёл ближе.
- Здорово, - сказал он. Внутри всё сжалось от страха, но выдавать себя никак было нельзя.
- Привет, - ответил Рей.
- Что лежим? Здесь, вообще-то, я главный, а мы до сих пор незнакомы.
Кот совсем осмелел.
- Я Рей. Бездомный я. Хозяева уехали, а меня оставили…, - пёс отвернулся.
- Да как же это? – засуетился Борзян. Ему совсем стало жалко Рея. Кот нервно заходил взад и вперёд. – Так, ты не отчаивайся, я что-нибудь придумаю. Да как это? Бросили! Совести у них нет! Им на нас молиться надо: что они без нас-то? Тьфу! Да ничто!
Борзян вбежал в подъезд. Все уже собрались на утреннюю делёжку. В центре лежали корки хлеба, кусочек сыра и куриные косточки.
- У меня есть предложение. Я предлагаю…, - начала Шуршалья, но Борзян не дал ей возможности продолжить.
- Тихо! – завопил он. – Кому-то это нужнее, а кто-то может и перебиться сегодня! Там, во дворе, лежит пёс. Бедняга давно не ел!
Все зашумели, одобряя решение Борзяна. И даже Шуршалья, схватив куриную косточку, побежала во двор, относя вкусняшку вновь прибывшему обитателю их двора. Благодарный Рей растрогался, и по щеке собаки покатилась сверкающая слеза. Слеза радости, ведь всегда приятно, что ты кому-то нужен и кто-то о тебе готов заботиться.
Но более всех был счастлив Борзян. Кот понял, какую грандиозную работу по сплочению дворового коллектива ему пришлось провести и как всё-таки непросто было подружить между собой таких разных соседей. Осознание своей значимости радовало и грело душу местного авторитета. К тому же, Рей не узнал его, а значит, и ему, Борзяну, можно смело забыть о том страшном дне.
«Ничего, - думал кот. – Всё будет хорошо. Сейчас нужно придумать, как уговорить хозяев забрать Рея жить к нам. Тогда и мне будет веселее, да и им, думаю, тоже. Подумаешь, не поспят до девяти в выходной день: это же всего раз в неделю».
А и вправду, это же здорово, когда рядом живут настоящие друзья? А вы задумывались над этим вопросом?
Хвостик засохшей колбасы, корка чёрствого хлеба, 2 варёные картошины и пара ложек гречневой каши в разорванном целлофановом пакетике – всё это лежало скромной кучкой на лестничной площадке прямо около мусоропровода.
- Не могли побольше чего-нибудь просыпать, - проворчала старая крыса Шуршалья.
- Скажи спасибо, что хоть это досталось, - промяукала кошка Мурка.
- Конечно, тебе-то что? Тебя и так накормят, - огрызнулась Шуршалья. В силу своего возраста она могла себе позволить такое обращение со своенравной модницей-соседкой, которая давно уже не трогала её.
- Так что, друзья? Доброе утро! – поприветствовал всех спускавшийся по лестнице кот Борзян. – Начинаем наше утреннее заседание.
На протяжении уже нескольких лет кот Борзян занимал главенствующее положение во всём доме. Дом, правда, был небольшой, всего три этажа и девять квартир, однако авторитет кота это нисколько не подрывало, а напротив, даже укрепляло. Его уважали и побаивались все домашние питомцы, обитающие в доме: кошка Мурка, молодые коты-братья Пушистик и Мурзик, такса Валет и старый дворняга Фирс, и даже крыса Шуршалья, старая и наглая, и та боялась Борзяна. Понятно, что прозвище кота говорило всё само за себя. Толстый, пушистый, с немигающим взглядом, кот Борзян, однако, был ярым борцом за справедливость. Именно поэтому он взял на себя ответственную роль – делить пищевые отходы между остро нуждающимися соседями-животными. Вначале эту значимую должность кота назвали «заседатель», но так как Борзян жил в семье интеллигентных и образованных людей, где каждому слову уделялось большое значение, то и сам кот, прямо скажем, придрался к обозначению своей роли: ему не давала покоя приставка за-, которая, по его мнению, наполняла слово «заседатель» состоянием вечной невыполненности, рутинности и пребыванием в зоне «мёртвой точки». Коту было ближе слово «председатель»: приставка пред- импонировала Борзяну значением «впереди чего-то или кого-то», а наш герой привык во всём быть первым. Таким образом, для своих соседей Борзян был не просто котом, а председателем.
- Итак, - продолжил Борзян. – Очередное заседание по распределению продуктов разрешаю считать открытым. Он уселся поудобнее и расстелил по полу свой пушистый хвост.
- Ну я бы от колбаски не отказалась, - промурлыкала Мурка. – А остальное пусть Шуршалья забирает.
- Кто-то возражает? – спросил Борзян.
Воцарилась тишина.
- Что ж, - продолжил Борзян. – Единогласно.
- Ой, спасибо, спасибо, - глаза Шуршальи засверкали, а сама она начала быстро сгребать всю снедь в разорванный пакетик.
Кусочек колбаски исчез быстро: Мурка, поедая колбасные изделия, никогда не превращала этот процесс в ритуал. Остальные равнодушно наблюдали всю эту картину. Было особенно заметно, что есть пока что никому больше не хотелось.
- Там, кстати, пёс какой-то прибился, - промолвила Мурка. – По всей видимости, бездомный. Развалился во дворе…С прошлого вечера лежит.
- Может, с ним бы чем поделиться? – нерешительно спросил Фирс.
- Фиг ему! – окрысилась Шуршалья. – Лапы целы? Сам прокормится!
Кот Борзян обеспокоился. Мысль о незнакомой собаке, появившейся во дворе, словно жалом кольнула его в самое сердце. Однако показывать свой страх ему никак нельзя: он, Борзян, - кот бесстрашный, и пусть все продолжают так думать! Борзяну и того достаточно, что такса Валет и старый дворняга Фирс (двор-терьер, как тот сам себя называл) признали авторитет кота и ни в чём ему не перечили, а ведь процесс «покорения» был достаточно непрост.
- Наше собрание разрешите считать оконченным, - заторопился Борзян.
- Да как же? А новости обсудить? – заволновались Мурзик и Пушистик.
- Вам рано ещё новости обсуждать, - заявил Борзян. – Подрастите для начала.
Вскоре все разошлись. Борзян поспешил к своей двери и громко мяукнул. Хозяин открыл дверь, и кот вбежал в квартиру.
- Странно, - почесал затылок хозяин, наблюдая за котом. – И даже в кухню не зашёл…
Впрочем, он тут же позабыл о коте, потому что его самого ждал утренний кофе.
Борзян же вышел на балкон. Отсюда можно было увидеть весь двор и при этом остаться незамеченным…
Лохматый чёрный пёс лежал возле беседки. Он вёл себя спокойно и почти никак не реагировал на появление соседей. Пёс лежал и смотрел куда-то в сторону.
- Интересно, как долго он будет здесь пребывать? И получится ли у меня найти общий язык с ним? – размышлял Борзян.
В этот момент пёс повернул голову, и дворовый авторитет почувствовал невероятный ужас… Боже! Как он мог сразу не узнать его?? Это же Рей, страшное воспоминание нашего Борзяна… Кот осторожно пригибался всё ниже и ниже, ему хотелось стать невидимым, расплющиться и сравняться с балконными перилами, на которых он ещё минуту назад сидел, стараясь вернуть себе веру в собственную мощь…
Лето…Жаркое лето позапрошлого года… Тогда Борзян впервые оказался в деревне. Хозяин купил дачу, и кот должен был переловить всех мышей, поселившихся под старым домом. Это лето могло бы стать счастливым временем для Борзяна, потому что с полученным заданием бесстрашный кот справился достаточно успешно, за что его очень хвалил хозяин. Да и самого кота устраивал гонорар за выполненную работу: ежедневное парное молоко и свежая речная рыба. Льстило и уважение деревенских котов, признавших авторитет Борзяна, который, кстати, и подорвал этот злополучный Рей…
В то утро Рей вбежал во двор дачи. Глаза собаки лукаво блестели: пёс был молодой, и ему хотелось с кем-то поиграть. И тут он увидел Борзяна в окружении других котов. Борзян вёл очередное собрание по политинформации, а благодарные слушатели боялись пропустить хотя бы слово. Чудесная картина! Как тут пройти мимо? Рей побежал, коты застыли в ужасе, а Борзян пустился наутёк, с перепугу запрыгнул на берёзу, а потом долго не мог слезть…И этот кошачий позор наблюдали все деревенские коты…
Борзян зажмурился. Нет, этого позора ему никогда не забыть, а мысль о том, что о происшедшем могут узнать дворовые обитатели, была подобна смерти.
Весь день кот ничего не ел. Он долго и мучительно думал, не спал всю ночь, а утром всё-таки решился (будь что будет!) и вышел во двор. Рей продолжал лежать возле беседки. Возле него стояла чашка с водой. «Он, наверное, голодный», - подумал Борзян и сам себе удивился. Злость на собаку куда-то улетучилась… Кот подошёл ближе.
- Здорово, - сказал он. Внутри всё сжалось от страха, но выдавать себя никак было нельзя.
- Привет, - ответил Рей.
- Что лежим? Здесь, вообще-то, я главный, а мы до сих пор незнакомы.
Кот совсем осмелел.
- Я Рей. Бездомный я. Хозяева уехали, а меня оставили…, - пёс отвернулся.
- Да как же это? – засуетился Борзян. Ему совсем стало жалко Рея. Кот нервно заходил взад и вперёд. – Так, ты не отчаивайся, я что-нибудь придумаю. Да как это? Бросили! Совести у них нет! Им на нас молиться надо: что они без нас-то? Тьфу! Да ничто!
Борзян вбежал в подъезд. Все уже собрались на утреннюю делёжку. В центре лежали корки хлеба, кусочек сыра и куриные косточки.
- У меня есть предложение. Я предлагаю…, - начала Шуршалья, но Борзян не дал ей возможности продолжить.
- Тихо! – завопил он. – Кому-то это нужнее, а кто-то может и перебиться сегодня! Там, во дворе, лежит пёс. Бедняга давно не ел!
Все зашумели, одобряя решение Борзяна. И даже Шуршалья, схватив куриную косточку, побежала во двор, относя вкусняшку вновь прибывшему обитателю их двора. Благодарный Рей растрогался, и по щеке собаки покатилась сверкающая слеза. Слеза радости, ведь всегда приятно, что ты кому-то нужен и кто-то о тебе готов заботиться.
Но более всех был счастлив Борзян. Кот понял, какую грандиозную работу по сплочению дворового коллектива ему пришлось провести и как всё-таки непросто было подружить между собой таких разных соседей. Осознание своей значимости радовало и грело душу местного авторитета. К тому же, Рей не узнал его, а значит, и ему, Борзяну, можно смело забыть о том страшном дне.
«Ничего, - думал кот. – Всё будет хорошо. Сейчас нужно придумать, как уговорить хозяев забрать Рея жить к нам. Тогда и мне будет веселее, да и им, думаю, тоже. Подумаешь, не поспят до девяти в выходной день: это же всего раз в неделю».
А и вправду, это же здорово, когда рядом живут настоящие друзья? А вы задумывались над этим вопросом?
Кабузенко Арина. Лето, ах, лето!
Весь учебный год с нетерпением ждёшь эти долгожданные летние каникулы, и вот наступает незабываемый день!..
Накануне возникла неразрешимая дилемма: рвануть спозаранку на речку ловить рыбу либо проспать до обеда, навёрстывая упущенное за год?
Всё оказалось гораздо проще – к нам приехал погостить дядя Серёжа. И не один. С ним прибыла его знаменитая сумка, именуемая «сидором». Эта потрёпанный предмет цвета «хаки» имел солидный вид. Годы, проведённые с дядей Серёжей, оставили на нём свой след. Дожди, снега, песок, слякоть и пыль российских дорог придали сидору особое очарование. Он был и попутчиком, и помощником, и другом дяди Серёжи. Ходят в народе побасёнки о бездонности дамских сумочек, в которых можно найти абсолютно всё. Так вот, женские сумочки – всего лишь бледная копия сидора моего любимого дяди Серёжи.
Вскрытие показало правоту теории относительности Эйнштейна. Относительно небольшая сумка вместила в себя бесконечность, которая состояла из десятков пакетов и пакетиков. Первым был изъят на свет фотоаппарат гигантских размеров, следом шли объективы к фотоаппарату – маленькие, большие и очень большие, широкоформатные и узкоформатные, дальнобойные и не очень. Всего их оказалось около десятка. Они были заложены в футлярчики и бережно упакованы заботливой рукой в пупырчатую пленку. Далее шли коробочки с блёснами, краболовка, гамак и котелок. По мере извлечения вещей комната стала напоминать торговый зал для туристов.
- Ну, что, Ариша, пойдём завтра на Скалистую сопку? Я ведь ждал твоих каникул, мне очень нужен попутчик и помощник.
В этот момент до меня дошло, что судьба всё решила за меня.
Скалистая сопка давно манила меня, но находилась далеко от села. А тут такой шанс! По рассказам дяди Серёжи, Скалистая якобы обладала особой, древней энергетикой и являлась чуть-ли не порталом в параллельные миры, так что идти туда одной было боязно. А вот с дядей Серёжей, который прошёл, по его словам, и Крым, и рым, я решилась.
Утром поднялись затемно. Подобного переполоха наша семья не знала давно. Мама готовила омлет и оладьи. По кухне плыл ароматный запах кофе. Полусонный отец бродил по квартире и, вспоминая каких-то японских полицейских, пытался помочь собрать в сидор все вещи, выложенные накануне вечером. И в этот раз Эйнштейн победил – влезло всё!
Осложняло дело наличие в доме четырех котов и пятой кошки Буси. Коты коварно подсовывали свои хвосты всем под ноги и выли дурниной, когда кто-нибудь наступал на них. Буся же облюбовала сумку и трижды с позором из неё была изгнана.
Одна из блёсен впилась отцу в пятку, и он наконец вспомнил, что японский полицейский – это всё же городовой.
Огромный рыжий котяра по имени Хвост попал в краболовку и, взвыв, попытался сбежать на улицу. Вы когда-нибудь видели, как зеленая краболовка с безумными глазами на рыжих мохнатых ножках, вереща и воя, пытается пролезть в дверной проем? Зрелище, скажу я вам, то ещё!
Резкий оклик нашей мамы положил конец вакханалии. Коты тут же исчезли, дядя Серёжа наконец-то выудил Хвоста из краболовки. Папа помирился с городовыми и больше их не поминал.
Позавтракав, мы с дядей Серёжей были готовы к дальней дороге.
Мой дядя – особый вид человечества, ещё не до конца исследованный учеными. Человек всё знающий и всё читающий. Внешний вид – вполне себе Homo sapiens: невысокого роста, слегка сутуловат, изрядно волосат и достаточно громогласен. В отличие от тела, голова была совершенно лысой. Дядю отличали безмерный оптимизм и всезнание, почерпнутое из журналов «Вокруг света», «Мир непознанного», «Загадки Вселенной» и «Мурзилка». Рождённый в деревне, дядя Серёжа был уверен, что знает, как развести костер, построить шалаш, наловить рыбы. Но знать и уметь – не одно и то же. Прожив в городе большую часть своей жизни, он всё ещё считал себя сельским жителем. Неуёмная страсть к познанию мира и огромная энергия этого человека бросали его из крайности в крайность.
Итак, под походную песню «Твои зеленые лосины» мы бодро шагали навстречу Истории. Красивейшие места окружали нас. Позеленевшие скалы издали манили своим великолепием. Река Бикин величественно и грозно шумела летним паводком. Поднявшись, река унесла с собой с берегов веточки, ряску и осыпавшиеся былинки. Вот в дубовом листочке, словно в ладье, мимо проплыл испуганный жучок. А вот – небольшая полёвка, смешно дёргая носиком, упивалась теплым воздухом. Внимательный взгляд разглядел бы на веточке плакучей ивы небольшое гнёздышко пичуги.
Выйдя на берег реки, дядя Сережа взорвался шлягером «Шёл отряд по берегу». Полёвка, оторопев от такой наглости, опешила, но после лихо шмыгнула в норку. За селом мир обезлюдел, и мы остались наедине с природой.
– Всё, Арина, привал. Собери хворост для костра, а я наберу водички для чая, – пробасил мой попутчик.
– Хорошо! Для меня набрать хворост не проблема.
Сухих веток вокруг много. Собирай – не ленись! Охапка получилась немаленькая, еле донесла до привала. На месте никого не оказалось, пришлось самой разводить костёр. Услышав у берега реки грустное завывание «чёрный ворон, ты не вейся над моею головой», вдруг ощутила, как меня охватывает тревожное предчувствие. Пошла на голос.
На берегу реки сидел дядя Серёжа, с грустью и болью смотрел он на воду.
– Аришка! Посмотри, как красиво! Хотел вот снять на фото. Удочки достал, фотоаппарат. Увлёкся я, Аришка, а сидор в воду… бульк. Унесло братана, утоп, бедолага!
Перспектива была нерадостная. Скоро стемнеет, похолодает. Будем голодать. Возвращаться не имело смысла, так как ушли довольно далеко.
Но природный оптимизм дяди Сережи наконец-то взял своё:
– Итак, план действий таков: костёр, сбор ягод для чая, – твёрдый голос вернул мне уверенность, может, ещё не всё потеряно.
Хорошо, что рядом рос куст боярышника, вдалеке виднелся шиповник, можно набрать прошлогодних ягод.
Рыбалкой, конечно, занялся старший. Наживка канула в Лету вместе с сидором, и дядя Серёжа, копая червей, причитал об их нелёгкой судьбе.
– Смотри, каков красавчик, жена, наверное, есть, детишки. А мы тебя за ухо и в воду, к рыбам на прокорм. Извини, браток, но и мы кушать хотим.
Скупая мужская слеза упала на ошалевшего червячка.
Первый заброс оказался неудачным. Червяк, не желая умирать ради нашего ужина, ухитрился сорваться с крючка. Крючок же, сделав в воздухе сальто, воткнулся в мою ветровку. Рывок был настолько резким и сильным, что я свалилась в воду. Бульк. Испугаться даже не успела. Увидев безумные глаза дяди Серёжи, я расхохоталась. Это были выпученные блюдца уфолога, встретившего гуманоида. Глина и вода стекали с меня, тина зацепилась за голову и свисала, как ухо спаниеля.
– Ну, ты, мать, и русалка, – сказал дядя.
Таёжные сопки эхом отразили наш смех.
Преодолев скользкий берег, я достигла твёрдой земли. Благо, костер бодренько потрескивал дровишками. Развесив сушиться одежду, я издали наблюдала за рыбалкой.
С каждым новым броском блесна летела уверенней и дальше. Наши шансы на уху становились выше. Дикий вой Чингачгука сообщил, что произошло нечто неординарное. Леска натянулась тетивой лука, удилище согнулось в дугу.
– Аришенька! Таймень, ей-богу, таймень! Здоровый, зараза.
Я подскочила к дяде Серёже. Действительно, клюнуло что-то очень крупное. Я прошептала:
– Теперь, главное, плавно подводите, не дергайте.
Руки дяди Серёжи тряслись от напряжения. Волновался он не меньше моего. Такая удача бывает раз в рыбацкой жизни. В воздухе отчетливо запахло ухой и шашлыком из тайменя.
Я рванула со всех ног за сачком. Рыбина поддавалась с трудом, но как-то очень вяло, не рвалась в стороны, не сопротивлялась, а покорно дрейфовала к берегу. Внезапно из воды вынырнул загубленный дядей Серёжей сидор. Блесна удачно зацепила его за лямку. Такого оборота не ожидала даже я. Сказать, что мы ошалели – не сказать ничего! Гробовое молчание отразилось в сопках Сихотэ-Алиня. Бросив удочку, дядя Серёжа с криком «Братан!» рванул к сидору. Прижав сумку к груди, он нёс ее, как боец раненного в бою товарища. Наше счастье было полным и окончательным.
Банка сайры заменила непойманного тайменя, но уха вышла на славу.
После чая дядя поведал мне о загадочном камне на краю скалы. Говорят, что это шаманский камень, портал в параллельный мир. Решено было после трапезы провести осмотр реликвии. Действительно, камень был необычен – похож на мельничный жёрнов с отверстием в центре. С годами палая листва, мусор и насекомые заполнили отверстие грунтом. И рос из этого отверстия молодой тополек. Новая жизнь и вечность камня. Красиво. Дядя Серёжа достал из кармана свою конструкцию, состоявшую из верёвочки и железки. Приблизил верёвочку к камню – и маятник стал колебаться в разные стороны. Камень обладал магнетизмом. Имеет силу. Интересно…
Ночью, сидя у палатки на берегу Бикина, прихлёбывая горячий чай, мы любовались красотой Млечного пути. Отражаясь в зыбкой воде реки, он, казалось, создавал новый, водный мир со своими звёздами и планетами. Птицы умолкли, тишина укутала Скалистую сопку.
Что-то очень глубокое и чистое проникало в душу, очищая от детских тревог и забот. Возможно, это сама Вселенная прикоснулась к тебе, открывая свои сокровенные тайны. Тишина и покой. Казалось, что я слышала, как растёт листочек соседней ивы, как поют звезды в глубинах Космоса. Любая козявочка, муравей или лягушонок становились для меня родными и близкими. Я понимала и любила их.
Сон пришёл незаметно. Жилистая рука дяди укутала меня пледом. Тепло. Интересно, а есть ли в самом деле портал в параллельный мир?
Утром бодрая и весёлая я окунулась в реке. Мир был прекрасен. Пичуга в ветвях ивы мне хитро подмигнула, я подмигнула ей в ответ. Теперь у нас есть свои секреты.
У палатки дядя Серёжа раздувал костер, напевая: «Не кочегары мы, не плотники». Хороший у меня дядька, как же, оказывается, я его люблю!
Сегодня днём мы еще порыбачим. Может быть, всё же выловим тайменя. Закончится день, и мы с дядей Серёжей возвратимся домой. К четырём котам и кошечке Бусе. К любимым родителям. И книгам. К ноутбуку и тик-току.
Вот только одна мысль не даёт мне покоя: где портал в параллельный мир?
Весь учебный год с нетерпением ждёшь эти долгожданные летние каникулы, и вот наступает незабываемый день!..
Накануне возникла неразрешимая дилемма: рвануть спозаранку на речку ловить рыбу либо проспать до обеда, навёрстывая упущенное за год?
Всё оказалось гораздо проще – к нам приехал погостить дядя Серёжа. И не один. С ним прибыла его знаменитая сумка, именуемая «сидором». Эта потрёпанный предмет цвета «хаки» имел солидный вид. Годы, проведённые с дядей Серёжей, оставили на нём свой след. Дожди, снега, песок, слякоть и пыль российских дорог придали сидору особое очарование. Он был и попутчиком, и помощником, и другом дяди Серёжи. Ходят в народе побасёнки о бездонности дамских сумочек, в которых можно найти абсолютно всё. Так вот, женские сумочки – всего лишь бледная копия сидора моего любимого дяди Серёжи.
Вскрытие показало правоту теории относительности Эйнштейна. Относительно небольшая сумка вместила в себя бесконечность, которая состояла из десятков пакетов и пакетиков. Первым был изъят на свет фотоаппарат гигантских размеров, следом шли объективы к фотоаппарату – маленькие, большие и очень большие, широкоформатные и узкоформатные, дальнобойные и не очень. Всего их оказалось около десятка. Они были заложены в футлярчики и бережно упакованы заботливой рукой в пупырчатую пленку. Далее шли коробочки с блёснами, краболовка, гамак и котелок. По мере извлечения вещей комната стала напоминать торговый зал для туристов.
- Ну, что, Ариша, пойдём завтра на Скалистую сопку? Я ведь ждал твоих каникул, мне очень нужен попутчик и помощник.
В этот момент до меня дошло, что судьба всё решила за меня.
Скалистая сопка давно манила меня, но находилась далеко от села. А тут такой шанс! По рассказам дяди Серёжи, Скалистая якобы обладала особой, древней энергетикой и являлась чуть-ли не порталом в параллельные миры, так что идти туда одной было боязно. А вот с дядей Серёжей, который прошёл, по его словам, и Крым, и рым, я решилась.
Утром поднялись затемно. Подобного переполоха наша семья не знала давно. Мама готовила омлет и оладьи. По кухне плыл ароматный запах кофе. Полусонный отец бродил по квартире и, вспоминая каких-то японских полицейских, пытался помочь собрать в сидор все вещи, выложенные накануне вечером. И в этот раз Эйнштейн победил – влезло всё!
Осложняло дело наличие в доме четырех котов и пятой кошки Буси. Коты коварно подсовывали свои хвосты всем под ноги и выли дурниной, когда кто-нибудь наступал на них. Буся же облюбовала сумку и трижды с позором из неё была изгнана.
Одна из блёсен впилась отцу в пятку, и он наконец вспомнил, что японский полицейский – это всё же городовой.
Огромный рыжий котяра по имени Хвост попал в краболовку и, взвыв, попытался сбежать на улицу. Вы когда-нибудь видели, как зеленая краболовка с безумными глазами на рыжих мохнатых ножках, вереща и воя, пытается пролезть в дверной проем? Зрелище, скажу я вам, то ещё!
Резкий оклик нашей мамы положил конец вакханалии. Коты тут же исчезли, дядя Серёжа наконец-то выудил Хвоста из краболовки. Папа помирился с городовыми и больше их не поминал.
Позавтракав, мы с дядей Серёжей были готовы к дальней дороге.
Мой дядя – особый вид человечества, ещё не до конца исследованный учеными. Человек всё знающий и всё читающий. Внешний вид – вполне себе Homo sapiens: невысокого роста, слегка сутуловат, изрядно волосат и достаточно громогласен. В отличие от тела, голова была совершенно лысой. Дядю отличали безмерный оптимизм и всезнание, почерпнутое из журналов «Вокруг света», «Мир непознанного», «Загадки Вселенной» и «Мурзилка». Рождённый в деревне, дядя Серёжа был уверен, что знает, как развести костер, построить шалаш, наловить рыбы. Но знать и уметь – не одно и то же. Прожив в городе большую часть своей жизни, он всё ещё считал себя сельским жителем. Неуёмная страсть к познанию мира и огромная энергия этого человека бросали его из крайности в крайность.
Итак, под походную песню «Твои зеленые лосины» мы бодро шагали навстречу Истории. Красивейшие места окружали нас. Позеленевшие скалы издали манили своим великолепием. Река Бикин величественно и грозно шумела летним паводком. Поднявшись, река унесла с собой с берегов веточки, ряску и осыпавшиеся былинки. Вот в дубовом листочке, словно в ладье, мимо проплыл испуганный жучок. А вот – небольшая полёвка, смешно дёргая носиком, упивалась теплым воздухом. Внимательный взгляд разглядел бы на веточке плакучей ивы небольшое гнёздышко пичуги.
Выйдя на берег реки, дядя Сережа взорвался шлягером «Шёл отряд по берегу». Полёвка, оторопев от такой наглости, опешила, но после лихо шмыгнула в норку. За селом мир обезлюдел, и мы остались наедине с природой.
– Всё, Арина, привал. Собери хворост для костра, а я наберу водички для чая, – пробасил мой попутчик.
– Хорошо! Для меня набрать хворост не проблема.
Сухих веток вокруг много. Собирай – не ленись! Охапка получилась немаленькая, еле донесла до привала. На месте никого не оказалось, пришлось самой разводить костёр. Услышав у берега реки грустное завывание «чёрный ворон, ты не вейся над моею головой», вдруг ощутила, как меня охватывает тревожное предчувствие. Пошла на голос.
На берегу реки сидел дядя Серёжа, с грустью и болью смотрел он на воду.
– Аришка! Посмотри, как красиво! Хотел вот снять на фото. Удочки достал, фотоаппарат. Увлёкся я, Аришка, а сидор в воду… бульк. Унесло братана, утоп, бедолага!
Перспектива была нерадостная. Скоро стемнеет, похолодает. Будем голодать. Возвращаться не имело смысла, так как ушли довольно далеко.
Но природный оптимизм дяди Сережи наконец-то взял своё:
– Итак, план действий таков: костёр, сбор ягод для чая, – твёрдый голос вернул мне уверенность, может, ещё не всё потеряно.
Хорошо, что рядом рос куст боярышника, вдалеке виднелся шиповник, можно набрать прошлогодних ягод.
Рыбалкой, конечно, занялся старший. Наживка канула в Лету вместе с сидором, и дядя Серёжа, копая червей, причитал об их нелёгкой судьбе.
– Смотри, каков красавчик, жена, наверное, есть, детишки. А мы тебя за ухо и в воду, к рыбам на прокорм. Извини, браток, но и мы кушать хотим.
Скупая мужская слеза упала на ошалевшего червячка.
Первый заброс оказался неудачным. Червяк, не желая умирать ради нашего ужина, ухитрился сорваться с крючка. Крючок же, сделав в воздухе сальто, воткнулся в мою ветровку. Рывок был настолько резким и сильным, что я свалилась в воду. Бульк. Испугаться даже не успела. Увидев безумные глаза дяди Серёжи, я расхохоталась. Это были выпученные блюдца уфолога, встретившего гуманоида. Глина и вода стекали с меня, тина зацепилась за голову и свисала, как ухо спаниеля.
– Ну, ты, мать, и русалка, – сказал дядя.
Таёжные сопки эхом отразили наш смех.
Преодолев скользкий берег, я достигла твёрдой земли. Благо, костер бодренько потрескивал дровишками. Развесив сушиться одежду, я издали наблюдала за рыбалкой.
С каждым новым броском блесна летела уверенней и дальше. Наши шансы на уху становились выше. Дикий вой Чингачгука сообщил, что произошло нечто неординарное. Леска натянулась тетивой лука, удилище согнулось в дугу.
– Аришенька! Таймень, ей-богу, таймень! Здоровый, зараза.
Я подскочила к дяде Серёже. Действительно, клюнуло что-то очень крупное. Я прошептала:
– Теперь, главное, плавно подводите, не дергайте.
Руки дяди Серёжи тряслись от напряжения. Волновался он не меньше моего. Такая удача бывает раз в рыбацкой жизни. В воздухе отчетливо запахло ухой и шашлыком из тайменя.
Я рванула со всех ног за сачком. Рыбина поддавалась с трудом, но как-то очень вяло, не рвалась в стороны, не сопротивлялась, а покорно дрейфовала к берегу. Внезапно из воды вынырнул загубленный дядей Серёжей сидор. Блесна удачно зацепила его за лямку. Такого оборота не ожидала даже я. Сказать, что мы ошалели – не сказать ничего! Гробовое молчание отразилось в сопках Сихотэ-Алиня. Бросив удочку, дядя Серёжа с криком «Братан!» рванул к сидору. Прижав сумку к груди, он нёс ее, как боец раненного в бою товарища. Наше счастье было полным и окончательным.
Банка сайры заменила непойманного тайменя, но уха вышла на славу.
После чая дядя поведал мне о загадочном камне на краю скалы. Говорят, что это шаманский камень, портал в параллельный мир. Решено было после трапезы провести осмотр реликвии. Действительно, камень был необычен – похож на мельничный жёрнов с отверстием в центре. С годами палая листва, мусор и насекомые заполнили отверстие грунтом. И рос из этого отверстия молодой тополек. Новая жизнь и вечность камня. Красиво. Дядя Серёжа достал из кармана свою конструкцию, состоявшую из верёвочки и железки. Приблизил верёвочку к камню – и маятник стал колебаться в разные стороны. Камень обладал магнетизмом. Имеет силу. Интересно…
Ночью, сидя у палатки на берегу Бикина, прихлёбывая горячий чай, мы любовались красотой Млечного пути. Отражаясь в зыбкой воде реки, он, казалось, создавал новый, водный мир со своими звёздами и планетами. Птицы умолкли, тишина укутала Скалистую сопку.
Что-то очень глубокое и чистое проникало в душу, очищая от детских тревог и забот. Возможно, это сама Вселенная прикоснулась к тебе, открывая свои сокровенные тайны. Тишина и покой. Казалось, что я слышала, как растёт листочек соседней ивы, как поют звезды в глубинах Космоса. Любая козявочка, муравей или лягушонок становились для меня родными и близкими. Я понимала и любила их.
Сон пришёл незаметно. Жилистая рука дяди укутала меня пледом. Тепло. Интересно, а есть ли в самом деле портал в параллельный мир?
Утром бодрая и весёлая я окунулась в реке. Мир был прекрасен. Пичуга в ветвях ивы мне хитро подмигнула, я подмигнула ей в ответ. Теперь у нас есть свои секреты.
У палатки дядя Серёжа раздувал костер, напевая: «Не кочегары мы, не плотники». Хороший у меня дядька, как же, оказывается, я его люблю!
Сегодня днём мы еще порыбачим. Может быть, всё же выловим тайменя. Закончится день, и мы с дядей Серёжей возвратимся домой. К четырём котам и кошечке Бусе. К любимым родителям. И книгам. К ноутбуку и тик-току.
Вот только одна мысль не даёт мне покоя: где портал в параллельный мир?
Новгородская София. Черныш
Раннее утро. Я долго нежусь в кровати, сегодня выходной, а значит, в школу не надо. Домашние задания выполнила ещё вчера. Свобода. Можно подольше полежать, снова закрываю глаза, мечтаю, но сон уже не идёт; пытаюсь расслабить ноги, но что-то мешает. Привстаю и наблюдаю картину: кот… снова пробрался ночью в мою комнату, он любит спать у меня в ногах, а под утро приходит на подушку и старается залезть под одеяло - замерзает. Вот и сейчас смотрю на него и улыбаюсь: кот, как кот, ничего необычного. Серо-зелёные, как пуговки, глазки, мягкие, плюшевые лапки, а сам весь чёрного цвета, оттуда и пошло его имя – Черныш.
- Чего смотришь? Пора вставать, я есть хочу,- с недовольством и каким-то напором сказал Черныш. Я оторопела, зажмурила глаза и снова открыла. Может приснилось?
-Я долго ждать буду? Вчера заходил и дверь в комнату захлопнулась, кто её откроет? Смотри, солнце вон в глаза светит, а я ещё на улице не был. Безобразие!
-Я сейчас. Черныш, это точно не сон?!
- Сны я про другое смотрю, быстро за мной. Муррр-рр.
Я, как по велению волшебной палочки, быстро встала, открыла дверь. К моему нескончаемому удивлению Черныш прошёл на кухню на двух лапах и почему-то сел во главе стола. Я понимаю, что сегодня выходной, я долго вчера читала, смотрела Тик-ток, но сегодняшнее утро для меня загадка. Что могло произойти ночью?
- Я не понял? Ты долго будешь стоять в дверях? Или что-то забыла? Мне кажется пора будить родителей. Хотя хозяин дома давно на работе, хоть и выходной: деньги умеет зарабатывать. А у меня до сих пор нет своего тёплого одеяла. Или ты думаешь, всегда к тебе буду приходить греться?
И тут я вспоминаю про телефон: «Алло, Маша, быстро назови, какое сегодня число и день недели? Да не спрашивай пока ни о чём, только назови», - на том конце провода Маша, моя лучшая подруга, подтвердила, что сегодня воскресенье, 20 февраля, и мы собирались сходить в приют для домашних животных.
- Маша, какой приют?! Приходи…
- Ага, уже и подружек позвала. А меня спросила, хочу ли я кого-либо видеть? – Черныш всё ещё с напором, но уже более мягко произнёс это и поставил на стол три чашки.
«Почему три?» - спросила я. «Странная ты, значит, про себя не забыла, а про маму? Ты помнишь, что она сегодня с ночной смены? Она устала. А ты до сих пор нежишься в постели. Не подумала, что могла бы ей завтрак приготовить. А не кричать из комнаты: «Когда завтрак будет готов?»», - Черныш даже мою интонацию передал.
- Ну, а что сразу я…Она сама всегда мне и папе завтрак готовит, - принимая ситуацию во внимание, я села во главе стола. «Кыш с моего места», - Черныш быстро лапой указал мне на место по левую сторону от него.
- Черныш, - ласково сказала я, пытаясь даже погладить это напыщенное, важное животное,- что случилось? Ты плохо спал? Разве я вчера не давала тебе вкусняшки, ты ведь с удовольствием всё съел. Или мало погуляли с тобой на улице? Так я всё исправлю.
- Поздно исправлять. Перевоспитывать тебя надо.
Я стою в недоумении и понимаю, что это не сон. Я начала думать, как такое могло произойти, ведь вечером, он так же ел свой любимый корм и лёг спать, расположившись в кресле у телевизора.
Звонок в дверь отогнал от меня мысли, и я побежала открывать, думая, что это Маша. Но распахнув дверь, я увидела курьера. Странно, в доставку мы не звонили.
- Это ко мне, - важным голосом сказал Черныш. И я увидела его во фраке, с бабочкой. Это тот самый костюм, мы покупали ему на фотосессию, но так и не смогли надеть на кота, он сопротивлялся. А сейчас выглядит как настоящий джентльмен.
- Спасибо,- крикнул Черныш, получив посылку. - Распишись за меня, ещё пока не получается лапой писать.
Я, поставив закорючку в листке, который мне протянул курьер, покорно пошла за Чернышом.
На кухне что-то застучало, упало, мне показалось, что разбилось; я подумала, как рассердится мама, если это её любимая вазочка. Отгоняя мысли, я вернулась на кухню. Черныш с довольно-таки серьёзной мордой смотрел на меня.
- Позавтракала, будь добра, за собой посуду помыть. Сегодня воскресенье, можно и обед приготовить, ты девочка уже взрослая. Если будет нужна помощь - я помогу, не зря же я каждый день у твоей мамы под ногами кручусь. Хоть бы раз спросила у мамы, как её дела? Что нового произошло? Только о себе и думаете. А она, между прочим, на предприятии – лучший работник. И грамоту получила. Только спрятала от вас. В тот день ты обиделась, что на ужин не ризотто, как ты любишь, а картошка пюре. Некогда ей было готовить. Она хотела сюрприз устроить и в кафе всем вечером пойти, а тут ты…Эх, взял бы ремень…да нельзя, ребёнок ещё.
Черныш говорил с обидой, а я понимала, что это правда. Видно, накопилось у него за годы жизни у нас. Ведь взяли мы его совсем маленьким, такой комочек был, а сейчас сидит важный и указания раздаёт. Ну что мне с ним делать? Люблю его, и сейчас смотрю в эти глаза, наполненные обидой, нравоучениями, а сама в душе смеюсь.
- Я сейчас отойду, нужно решить кошачьи дела, а ты встречай Машу и разбирайтесь с завтраком: омлет, тосты, крепко заваренный кофе без сахара, мама сладкий не пьёт. И готовьтесь на прогулку. Поведу вас гулять и покажу красоты города, которые давно не замечаете.
Мне пришла в голову мысль, если Черныш уйдет всё встанет на свои места.
- Доченька, доброе утро. Что же ты сегодня рано встала? Выходной…Любишь поспать до обеда, а тут? Ещё нет и 10 часов, а ты на ногах и у плиты?! Проголодалась? Я сейчас быстро приготовлю что-нибудь лёгкое,- мама была в хорошем настроении и только хотела подойти к холодильнику, как я, открыв салфетку, указала ей на стол.
-Ничего себе? Ты сама приготовила завтрак? – с нескрываемым удивлением посмотрела мама на стол. – Я кофе пью без сахара.
-Я знаю, мне Черныш сказал.
Звонок в дверь прервал наш разговор, и я попросила маму открыть, это пришла Маша.
-Проходите, присаживайтесь, я вам сейчас такое расскажу. Будете удивлены и поверите в сказку.
И я кратко рассказала о том, что произошло утром. Не успели мы закончить трапезу, как вошёл Черныш. Деловой такой, обошёл всех, присел на стул и ласково, глядя в лицо маме, стал напевать:
-Ну что, хозяюшка? Справился я с задачей? Не ты ли вчера говорила вечером: «Вот бы дочка мне завтрак что ли приготовила? А, Черныш, как думаешь, справится?».
Мама оторопела, ее глаза потихоньку расширялись, снова сужались, она все ещё в каком-то недоумении, непонимании происходящего держала чашку на весу, боясь поставить на стол.
-Ты. Вы что думаете, я секретов никаких не знаю? Что вы просто так со мной разговариваете? Согласен, живу в любви, ласке, заботе. Но вот кто о вас позаботится? Вот ты, Маша, часто бываешь в этом доме, а меня как будто не замечаешь, погладишь рукой и в Тит-Ток засядешь. Чай попьёте и даже кружки не помоете. Я свою чашку всегда вылизываю. Ладно, слишком много разговоров. Собирайтесь. А то хозяин дома замёрзнет на улице, нас дожидаясь.
-Как? Он в курсе что происходит? Кто ему сообщил? – мама старалась не показывать недовольства, но на её лице можно было многое прочитать.
-Знаете, пусть с ошибками, пусть как курица лапой, но я ему сообщил, что скучаем и ждём домой. Он, между прочим, уже у подъезда.
- Мои дорогие, как я рад видеть вас. Мария, ты составишь нам компанию? И не убежишь, как это обычно бывает? – папа нежно поцеловал маму, погладил меня по щеке, и мне показалось, что солнышко светить стало ярче.
Морозный воздух, дуновение ветра и солнце. Правда, день был чудесным, необычным, сказочным. Держась за руки, мы прошли по набережной, вышли на главную улицу нашего города. Ух ты, мы и не заметили, какая красота в этом году на главной площади! Ледяные фигурки, деревья, кустарники, усыпанные серебристым снегом, – и всё это около нас, рядом…. Но мы настолько погружены в свои проблемы, что не замечаем этого. Передвигаясь дальше, мы подошли к замёрзшему пруду. Эмоции нас просто переполняли, у нас не было слов от такой невероятной красоты. Мы просто ходили по городу и наблюдали за красотой, которую давно перестали замечать, но Черныш нам о ней напомнил.
- Ну и как? Замёрзли? - Черныш, оказывается, всё это время сидел у папы за пазухой. - Вот пора и пообедать, кафе есть рядом недорогое, но кормят вкусно. Не так ли, Мария, ведь именно в нём ты пропадаешь после уроков?
-Да, я часто сюда хожу, мне нравится смотреть в окно и мечтать. Разве это плохо?
- Нет, это очень хорошо. Только не надо забывать, что в то время пока ты мечтаешь, родители дома с ума сходят, потому что ребёнок вовремя не пришёл из школы и не позвонил. А мало ли?
-Ладно, Черныш, ты сегодня их достаточно уже напугал, - смеясь, сказал папа. - Пойдёмте пить горячий кофе.
Мы вошли в кафе, народу было немного, поэтому нам удалось выбрать столик около панорамного окна. Так за разговорами мы и не заметили, что наступил вечер. На улице похолодало, стоило возвращаться домой. Мы проводили Машу до её подъезда и отправились домой. «Да, хороший денёк сегодня выдался. Знаешь, дорогой, наша красавица-дочка даже завтрак мне сегодня приготовила», – с гордостью сказала мама. И мне стало приятно. Оказывается, такие мелочи могут доставить столько удовольствия и счастья.
- Вы как хотите, а мне пора на крышу, я, между прочим, ещё с Милкой не разговаривал из 6 квартиры. Она меня уже ждёт, – и, вильнув хвостом, Черныш исчез за входной дверью.
- Время позднее, надо готовиться ко сну, дочка. Иди ложись спать.
Но спать мне почему-то не хотелось. В голове крутилось много вопросов. Был ли сегодняшний день или приснилось? Почему так произошло? Под сильным впечатлением от проведённого дня я сразу уснула…
Звенит будильник, привычная мелодия, шепот мамы и папы на кухне. Я потягиваюсь, улыбаюсь новому дню и вспоминаю вчерашний день.
«Черныш, кис-кис-кис, ты где?» -я выбегаю на кухню. Нет…не может быть…Черныш привычно ел из своей миски, урча и мурлыча, даже не оглядываясь на меня.
- Думаю, дочка, ты видела хорошие сны? Сегодня не задерживайся из школы. У нас с мамой для тебя есть сюрприз. До вечера, – папа подмигнул Чернышу и убежал на работу.
В чём секрет Черныша, я не знаю. Но и нам с вами об этом знать не надо. Пусть это будет наш маленький секрет
Раннее утро. Я долго нежусь в кровати, сегодня выходной, а значит, в школу не надо. Домашние задания выполнила ещё вчера. Свобода. Можно подольше полежать, снова закрываю глаза, мечтаю, но сон уже не идёт; пытаюсь расслабить ноги, но что-то мешает. Привстаю и наблюдаю картину: кот… снова пробрался ночью в мою комнату, он любит спать у меня в ногах, а под утро приходит на подушку и старается залезть под одеяло - замерзает. Вот и сейчас смотрю на него и улыбаюсь: кот, как кот, ничего необычного. Серо-зелёные, как пуговки, глазки, мягкие, плюшевые лапки, а сам весь чёрного цвета, оттуда и пошло его имя – Черныш.
- Чего смотришь? Пора вставать, я есть хочу,- с недовольством и каким-то напором сказал Черныш. Я оторопела, зажмурила глаза и снова открыла. Может приснилось?
-Я долго ждать буду? Вчера заходил и дверь в комнату захлопнулась, кто её откроет? Смотри, солнце вон в глаза светит, а я ещё на улице не был. Безобразие!
-Я сейчас. Черныш, это точно не сон?!
- Сны я про другое смотрю, быстро за мной. Муррр-рр.
Я, как по велению волшебной палочки, быстро встала, открыла дверь. К моему нескончаемому удивлению Черныш прошёл на кухню на двух лапах и почему-то сел во главе стола. Я понимаю, что сегодня выходной, я долго вчера читала, смотрела Тик-ток, но сегодняшнее утро для меня загадка. Что могло произойти ночью?
- Я не понял? Ты долго будешь стоять в дверях? Или что-то забыла? Мне кажется пора будить родителей. Хотя хозяин дома давно на работе, хоть и выходной: деньги умеет зарабатывать. А у меня до сих пор нет своего тёплого одеяла. Или ты думаешь, всегда к тебе буду приходить греться?
И тут я вспоминаю про телефон: «Алло, Маша, быстро назови, какое сегодня число и день недели? Да не спрашивай пока ни о чём, только назови», - на том конце провода Маша, моя лучшая подруга, подтвердила, что сегодня воскресенье, 20 февраля, и мы собирались сходить в приют для домашних животных.
- Маша, какой приют?! Приходи…
- Ага, уже и подружек позвала. А меня спросила, хочу ли я кого-либо видеть? – Черныш всё ещё с напором, но уже более мягко произнёс это и поставил на стол три чашки.
«Почему три?» - спросила я. «Странная ты, значит, про себя не забыла, а про маму? Ты помнишь, что она сегодня с ночной смены? Она устала. А ты до сих пор нежишься в постели. Не подумала, что могла бы ей завтрак приготовить. А не кричать из комнаты: «Когда завтрак будет готов?»», - Черныш даже мою интонацию передал.
- Ну, а что сразу я…Она сама всегда мне и папе завтрак готовит, - принимая ситуацию во внимание, я села во главе стола. «Кыш с моего места», - Черныш быстро лапой указал мне на место по левую сторону от него.
- Черныш, - ласково сказала я, пытаясь даже погладить это напыщенное, важное животное,- что случилось? Ты плохо спал? Разве я вчера не давала тебе вкусняшки, ты ведь с удовольствием всё съел. Или мало погуляли с тобой на улице? Так я всё исправлю.
- Поздно исправлять. Перевоспитывать тебя надо.
Я стою в недоумении и понимаю, что это не сон. Я начала думать, как такое могло произойти, ведь вечером, он так же ел свой любимый корм и лёг спать, расположившись в кресле у телевизора.
Звонок в дверь отогнал от меня мысли, и я побежала открывать, думая, что это Маша. Но распахнув дверь, я увидела курьера. Странно, в доставку мы не звонили.
- Это ко мне, - важным голосом сказал Черныш. И я увидела его во фраке, с бабочкой. Это тот самый костюм, мы покупали ему на фотосессию, но так и не смогли надеть на кота, он сопротивлялся. А сейчас выглядит как настоящий джентльмен.
- Спасибо,- крикнул Черныш, получив посылку. - Распишись за меня, ещё пока не получается лапой писать.
Я, поставив закорючку в листке, который мне протянул курьер, покорно пошла за Чернышом.
На кухне что-то застучало, упало, мне показалось, что разбилось; я подумала, как рассердится мама, если это её любимая вазочка. Отгоняя мысли, я вернулась на кухню. Черныш с довольно-таки серьёзной мордой смотрел на меня.
- Позавтракала, будь добра, за собой посуду помыть. Сегодня воскресенье, можно и обед приготовить, ты девочка уже взрослая. Если будет нужна помощь - я помогу, не зря же я каждый день у твоей мамы под ногами кручусь. Хоть бы раз спросила у мамы, как её дела? Что нового произошло? Только о себе и думаете. А она, между прочим, на предприятии – лучший работник. И грамоту получила. Только спрятала от вас. В тот день ты обиделась, что на ужин не ризотто, как ты любишь, а картошка пюре. Некогда ей было готовить. Она хотела сюрприз устроить и в кафе всем вечером пойти, а тут ты…Эх, взял бы ремень…да нельзя, ребёнок ещё.
Черныш говорил с обидой, а я понимала, что это правда. Видно, накопилось у него за годы жизни у нас. Ведь взяли мы его совсем маленьким, такой комочек был, а сейчас сидит важный и указания раздаёт. Ну что мне с ним делать? Люблю его, и сейчас смотрю в эти глаза, наполненные обидой, нравоучениями, а сама в душе смеюсь.
- Я сейчас отойду, нужно решить кошачьи дела, а ты встречай Машу и разбирайтесь с завтраком: омлет, тосты, крепко заваренный кофе без сахара, мама сладкий не пьёт. И готовьтесь на прогулку. Поведу вас гулять и покажу красоты города, которые давно не замечаете.
Мне пришла в голову мысль, если Черныш уйдет всё встанет на свои места.
- Доченька, доброе утро. Что же ты сегодня рано встала? Выходной…Любишь поспать до обеда, а тут? Ещё нет и 10 часов, а ты на ногах и у плиты?! Проголодалась? Я сейчас быстро приготовлю что-нибудь лёгкое,- мама была в хорошем настроении и только хотела подойти к холодильнику, как я, открыв салфетку, указала ей на стол.
-Ничего себе? Ты сама приготовила завтрак? – с нескрываемым удивлением посмотрела мама на стол. – Я кофе пью без сахара.
-Я знаю, мне Черныш сказал.
Звонок в дверь прервал наш разговор, и я попросила маму открыть, это пришла Маша.
-Проходите, присаживайтесь, я вам сейчас такое расскажу. Будете удивлены и поверите в сказку.
И я кратко рассказала о том, что произошло утром. Не успели мы закончить трапезу, как вошёл Черныш. Деловой такой, обошёл всех, присел на стул и ласково, глядя в лицо маме, стал напевать:
-Ну что, хозяюшка? Справился я с задачей? Не ты ли вчера говорила вечером: «Вот бы дочка мне завтрак что ли приготовила? А, Черныш, как думаешь, справится?».
Мама оторопела, ее глаза потихоньку расширялись, снова сужались, она все ещё в каком-то недоумении, непонимании происходящего держала чашку на весу, боясь поставить на стол.
-Ты. Вы что думаете, я секретов никаких не знаю? Что вы просто так со мной разговариваете? Согласен, живу в любви, ласке, заботе. Но вот кто о вас позаботится? Вот ты, Маша, часто бываешь в этом доме, а меня как будто не замечаешь, погладишь рукой и в Тит-Ток засядешь. Чай попьёте и даже кружки не помоете. Я свою чашку всегда вылизываю. Ладно, слишком много разговоров. Собирайтесь. А то хозяин дома замёрзнет на улице, нас дожидаясь.
-Как? Он в курсе что происходит? Кто ему сообщил? – мама старалась не показывать недовольства, но на её лице можно было многое прочитать.
-Знаете, пусть с ошибками, пусть как курица лапой, но я ему сообщил, что скучаем и ждём домой. Он, между прочим, уже у подъезда.
- Мои дорогие, как я рад видеть вас. Мария, ты составишь нам компанию? И не убежишь, как это обычно бывает? – папа нежно поцеловал маму, погладил меня по щеке, и мне показалось, что солнышко светить стало ярче.
Морозный воздух, дуновение ветра и солнце. Правда, день был чудесным, необычным, сказочным. Держась за руки, мы прошли по набережной, вышли на главную улицу нашего города. Ух ты, мы и не заметили, какая красота в этом году на главной площади! Ледяные фигурки, деревья, кустарники, усыпанные серебристым снегом, – и всё это около нас, рядом…. Но мы настолько погружены в свои проблемы, что не замечаем этого. Передвигаясь дальше, мы подошли к замёрзшему пруду. Эмоции нас просто переполняли, у нас не было слов от такой невероятной красоты. Мы просто ходили по городу и наблюдали за красотой, которую давно перестали замечать, но Черныш нам о ней напомнил.
- Ну и как? Замёрзли? - Черныш, оказывается, всё это время сидел у папы за пазухой. - Вот пора и пообедать, кафе есть рядом недорогое, но кормят вкусно. Не так ли, Мария, ведь именно в нём ты пропадаешь после уроков?
-Да, я часто сюда хожу, мне нравится смотреть в окно и мечтать. Разве это плохо?
- Нет, это очень хорошо. Только не надо забывать, что в то время пока ты мечтаешь, родители дома с ума сходят, потому что ребёнок вовремя не пришёл из школы и не позвонил. А мало ли?
-Ладно, Черныш, ты сегодня их достаточно уже напугал, - смеясь, сказал папа. - Пойдёмте пить горячий кофе.
Мы вошли в кафе, народу было немного, поэтому нам удалось выбрать столик около панорамного окна. Так за разговорами мы и не заметили, что наступил вечер. На улице похолодало, стоило возвращаться домой. Мы проводили Машу до её подъезда и отправились домой. «Да, хороший денёк сегодня выдался. Знаешь, дорогой, наша красавица-дочка даже завтрак мне сегодня приготовила», – с гордостью сказала мама. И мне стало приятно. Оказывается, такие мелочи могут доставить столько удовольствия и счастья.
- Вы как хотите, а мне пора на крышу, я, между прочим, ещё с Милкой не разговаривал из 6 квартиры. Она меня уже ждёт, – и, вильнув хвостом, Черныш исчез за входной дверью.
- Время позднее, надо готовиться ко сну, дочка. Иди ложись спать.
Но спать мне почему-то не хотелось. В голове крутилось много вопросов. Был ли сегодняшний день или приснилось? Почему так произошло? Под сильным впечатлением от проведённого дня я сразу уснула…
Звенит будильник, привычная мелодия, шепот мамы и папы на кухне. Я потягиваюсь, улыбаюсь новому дню и вспоминаю вчерашний день.
«Черныш, кис-кис-кис, ты где?» -я выбегаю на кухню. Нет…не может быть…Черныш привычно ел из своей миски, урча и мурлыча, даже не оглядываясь на меня.
- Думаю, дочка, ты видела хорошие сны? Сегодня не задерживайся из школы. У нас с мамой для тебя есть сюрприз. До вечера, – папа подмигнул Чернышу и убежал на работу.
В чём секрет Черныша, я не знаю. Но и нам с вами об этом знать не надо. Пусть это будет наш маленький секрет
Сидоренко Татьяна. Вернуться
Очередное первое сентября. Очередное и последнее.
Пришкольный сквер наполнен жизнью и радостью. Мимо, смеясь, проходят школьники всех возрастов — пусть они все, как один, клянутся в нелюбви ко Дню знаний, а всё же веселятся и счастливы вновь увидеть друзей.
Школа хранит жизни и воспоминания. В её стенах, залитых полумраком, слепком осталась и моя жизнь. С первого по одиннадцатый класс. Школа не изменилась с нашей первой встречи десять лет назад. Я же? Тысячи раз.
Первый год, самый старт, когда всё вокруг большое и безмятежное. Это зоопарки, цирки, прогулки по паркам и ванильное мороженое. Пятый, в котором я кажусь себе уже таким взрослым и умным. Гуляю допоздна, катаюсь на рыбалку и на озеро по выходным, зимой рассекаю лёд на коньках. В седьмом громом гремит болезнь отца. В девятом мы с мамой остаёмся вдвоём.
Она его не уберегла.
Я отмахиваюсь от плохих мыслей. Хватит. Просто хватит об этом. Одна и та же пластинка уже второй год по счёту.
Откидываюсь на спинку скамейки и ловлю лицом солнечные лучи. Пытаюсь сбежать от себя, упав в мир вокруг, слушая окружающий шум и гвалт — но от них только начинает болеть голова. Вздыхаю. Куда тогда? «Домой»? До часов трёх-четырёх мне там делать нечего. Потом мама уйдёт на дежурство. Станет легче.
«Рано или поздно она догадается, что ты её избегаешь»
Нахмурившись от слов жестокого внутреннего голоса, резко вскакиваю со скамейки и иду размашистым шагом к школе. Несколько мгновений, стоя у ворот, пилю взглядом крыльцо, а потом принимаюсь устало шагать вдоль забора.
Она уже догадалась, смею предположить. Но пусть сначала спросит об этом, а там что-нибудь придумаю. В этом мне равных нет.
Так, возвращаясь к теме. Сейчас одиннадцать. Надо где-то скоротать свободное время. Остались бы у меня карманные деньги, провёл бы его в каком-нибудь кафе. А так остаётся только в библиотеке посидеть. Или, может, присоединиться к одноклассникам. Сейчас некоторые точно стайками сидят где-то по городу. Или…
Из мыслей меня вырывает из ниоткуда взявшийся бегущий парень. Всего секунда — и тот нагло толкает меня плечом, заставляя пошатнуться, а потом сразу устремляется дальше. Вот засранец!..
Я оборачиваюсь, хочу крикнуть ему что-то вслед, но замечаю — дьявол! — у него мой телефон!
— А ну стой!
Я срываюсь следом, почти догоняю, однако тот, добежав до школьных ворот, резко сворачивает во двор. Что? Зачем? С какой стати карманнику устраивать погоню там? Это глупо!
Он уже взлетает на крыльцо, прижимая телефон к уху, будто говорит по нему. Открывает дверь и, на секунду обернувшись, обводит взглядом округу, даже не замечая меня.
Его лицо…
Он заходит внутрь школы.
Это моё лицо.
Это я.
Я — который стою здесь, прямо сейчас, в объятиях жары и солнца. И другой я, скрывшийся в прохладных школьных коридорах.
А ещё я медленно осознаю, что помню тот день.
Помню май, последние дни десятого класса перед летними каникулами и свои частые опоздания. Помню как, проспав, бежал в очередной раз на уроки. И как мне в этот момент позвонил друг. Как я, заходя в школу и задумчиво слушая его, на мгновение оглянулся назад.
Что сейчас произошло?..
И мой телефон лежит у меня в кармане. Но не мог же я ничего попутать! Абсолютно такой же — болотный чехол, два брелка — был в его руке!
Устало качаю головой, по которой вновь расходятся волны тупой боли. Даже шум веселья из сквера словно бы притих. Или, может, дети с их родителями просто пошли дальше? Я кидаю взгляд на него — и, действительно, там уже пусто.
Только у старого платана стоит парнишка, вырезая на нём очередную надпись. Я даже усмехаюсь — это давно стало школьной традицией. На дереве можно заметить надписи из совсем разных времён и годов, от совершенно разных людей. Чтобы никогда не исчезнуть из истории этого места, надо было обязательно оставить на платане пару слов о себе.
Странно — только что со мной произошло такое событие, а я с ностальгической улыбкой рассуждаю о роли дерева в своей жизни.
Я приглядываюсь к сумраку, царящему под платаном. Когда в глаза бьёт солнце, тяжело там что-то разглядеть. И в эту секунду что-то внутри меня вновь начинает тревожно шевелиться.
Там опять стою я.
Да, точно я!
Замираю, не дыша — а парнишка сворачивает ножик и уходит. Это случилось в конце девятого класса. Первая и последняя моя надпись на коре платана.
Когда я думал, что уйду. Уйду после смерти отца, больше просто не сумев оставаться в этом городе. И тогда я решил оставить свой след.
Но всё-таки задержался. И теперь стою на пороге одиннадцатого класса.
Теперь это точно перепрыгивает все рамки нормального. Дважды одно и то же разве мерещится? Да с такой точностью до реальных событий?
Минуя платан, захожу в сквер и оглядываюсь. Того меня и след простыл. Исчез? Или убежал, и теперь по городу ходит уже две мои копии? Да уж, вот так происшествие для новостных каналов… Школьник расстрóился от жизни настолько, что буквально растрои́лся.
Я взлохмачиваю свои волосы, и, пока думаю, что мне делать дальше, слышу смех. Его смех.
Оборачиваюсь — и сразу нахожу взглядом лицо своего отца. Уже ослабшего от болезни, но ещё преисполненного оптимизмом. Я иду рядом, и, активно жестикулируя, увлечённо о чём-то рассказываю. По другую руку от меня, мягко улыбаясь, шагает мама в медицинском халате. Мы провожаем её на дежурство? Наверное. Раньше была у нас такая традиция.
А потом мы всегда брали ванильное мороженое и шли вместе домой.
Воспоминание проходит мимо меня и растворяется в воздухе. Я ещё долго смотрю в пустоту так, словно там до сих пор виднеется спина моего отца.
Между тем появляется ещё одно. Мы с моим лучшим другом шумно проезжаем по скверу на скейтах, заставляя стаи голубей взмыть в воздух. Внезапно моё колесо застревает в какой-то трещинке, я с криком падаю на асфальт и, перевернувшись на спину, заливисто смеюсь. Он же, отвлекшись на меня, угождает в ту же ловушку и через мгновение лежит уже рядом. Два дурака, не умеющих кататься, но очень желающих этому научиться.
И потом у нас обязательно это получается. Правда, когда в последний раз я брал в руки доску?
И как давно мы гуляли с ним вместе?
Вот ещё одно. Я иду со стороны школы после уроков. Опечаленный и немного злой. Видимо, очередную контрольную завалил — ну, а как же без этого? С невольной улыбкой освобождаю ему дорогу, наблюдаю за тем, как моя прошлая версия садится на отдалённую скамью и достаёт дневник. О, а вот и стандартная процедура «очищения» собственной души! Неужели у меня родители тогда ещё проверяли дневник по возвращению домой?
Подхожу ближе — нет, не оценка, записано всего лишь замечание. Нагрубил учителю. Вот негодник ведь! Каким же я эмоциональным и вспыльчивым тогда был!
…а сейчас разве лучше?
Появляются новые силуэты. Я и мои одноклассники. Мы идём, причём я рассказываю о чём-то с особым жаром. Размахиваю руками, показываю куда-то вдаль, едва ли не вскрикиваю. Такой малец здесь, но сколько огня в этом детском писклявом голосе! Умел же людей этим подкупать! Что я им, интересно, внушал?
А вот уже и другое воспоминание сразу. Вновь мы с отцом, мама стоит чуть поодаль с улыбкой. Мы несколько недель после уроков и работы старательно собирали два небольших самолётиков из набора. Мама долго смотрела на наше пыхтение, но под конец всё же подключилась, скрупулезно посидела над деталями и помогла довести всё до идеала. До её осторожности нам, конечно, было далеко.
И вот момент истины — мы запускаем их, и наши детища устремляются к облакам. Я восторженно кричу, отец смеётся, и мама, подойдя к нам, ласково меня обнимает.
В следующий миг я уже вижу, как впервые рассекаю просторы на велосипеде. Папа бежит следом, придерживает за багажник, но в какой-то момент оставляет его — и вот я еду уже сам. Пугаюсь в первую секунду, когда замечаю, что еду один, но держусь. До последнего держусь, даже когда съезжаю на землю и еду дальше по траве.
Жаль, что поворачивать я ещё не умею. Сдавленно охнув, смотрю за тем, как мой железный конь врезается в дерево вместе со мной.
Когда открываю глаза, уже вижу спину удаляющейся матери с моим забавным рюкзачком. А кто же рядом с ней? А с ней маленький я и такая же маленькая машинка в моей руке. Это какой класс, интересно, что меня ещё мама в школу отводила?
Они скрываются в школьном дворе, и всё вокруг затихает.
Я оглядываюсь, но больше ничего не вижу. Как же умело меня очаровали эти воспоминания. Всё было так хорошо, когда мы были втроём. Могло бы так продолжаться и дальше?
Конечно, могло бы. У отца ведь явно был шанс — а мама была врачом. Если бы она достаточно захотела, то спасла бы его.
«Признай уже, что не всё в наших руках»
Я вздрагиваю. В этот раз голос подсознания звучит совсем ярко, почти как живой. Оборачиваюсь.
Мы стоим. Мои выцветшие серые глаза против его ясных голубых.
Мальчишка. Я сам, на десять лет младше, в праздничном костюме.
— Первый раз в первый класс? — неловко хмыкаю.
Тот улыбается и кивает. А потом словно забывает про меня, пробегает насквозь и кидается в объятия матери. Я смотрю на то, как она, молодая и счастливая, подхватывает его на руки, смеётся и целует в лоб. Потом ставит, и они уходят, что-то весело обсуждая.
Перед тем, как скрыться за углом, он внимательно смотрит на меня ещё раз. А потом образы исчезают, его смех разбивается о дома и затихает. Улица вновь наполняется привычным шумом машин и разговорами. В нос ударяет запах пыли, мимо летит тополиный пух, и меня подхватывает жаркий ветерок.
Я долго не могу оторвать взгляда от того места, где они скрылись. Наконец, достаю телефон, набирая родной номер.
— Как ты, мам?
Очередное первое сентября. Очередное и последнее.
Пришкольный сквер наполнен жизнью и радостью. Мимо, смеясь, проходят школьники всех возрастов — пусть они все, как один, клянутся в нелюбви ко Дню знаний, а всё же веселятся и счастливы вновь увидеть друзей.
Школа хранит жизни и воспоминания. В её стенах, залитых полумраком, слепком осталась и моя жизнь. С первого по одиннадцатый класс. Школа не изменилась с нашей первой встречи десять лет назад. Я же? Тысячи раз.
Первый год, самый старт, когда всё вокруг большое и безмятежное. Это зоопарки, цирки, прогулки по паркам и ванильное мороженое. Пятый, в котором я кажусь себе уже таким взрослым и умным. Гуляю допоздна, катаюсь на рыбалку и на озеро по выходным, зимой рассекаю лёд на коньках. В седьмом громом гремит болезнь отца. В девятом мы с мамой остаёмся вдвоём.
Она его не уберегла.
Я отмахиваюсь от плохих мыслей. Хватит. Просто хватит об этом. Одна и та же пластинка уже второй год по счёту.
Откидываюсь на спинку скамейки и ловлю лицом солнечные лучи. Пытаюсь сбежать от себя, упав в мир вокруг, слушая окружающий шум и гвалт — но от них только начинает болеть голова. Вздыхаю. Куда тогда? «Домой»? До часов трёх-четырёх мне там делать нечего. Потом мама уйдёт на дежурство. Станет легче.
«Рано или поздно она догадается, что ты её избегаешь»
Нахмурившись от слов жестокого внутреннего голоса, резко вскакиваю со скамейки и иду размашистым шагом к школе. Несколько мгновений, стоя у ворот, пилю взглядом крыльцо, а потом принимаюсь устало шагать вдоль забора.
Она уже догадалась, смею предположить. Но пусть сначала спросит об этом, а там что-нибудь придумаю. В этом мне равных нет.
Так, возвращаясь к теме. Сейчас одиннадцать. Надо где-то скоротать свободное время. Остались бы у меня карманные деньги, провёл бы его в каком-нибудь кафе. А так остаётся только в библиотеке посидеть. Или, может, присоединиться к одноклассникам. Сейчас некоторые точно стайками сидят где-то по городу. Или…
Из мыслей меня вырывает из ниоткуда взявшийся бегущий парень. Всего секунда — и тот нагло толкает меня плечом, заставляя пошатнуться, а потом сразу устремляется дальше. Вот засранец!..
Я оборачиваюсь, хочу крикнуть ему что-то вслед, но замечаю — дьявол! — у него мой телефон!
— А ну стой!
Я срываюсь следом, почти догоняю, однако тот, добежав до школьных ворот, резко сворачивает во двор. Что? Зачем? С какой стати карманнику устраивать погоню там? Это глупо!
Он уже взлетает на крыльцо, прижимая телефон к уху, будто говорит по нему. Открывает дверь и, на секунду обернувшись, обводит взглядом округу, даже не замечая меня.
Его лицо…
Он заходит внутрь школы.
Это моё лицо.
Это я.
Я — который стою здесь, прямо сейчас, в объятиях жары и солнца. И другой я, скрывшийся в прохладных школьных коридорах.
А ещё я медленно осознаю, что помню тот день.
Помню май, последние дни десятого класса перед летними каникулами и свои частые опоздания. Помню как, проспав, бежал в очередной раз на уроки. И как мне в этот момент позвонил друг. Как я, заходя в школу и задумчиво слушая его, на мгновение оглянулся назад.
Что сейчас произошло?..
И мой телефон лежит у меня в кармане. Но не мог же я ничего попутать! Абсолютно такой же — болотный чехол, два брелка — был в его руке!
Устало качаю головой, по которой вновь расходятся волны тупой боли. Даже шум веселья из сквера словно бы притих. Или, может, дети с их родителями просто пошли дальше? Я кидаю взгляд на него — и, действительно, там уже пусто.
Только у старого платана стоит парнишка, вырезая на нём очередную надпись. Я даже усмехаюсь — это давно стало школьной традицией. На дереве можно заметить надписи из совсем разных времён и годов, от совершенно разных людей. Чтобы никогда не исчезнуть из истории этого места, надо было обязательно оставить на платане пару слов о себе.
Странно — только что со мной произошло такое событие, а я с ностальгической улыбкой рассуждаю о роли дерева в своей жизни.
Я приглядываюсь к сумраку, царящему под платаном. Когда в глаза бьёт солнце, тяжело там что-то разглядеть. И в эту секунду что-то внутри меня вновь начинает тревожно шевелиться.
Там опять стою я.
Да, точно я!
Замираю, не дыша — а парнишка сворачивает ножик и уходит. Это случилось в конце девятого класса. Первая и последняя моя надпись на коре платана.
Когда я думал, что уйду. Уйду после смерти отца, больше просто не сумев оставаться в этом городе. И тогда я решил оставить свой след.
Но всё-таки задержался. И теперь стою на пороге одиннадцатого класса.
Теперь это точно перепрыгивает все рамки нормального. Дважды одно и то же разве мерещится? Да с такой точностью до реальных событий?
Минуя платан, захожу в сквер и оглядываюсь. Того меня и след простыл. Исчез? Или убежал, и теперь по городу ходит уже две мои копии? Да уж, вот так происшествие для новостных каналов… Школьник расстрóился от жизни настолько, что буквально растрои́лся.
Я взлохмачиваю свои волосы, и, пока думаю, что мне делать дальше, слышу смех. Его смех.
Оборачиваюсь — и сразу нахожу взглядом лицо своего отца. Уже ослабшего от болезни, но ещё преисполненного оптимизмом. Я иду рядом, и, активно жестикулируя, увлечённо о чём-то рассказываю. По другую руку от меня, мягко улыбаясь, шагает мама в медицинском халате. Мы провожаем её на дежурство? Наверное. Раньше была у нас такая традиция.
А потом мы всегда брали ванильное мороженое и шли вместе домой.
Воспоминание проходит мимо меня и растворяется в воздухе. Я ещё долго смотрю в пустоту так, словно там до сих пор виднеется спина моего отца.
Между тем появляется ещё одно. Мы с моим лучшим другом шумно проезжаем по скверу на скейтах, заставляя стаи голубей взмыть в воздух. Внезапно моё колесо застревает в какой-то трещинке, я с криком падаю на асфальт и, перевернувшись на спину, заливисто смеюсь. Он же, отвлекшись на меня, угождает в ту же ловушку и через мгновение лежит уже рядом. Два дурака, не умеющих кататься, но очень желающих этому научиться.
И потом у нас обязательно это получается. Правда, когда в последний раз я брал в руки доску?
И как давно мы гуляли с ним вместе?
Вот ещё одно. Я иду со стороны школы после уроков. Опечаленный и немного злой. Видимо, очередную контрольную завалил — ну, а как же без этого? С невольной улыбкой освобождаю ему дорогу, наблюдаю за тем, как моя прошлая версия садится на отдалённую скамью и достаёт дневник. О, а вот и стандартная процедура «очищения» собственной души! Неужели у меня родители тогда ещё проверяли дневник по возвращению домой?
Подхожу ближе — нет, не оценка, записано всего лишь замечание. Нагрубил учителю. Вот негодник ведь! Каким же я эмоциональным и вспыльчивым тогда был!
…а сейчас разве лучше?
Появляются новые силуэты. Я и мои одноклассники. Мы идём, причём я рассказываю о чём-то с особым жаром. Размахиваю руками, показываю куда-то вдаль, едва ли не вскрикиваю. Такой малец здесь, но сколько огня в этом детском писклявом голосе! Умел же людей этим подкупать! Что я им, интересно, внушал?
А вот уже и другое воспоминание сразу. Вновь мы с отцом, мама стоит чуть поодаль с улыбкой. Мы несколько недель после уроков и работы старательно собирали два небольших самолётиков из набора. Мама долго смотрела на наше пыхтение, но под конец всё же подключилась, скрупулезно посидела над деталями и помогла довести всё до идеала. До её осторожности нам, конечно, было далеко.
И вот момент истины — мы запускаем их, и наши детища устремляются к облакам. Я восторженно кричу, отец смеётся, и мама, подойдя к нам, ласково меня обнимает.
В следующий миг я уже вижу, как впервые рассекаю просторы на велосипеде. Папа бежит следом, придерживает за багажник, но в какой-то момент оставляет его — и вот я еду уже сам. Пугаюсь в первую секунду, когда замечаю, что еду один, но держусь. До последнего держусь, даже когда съезжаю на землю и еду дальше по траве.
Жаль, что поворачивать я ещё не умею. Сдавленно охнув, смотрю за тем, как мой железный конь врезается в дерево вместе со мной.
Когда открываю глаза, уже вижу спину удаляющейся матери с моим забавным рюкзачком. А кто же рядом с ней? А с ней маленький я и такая же маленькая машинка в моей руке. Это какой класс, интересно, что меня ещё мама в школу отводила?
Они скрываются в школьном дворе, и всё вокруг затихает.
Я оглядываюсь, но больше ничего не вижу. Как же умело меня очаровали эти воспоминания. Всё было так хорошо, когда мы были втроём. Могло бы так продолжаться и дальше?
Конечно, могло бы. У отца ведь явно был шанс — а мама была врачом. Если бы она достаточно захотела, то спасла бы его.
«Признай уже, что не всё в наших руках»
Я вздрагиваю. В этот раз голос подсознания звучит совсем ярко, почти как живой. Оборачиваюсь.
Мы стоим. Мои выцветшие серые глаза против его ясных голубых.
Мальчишка. Я сам, на десять лет младше, в праздничном костюме.
— Первый раз в первый класс? — неловко хмыкаю.
Тот улыбается и кивает. А потом словно забывает про меня, пробегает насквозь и кидается в объятия матери. Я смотрю на то, как она, молодая и счастливая, подхватывает его на руки, смеётся и целует в лоб. Потом ставит, и они уходят, что-то весело обсуждая.
Перед тем, как скрыться за углом, он внимательно смотрит на меня ещё раз. А потом образы исчезают, его смех разбивается о дома и затихает. Улица вновь наполняется привычным шумом машин и разговорами. В нос ударяет запах пыли, мимо летит тополиный пух, и меня подхватывает жаркий ветерок.
Я долго не могу оторвать взгляда от того места, где они скрылись. Наконец, достаю телефон, набирая родной номер.
— Как ты, мам?
Ахадова Фатима. Банановая кожура
В понедельник утром, после удачно проведённых выходных, в весёлом расположении духа, я собралась школу. Только вышла из подъезда и увидела, что кто-то прямо под ногами выбросил кожуру от банана. Я очень торопилась и не успела поднять её и выбросить, подумала, что это сделает случайный прохожий и в тот же момент забыла о ней. День в школе прошёл отлично. Весенняя погода была такой прекрасной, что я не смогла удержаться и немного прогулялась. Спустя полчаса я возвращалась домой и увидела ту самую кожуру. Неужели никто её так и не выбросил? Она же мешает всем. Остановились бы на пару секунд, подняли и выбросили бы её. В тот момент меня осенила мысль понаблюдать за ней и посмотреть, кто её выбросит.На следующий день, кожура лежала также. Видимо никто и не подумал выбросить её. Осознавая то, что людям было безразлично на мусор, лежащий под ногами, становилось грустно, но своё наблюдение я не прекратила. А в тот день никто так и не выбросил её.На третий день, по пути в школу, я проходила мимо той же кожуры, которая лежала у подъезда уже несколько дней. Уроки закончились быстро, и я, не оглядываясь, побежала домой. Уж очень была мне интересна судьба банановой кожуры. Прибыв на место, я её не обнаружила и радостная зашла в подъезд, ведь нашёлся добрый и воспитанный человек, который не смог пройти мимо неё. Каково же было моё удивление, когда я увидела кожуру в подъезде, на лестничной площадке. Отлично. Её перетащили туда, где она мешает её больше. Я бы без каких-либо проблем сама выбросила бы её, но я хотела пойти до конца и продолжила следить.И вот уже четвёртый день. А банановая кожура всё на том же месте. Видеть её каждый день, возвращаясь из школы, уже вошло в привычку. В тот день в наш подъезд заселились новые соседи. Молодая семья с двухлетним мальчиком- Сашей. И вроде бы, воспитанные и приветливые, но мимо кожуры всё равно прошли.На пятый день, увидев её в очередной раз, я решила, что после школы, сама возьму и выброшу её. Уже не было смысла наблюдать, я поняла, что она никому не мешает и что выбрасывать её никто не собирается. С такими мыслями я пошла в школу. Домой я возвращалась, думая только о кожуре, я уже представляла, как я выброшу её и со спокойной душой пойду домой. И вот, я захожу в подъезд, кожура лежит там же, я останавливаюсь и смотрю на неё в последний раз, так сказать. Вдруг я вижу спускающегося со второго этажа маленького Сашу, который замечает эту кожуру, берёт её и выбрасывает в мусорный ящик.Целую неделю я ждала, пока это произойдёт, ожидала увидеть кого-угодно, выбрасывающего её, но не двухлетнего мальчишку, у которого было больше совести, чем у нас, взрослых людей.
В понедельник утром, после удачно проведённых выходных, в весёлом расположении духа, я собралась школу. Только вышла из подъезда и увидела, что кто-то прямо под ногами выбросил кожуру от банана. Я очень торопилась и не успела поднять её и выбросить, подумала, что это сделает случайный прохожий и в тот же момент забыла о ней. День в школе прошёл отлично. Весенняя погода была такой прекрасной, что я не смогла удержаться и немного прогулялась. Спустя полчаса я возвращалась домой и увидела ту самую кожуру. Неужели никто её так и не выбросил? Она же мешает всем. Остановились бы на пару секунд, подняли и выбросили бы её. В тот момент меня осенила мысль понаблюдать за ней и посмотреть, кто её выбросит.На следующий день, кожура лежала также. Видимо никто и не подумал выбросить её. Осознавая то, что людям было безразлично на мусор, лежащий под ногами, становилось грустно, но своё наблюдение я не прекратила. А в тот день никто так и не выбросил её.На третий день, по пути в школу, я проходила мимо той же кожуры, которая лежала у подъезда уже несколько дней. Уроки закончились быстро, и я, не оглядываясь, побежала домой. Уж очень была мне интересна судьба банановой кожуры. Прибыв на место, я её не обнаружила и радостная зашла в подъезд, ведь нашёлся добрый и воспитанный человек, который не смог пройти мимо неё. Каково же было моё удивление, когда я увидела кожуру в подъезде, на лестничной площадке. Отлично. Её перетащили туда, где она мешает её больше. Я бы без каких-либо проблем сама выбросила бы её, но я хотела пойти до конца и продолжила следить.И вот уже четвёртый день. А банановая кожура всё на том же месте. Видеть её каждый день, возвращаясь из школы, уже вошло в привычку. В тот день в наш подъезд заселились новые соседи. Молодая семья с двухлетним мальчиком- Сашей. И вроде бы, воспитанные и приветливые, но мимо кожуры всё равно прошли.На пятый день, увидев её в очередной раз, я решила, что после школы, сама возьму и выброшу её. Уже не было смысла наблюдать, я поняла, что она никому не мешает и что выбрасывать её никто не собирается. С такими мыслями я пошла в школу. Домой я возвращалась, думая только о кожуре, я уже представляла, как я выброшу её и со спокойной душой пойду домой. И вот, я захожу в подъезд, кожура лежит там же, я останавливаюсь и смотрю на неё в последний раз, так сказать. Вдруг я вижу спускающегося со второго этажа маленького Сашу, который замечает эту кожуру, берёт её и выбрасывает в мусорный ящик.Целую неделю я ждала, пока это произойдёт, ожидала увидеть кого-угодно, выбрасывающего её, но не двухлетнего мальчишку, у которого было больше совести, чем у нас, взрослых людей.
Биева Карина. Кот Буська
У меня заболел кот, милое пушистое создание, которое с благодарностью принимает нашу бесконечную любовь к нему. Врач осмотрел его, буркнул что-то непонятное на айболитовском языке и пропал за дверью, куда доступ нам, смертным, строго воспрещен. И я сижу, жду, когда откроется «запретная» дверь и добрый доктор Айболит вернет мне моё сокровище. Он дорог мне не потому, что представитель дорогой породы – это обычный кот. Нет, я оговорилась, он необычный, он единственный, такого больше нет, и судьба у него почти человеческая. Лучше расскажу вам всё по порядку.
Несколько лет назад, когда мы строили дом, кто-то повадится воровать еду. Неудивительно, ведь всё лежало на импровизированном столе, который представлял из себя старую дверь, положенную на несколько колонок сложенных друг на друга кирпичей и покрытую клеёнкой. Воришку долгое время не могли поймать. Он подыскивал именно тот момент, когда никого не было в поле зрения, и совершал кражу. Как-то иду домой и вижу, через горку песка передвигается куриная ножка, которая, при хорошем исходе, могла бы украсить мою обеденную тарелку.
Я подбежала и увидела, что её тащит маленький рыжий котёнок, которого издалека на желтом песке и не заметила. Хотела было отобрать краденое, но не тут –то было. Эта рыжая бестия рьяно стала на защиту добычи. Напыжилась, напряглась так, что шерстинки стали дыбом в прямом смысле этого слова, и стала похожа на маленького смешного ёжика; для пущего эффекта зафыркала даже, чем сильно рассмешила меня. Видя, что её действия не возымели должного эффекта, она обеими лапками цепко ухватилась за ножку, как бы говоря: «Не отдам, хоть убей!» Я потянулась за мясом, но цепкие коготки вонзились в руку так, что я от неожиданности и боли вскрикнула. Воришка не собирался так легко отпускать добычу. Да и зачем мне она? Мясо давно было непригодно для пищи.
Ножка была порядком больше похитителя, и тащить её - было дело не из легких, но мысль, что больше на его добычу никто не посягает, придавала ему сил: он пыхтел, останавливался, чтобы передохнуть, и тащил её дальше. Я, конечно же, могла бы помочь, но помощь мою он тоже не принял бы, по всей вероятности, людям он не доверял, и потому оставалось только наблюдать за ним со стороны. Я ждала, что маленькие хищники передерутся из-за еды, но нет, обед проходил в довольно милой и дружелюбной обстановке.
Мой разбойник ел меньше, чем собратья, был худощавым, но жилистым, шёрстка огненно-рыжая и очень грязная, хищные желтые глаза печальны и текут, и вокруг них накопилось много грязи. Два других котенка намного красивее моего горе-знакомого, беленькие, пушистые, упитанные. Синие глазки смотрят вокруг с любопытством и опаской.
Когда куриная ножка уверенно перебазировалась в кошачьи желудки, я решила подойти поближе к новым знакомым, но два котёнка быстро попрятались, а рыжик опять стал в позу и зафыркал, думая, что у него супер-купер устрашающий вид. Я резко схватила его, и этот рыжий комочек оказался у меня в руках. Дрожь прошла по его худенькому тельцу, и мои руки ясно ощутили это. Хищные глазки смотрели теперь недоверчиво и умоляюще. «Ну хватит дуться»,- сказала я ласково и погладила котёночка от макушки до самого хвостика. Он опять задрожал, но теперь уже от неожиданности. Было ясно - его никто никогда не ласкал. Я продолжала гладить его, и он уже не вырывался из рук и с любопытством, но всё ещё с опаской изучал меня. Только теперь я заметила, что прямо под глазом его торчал шип акации. Я машинально потянула и вытащила занозу, а из ранки фонтаном хлестнул гной. Бедный котёночек, где же его угораздило так пораниться? Я прижала с себе животное и побежала домой, схватила со стола салфетки, найти перекись водорода не составляло особого труда, он всегда был на стройке под рукой. С этим медицинским набором пошла в уединённое место. Мне предстояло вычистить ранку, из которой несло зловонием. От мысли, что имею дело с гноем, слегка поташнивало. Я легонько надавила место вокруг ранки и гной опять ручьём побежал по шерстке котёнка. Котенок не сопротивлялся, мне даже показалось, что ему приятны мои действия. Когда рана была вычищена, передо мной лежала гора грязных салфеток. Осталось обработать больное место. Жидкость капнула в дырочку, образовавшуюся после занозы. Котенок вырвался из моих рук и был таков. Я ещё несколько раз ловила его и обрабатывала ранку. Она очень быстро зажила.
Мы с котенком, сами того не замечая, стали близкими друзьями. Я угощала его разными кошачьими вкусностями, которыми он не забывал делиться со своими сородичами, которые, как потом выяснилось, были девочки.
На момент знакомства моему другу было примерно четыре или пять месяцев. Их мать скорее всего умерла, а они с двумя другими котятами жили изгоями, и по их повадкам можно было понять, что ласки они не знали, а человеческой жестокости за свой недолгий кошачий век нахватались с лихвой.
За короткое время мой грязнуля преобразился. Он тщательно вылизывал себя, и скоро шёрстка стала шелковистой. А широкие коричневатые полосы поперёк туловища, которые раньше не были даже заметны, делали его похожим на тигрёнка. Походка стала важной. Вороватые глаза теперь смотрели на меня преданно и уверенно. Какое-то благородство появилось и в осанке. Он часами мог дремать у меня на руках и мурлыкать.
Приближалась осень. Я с тоской и страхом начала думать о том, как мне быть с котенком. Мысленно отправлялась в деревню к мультяшному Дяде Фёдору со своим четвероногим другом, но понимала, что это только мечты. Одно знала точно, предать его я не смогу, и поэтому перебрала весь запас слов, который помог бы убедить родителей взять котёнка. Нужен был особый случай. И он, к моему счастью, не заставил ждать.
Дело в том, что воровать мой рыжий бесстыдник еще не бросил, надо же как то содержать сестёр. При очередной краже на месте преступления его застал папа, пошел за ним и поразился его заботливости. Тут уж я своим красноречием надавила на чувства. Не успел папа опомниться, как в доме у нас появился рыжий начальник. Папе осталось лишь возразить, что там, на улице, еще двое котят, которых он ни при каких обстоятельствах не согласен впустить в дом. Их мы быстро пристроили. Моя подруга хотела котенка и, увидев маленький белоснежный комочек, сразу забрала его. Для другого тоже нашелся хозяин через несколько дней.
Наш новый жилец быстро смекнул, кто в доме хозяин. Держал себя с папой сдержанно, но уверенно. Смекнул также, что самая важная для папы вещь – это пульт и всегда приносил его, где бы он не был, и папа по достоинству оценил это. С остальными не церемонился, даже использовал их иногда, но это не мешало нам любить его. Он стал полноправным членом семьи.
Кошачий корм наш повелитель есть не захотел, предпочитал всё, что едим мы: и огурец, и помидор, и даже арбуз. Но мясо было его излюбленной едой. Нет, не сырое, а поджаренное, с перчиком и другими приправами. Его но мог есть бесконечно. С его появлением все поняли, что не хотят котлетку, потому что Буська их страсть как любит. (Буськой его назвали, потому что его глаза напоминали бусинки из янтаря).
Как только садились за стол, он немедленно подходил к папе, намяукивал ему что-то, папа же, в свою очередь, в шутку приказывал: «Почему кота не накормили. Ну-ка, быстро дали ему поесть» - после чего тот незамедлительно шел к холодильнику, и если за это время ничего оттуда для него не достали, снова поворачивался к папе и мяукал, мол, «смотри, они тебя не слушаются». Нас забавляло, как он делал. И вообще, Буська был нашим антидепрессантом. Он чувствовал настроение каждого домочадца и находил индивидуальный подход к каждому. Только детей не понимал. После того, как пришедший в гости ребёнок потянул его за хвост, он решил дел с ними не иметь вообще. При их появлении он просто исчезал как по волшебству и появлялся, как только те уходили.
А недавно был такой случай – просыпаемся мы от дикого визга нашего Буськи, выбегаем во двор, а он там преградил змее дорогу, стоит, напыжившись, у калитки, орёт, а змея шипит, кидается на него и хочет ужалить. Буська же ловко отмахивается от нападок непрошенной гостьи, потом молниеносно кидается на неё, хватает за горло и не отпускает, пока та не умерла.
После этого случая Буська стал нашим героем. Каждый раз, когда кто-нибудь приходил в гости, папа рассказывал о героическом подвиге Буськи, а тот гордо сидел возле папы, с достоинством слушая похвалы в свой адрес, и весь его вид как бы говорил: «Да, я такой. И поэтому будьте добры, любите меня»
А теперь он заболел, не ест и не пьёт. И наш аппетит куда-то подевался. Все переживают за Буську, даже папа. Я не перенесу, если с ним что-то случится. Ему всего-то четыре года, а пережил намного больше чем , например, я. Он изменил меня, раскрыл во мне много хороших качеств, таких как доброта, сострадание, научил доводить начатое до конца, показал, как должны строиться отношения в семье. Я поняла, что отдавать намного приятнее, чем получать. Я поняла, как может тянуться время в ожидании, и как быстро оно летит, когда ты никуда не торопишься и у тебя нет проблем. Я поняла, что боль лечит душу. Я поняла, что значит страх потери. И поняла наконец, что боль и страх приближают к Богу. И вот сижу и мысленно молю Создателя, чтобы Буська выздоровел. «Тебе же не трудно, Ты же всё можешь». Внезапно в помещение врывается солнечный луч и озаряет «запретную» дверь. Это знак. Теперь я уже не переживаю. Буська будет жить.
Через некоторое время дверь «запретной» комнаты распахнулась. На пороге Айболит, он протянул мне свёрток, я подумала было, что это труп моего кота, но доктор сказал, что наше животное оказалось на редкость везучим, и что в горле у него застряла рыбья косточка, которую он вытащил не без труда. «Будет жить, не переживайте», - говорит он. Я беру этот бесценный груз на руки и по моему телу проходит дрожь, такая же, как и у котенка, когда я его первый раз взяла на руки. Думаю, мы испытали одно и то же чувство, в котором были и страх, и благоговение одновременно. Он еще отходит от наркоза, но инстинктивно прижимается ко мне.
У меня заболел кот, милое пушистое создание, которое с благодарностью принимает нашу бесконечную любовь к нему. Врач осмотрел его, буркнул что-то непонятное на айболитовском языке и пропал за дверью, куда доступ нам, смертным, строго воспрещен. И я сижу, жду, когда откроется «запретная» дверь и добрый доктор Айболит вернет мне моё сокровище. Он дорог мне не потому, что представитель дорогой породы – это обычный кот. Нет, я оговорилась, он необычный, он единственный, такого больше нет, и судьба у него почти человеческая. Лучше расскажу вам всё по порядку.
Несколько лет назад, когда мы строили дом, кто-то повадится воровать еду. Неудивительно, ведь всё лежало на импровизированном столе, который представлял из себя старую дверь, положенную на несколько колонок сложенных друг на друга кирпичей и покрытую клеёнкой. Воришку долгое время не могли поймать. Он подыскивал именно тот момент, когда никого не было в поле зрения, и совершал кражу. Как-то иду домой и вижу, через горку песка передвигается куриная ножка, которая, при хорошем исходе, могла бы украсить мою обеденную тарелку.
Я подбежала и увидела, что её тащит маленький рыжий котёнок, которого издалека на желтом песке и не заметила. Хотела было отобрать краденое, но не тут –то было. Эта рыжая бестия рьяно стала на защиту добычи. Напыжилась, напряглась так, что шерстинки стали дыбом в прямом смысле этого слова, и стала похожа на маленького смешного ёжика; для пущего эффекта зафыркала даже, чем сильно рассмешила меня. Видя, что её действия не возымели должного эффекта, она обеими лапками цепко ухватилась за ножку, как бы говоря: «Не отдам, хоть убей!» Я потянулась за мясом, но цепкие коготки вонзились в руку так, что я от неожиданности и боли вскрикнула. Воришка не собирался так легко отпускать добычу. Да и зачем мне она? Мясо давно было непригодно для пищи.
Ножка была порядком больше похитителя, и тащить её - было дело не из легких, но мысль, что больше на его добычу никто не посягает, придавала ему сил: он пыхтел, останавливался, чтобы передохнуть, и тащил её дальше. Я, конечно же, могла бы помочь, но помощь мою он тоже не принял бы, по всей вероятности, людям он не доверял, и потому оставалось только наблюдать за ним со стороны. Я ждала, что маленькие хищники передерутся из-за еды, но нет, обед проходил в довольно милой и дружелюбной обстановке.
Мой разбойник ел меньше, чем собратья, был худощавым, но жилистым, шёрстка огненно-рыжая и очень грязная, хищные желтые глаза печальны и текут, и вокруг них накопилось много грязи. Два других котенка намного красивее моего горе-знакомого, беленькие, пушистые, упитанные. Синие глазки смотрят вокруг с любопытством и опаской.
Когда куриная ножка уверенно перебазировалась в кошачьи желудки, я решила подойти поближе к новым знакомым, но два котёнка быстро попрятались, а рыжик опять стал в позу и зафыркал, думая, что у него супер-купер устрашающий вид. Я резко схватила его, и этот рыжий комочек оказался у меня в руках. Дрожь прошла по его худенькому тельцу, и мои руки ясно ощутили это. Хищные глазки смотрели теперь недоверчиво и умоляюще. «Ну хватит дуться»,- сказала я ласково и погладила котёночка от макушки до самого хвостика. Он опять задрожал, но теперь уже от неожиданности. Было ясно - его никто никогда не ласкал. Я продолжала гладить его, и он уже не вырывался из рук и с любопытством, но всё ещё с опаской изучал меня. Только теперь я заметила, что прямо под глазом его торчал шип акации. Я машинально потянула и вытащила занозу, а из ранки фонтаном хлестнул гной. Бедный котёночек, где же его угораздило так пораниться? Я прижала с себе животное и побежала домой, схватила со стола салфетки, найти перекись водорода не составляло особого труда, он всегда был на стройке под рукой. С этим медицинским набором пошла в уединённое место. Мне предстояло вычистить ранку, из которой несло зловонием. От мысли, что имею дело с гноем, слегка поташнивало. Я легонько надавила место вокруг ранки и гной опять ручьём побежал по шерстке котёнка. Котенок не сопротивлялся, мне даже показалось, что ему приятны мои действия. Когда рана была вычищена, передо мной лежала гора грязных салфеток. Осталось обработать больное место. Жидкость капнула в дырочку, образовавшуюся после занозы. Котенок вырвался из моих рук и был таков. Я ещё несколько раз ловила его и обрабатывала ранку. Она очень быстро зажила.
Мы с котенком, сами того не замечая, стали близкими друзьями. Я угощала его разными кошачьими вкусностями, которыми он не забывал делиться со своими сородичами, которые, как потом выяснилось, были девочки.
На момент знакомства моему другу было примерно четыре или пять месяцев. Их мать скорее всего умерла, а они с двумя другими котятами жили изгоями, и по их повадкам можно было понять, что ласки они не знали, а человеческой жестокости за свой недолгий кошачий век нахватались с лихвой.
За короткое время мой грязнуля преобразился. Он тщательно вылизывал себя, и скоро шёрстка стала шелковистой. А широкие коричневатые полосы поперёк туловища, которые раньше не были даже заметны, делали его похожим на тигрёнка. Походка стала важной. Вороватые глаза теперь смотрели на меня преданно и уверенно. Какое-то благородство появилось и в осанке. Он часами мог дремать у меня на руках и мурлыкать.
Приближалась осень. Я с тоской и страхом начала думать о том, как мне быть с котенком. Мысленно отправлялась в деревню к мультяшному Дяде Фёдору со своим четвероногим другом, но понимала, что это только мечты. Одно знала точно, предать его я не смогу, и поэтому перебрала весь запас слов, который помог бы убедить родителей взять котёнка. Нужен был особый случай. И он, к моему счастью, не заставил ждать.
Дело в том, что воровать мой рыжий бесстыдник еще не бросил, надо же как то содержать сестёр. При очередной краже на месте преступления его застал папа, пошел за ним и поразился его заботливости. Тут уж я своим красноречием надавила на чувства. Не успел папа опомниться, как в доме у нас появился рыжий начальник. Папе осталось лишь возразить, что там, на улице, еще двое котят, которых он ни при каких обстоятельствах не согласен впустить в дом. Их мы быстро пристроили. Моя подруга хотела котенка и, увидев маленький белоснежный комочек, сразу забрала его. Для другого тоже нашелся хозяин через несколько дней.
Наш новый жилец быстро смекнул, кто в доме хозяин. Держал себя с папой сдержанно, но уверенно. Смекнул также, что самая важная для папы вещь – это пульт и всегда приносил его, где бы он не был, и папа по достоинству оценил это. С остальными не церемонился, даже использовал их иногда, но это не мешало нам любить его. Он стал полноправным членом семьи.
Кошачий корм наш повелитель есть не захотел, предпочитал всё, что едим мы: и огурец, и помидор, и даже арбуз. Но мясо было его излюбленной едой. Нет, не сырое, а поджаренное, с перчиком и другими приправами. Его но мог есть бесконечно. С его появлением все поняли, что не хотят котлетку, потому что Буська их страсть как любит. (Буськой его назвали, потому что его глаза напоминали бусинки из янтаря).
Как только садились за стол, он немедленно подходил к папе, намяукивал ему что-то, папа же, в свою очередь, в шутку приказывал: «Почему кота не накормили. Ну-ка, быстро дали ему поесть» - после чего тот незамедлительно шел к холодильнику, и если за это время ничего оттуда для него не достали, снова поворачивался к папе и мяукал, мол, «смотри, они тебя не слушаются». Нас забавляло, как он делал. И вообще, Буська был нашим антидепрессантом. Он чувствовал настроение каждого домочадца и находил индивидуальный подход к каждому. Только детей не понимал. После того, как пришедший в гости ребёнок потянул его за хвост, он решил дел с ними не иметь вообще. При их появлении он просто исчезал как по волшебству и появлялся, как только те уходили.
А недавно был такой случай – просыпаемся мы от дикого визга нашего Буськи, выбегаем во двор, а он там преградил змее дорогу, стоит, напыжившись, у калитки, орёт, а змея шипит, кидается на него и хочет ужалить. Буська же ловко отмахивается от нападок непрошенной гостьи, потом молниеносно кидается на неё, хватает за горло и не отпускает, пока та не умерла.
После этого случая Буська стал нашим героем. Каждый раз, когда кто-нибудь приходил в гости, папа рассказывал о героическом подвиге Буськи, а тот гордо сидел возле папы, с достоинством слушая похвалы в свой адрес, и весь его вид как бы говорил: «Да, я такой. И поэтому будьте добры, любите меня»
А теперь он заболел, не ест и не пьёт. И наш аппетит куда-то подевался. Все переживают за Буську, даже папа. Я не перенесу, если с ним что-то случится. Ему всего-то четыре года, а пережил намного больше чем , например, я. Он изменил меня, раскрыл во мне много хороших качеств, таких как доброта, сострадание, научил доводить начатое до конца, показал, как должны строиться отношения в семье. Я поняла, что отдавать намного приятнее, чем получать. Я поняла, как может тянуться время в ожидании, и как быстро оно летит, когда ты никуда не торопишься и у тебя нет проблем. Я поняла, что боль лечит душу. Я поняла, что значит страх потери. И поняла наконец, что боль и страх приближают к Богу. И вот сижу и мысленно молю Создателя, чтобы Буська выздоровел. «Тебе же не трудно, Ты же всё можешь». Внезапно в помещение врывается солнечный луч и озаряет «запретную» дверь. Это знак. Теперь я уже не переживаю. Буська будет жить.
Через некоторое время дверь «запретной» комнаты распахнулась. На пороге Айболит, он протянул мне свёрток, я подумала было, что это труп моего кота, но доктор сказал, что наше животное оказалось на редкость везучим, и что в горле у него застряла рыбья косточка, которую он вытащил не без труда. «Будет жить, не переживайте», - говорит он. Я беру этот бесценный груз на руки и по моему телу проходит дрожь, такая же, как и у котенка, когда я его первый раз взяла на руки. Думаю, мы испытали одно и то же чувство, в котором были и страх, и благоговение одновременно. Он еще отходит от наркоза, но инстинктивно прижимается ко мне.
Мусхажиева Лиана. Музыкальная шкатулка
В лунную морозную ночь декабря в старом и гулком доме заиграла грустная мелодия. Это проснулась от многолетнего сна музыкальная шкатулка. Играла она долго, наполняя дом таинственным и переливающимся звоном.
Дени был единственным в доме, кто очнулся ото сна. Он лежал неподвижно и внимал печальной мелодии, которая завораживала его своим волшебством. Он чувствовал, как от шкатулки исходил ореол старины, зовущий его предаваться мечтам о средневековых замках, о поисках затонувших с сокровищами кораблей конкистадоров, об открытии новых неведомых человечеству земель и ее обитателей. Его детское воображение заполняли собой образы из исторических и приключенческих романов писателей прошлого столетия.
Дени часами сидел в кабинете отца и, не отвлекаясь, читал романы Жюля Верна, Вальтера Скотта, Льюиса Стивенсона. Особенно увлекательным для него было чтение в пасмурные дождливые дни осени, когда тяжелые капли мирно стучали по кровле крыши старого деревянного дома, и по водосточной трубе быстрой и прозрачной струей вода лилась вниз и скапливалась в лужи на серой плитке перед крыльцом. Такая погода помогала ему глубже вникать в сюжетную канву произведений и проникаться духом той эпохи, в которой развивались события. Также, подперев свое кругленькое личико кулачками, Дени любил сидеть у окна в гостиной и смотреть, как мокрые пожелтевшие листья вздрагивали и дрожали на деревьях в саду от ударов дождевых капель.
В такие дни мальчик забирался на чердак и рассматривал старинные вещи, которые годами пылились и затягивались мохнатой серой паутиной. Здесь он находил бережно обернутые светлой тканью огромные семейные альбомы с выцветшими и потускневшими фотографиями. Он медленно перелистывал страницы и подолгу внимательно рассматривал суровые и грозные лица своих дедов и прадедов. Он испытывал к ним почитание и уважение. В такие мгновения в душе его укреплялась гордость за свой народ и его героическую историю. Щеки Дени начинали гореть румянцем, и чувство искренней благодарности Всевышнему переполняло его детскую чистую душу.
Затем он переводил свой взгляд в угол чердака, где завернутое отцом в полотно стояло ружье времен Кавказской войны, принадлежавшее прадеду Дени. Ему очень хотелось подержать ружье в руках, но он знал, что отец бы этого не одобрил. Поэтому он, глубоко вздохнув, закрывал семейный альбом и принимался разглядывать иные предметы, такие, как бронзовые подсвечники, медную кофейную мельницу, оставшуюся еще с прошлого столетия, стопки книг, перевязанных тонкой бечевкой.
Но однажды среди всех этих памятных для его семьи вещей Дени нашел старую музыкальную шкатулку с заводным позолоченным ключиком. Она была сделана из черного дерева и покрыта тонким слоем лака. Изнутри шкатулка была обтянута алым бархатом с вращающимся медным валиком с множеством тонких шипов. Чтобы завести механизм, ключик нужно было несколько раз повернуть, тогда шкатулка открывалась и начинала играть легкую грустную мелодию. А в центре на маленькой подставке была закреплена белоснежная украшенная золотистым орнаментом лошадка с вьющейся гривой. Когда шкатулка играла, подставка начинала крутиться, и казалось, что лошадка скачет, перепрыгивая через невидимые барьеры.
Рукавом от рубашки Дени протер с нее пыль, а затем спустил с чердака и принес в гостиную. Он сел на краешек кресла, держа шкатулку на коленях. С трогательным детским волнением мальчик повернул заводной ключик, но шкатулка не заиграла. Тогда Дени, затаив дыхание, подождал немного и вновь повернул ключик. Шкатулка упорно продолжала хранить молчание. Он удивленно приподнял темные бровки и начал вертеть шкатулку, силясь понять, как ее завести. Но заставить вновь шкатулку проиграть мелодию у него не вышло. Он печально вздохнул, посмотрел в затуманенное дождем окно, и лицо его, круглое, нежное – тоже было затуманено налетом прозрачной легкой грусти. Он понял, что шкатулка была испорчена. Дени поставил ее на каминную полку рядом со статуэткой сторожевой башни и больше о ней не вспоминал.
И вот в эту морозную декабрьскую ночь мальчик услышал хрустальный переливающийся звон. Он сразу догадался, что это заиграла шкатулка. Он быстро отбросил в сторону покрывало и подбежал к старшему брату, спящему в кровати у противоположной стены комнаты.
– Садо, просыпайся! Вставай, Садо! Просыпайся же ты! Садо, шкатулка! Шкатулка! – взволновано говорил Дени, при этом сильно дергая брата за руку.
Садо резко выпрямился и стал вертеть головой, не понимая, что случилось. Увидев перед собой младшего брата, он зевнул, протер глаза тыльной стороной руки и сонно проговорил:
– Дени, ты чего не спишь? Ночь же, иди, ложись спать и мне не мешай, – он хотел уже было вновь укутаться в одеяло и заснуть, как Дени стащил с него покрывало и произнес:
– Садо, послушай! Не засыпай! Слышишь мелодию?
Его старший брат напряг слух и уловил звуки мелодии, доносившиеся из гостиной. Он посмотрел на сияющее от радости лицо Дени и удивленно спросил:
– Это же музыкальная шкатулка?
Дени быстро закивал головой и, схватив старшего брата за правую руку, потянул его из кровати:
– Скорее, идем!
Садо быстро встал на ноги и пошел вслед за Дени. Они быстро миновали прихожую и вошли в гостиную, наполненную ровным серебряным светом луны. Братья подошли к шкатулке и стали смотреть, как под звуки печальной мелодии белая лошадка скачет, перепрыгивая через невидимые барьеры.
Садо аккуратно взял шкатулку, отнес ее на середину комнаты и сел подле нее. Дени последовал за ним.
– Садо, скажи мне, как это возможно, что шкатулка сама заиграла? – глядя брату в глаза, немного улыбаясь, спросил взволнованно мальчик.
– Видимо, в ней соскочила одна из пружин механизма, – предположил Садо.
– Она с осени стояла на полке, я уже о ней и забыл, и вдруг она проснулась, – промолвил воодушевленно Дени.
Садо окинул его спокойным взглядом:
– Дени, не стоит так превозносить достоинства музыкальной шкатулки, – тихо промолвил он.
– А разве это плохо? – спросил Дени.
– Когда ты ее слушаешь, у тебя возникает желание погружаться в мир грусти и одиночества, а это не так уж и хорошо. Ты можешь стать мечтателем, если уже им не стал. Учитывая, как ты проводишь свое время, это неудивительно, – ответил Садо.
– Я не вижу в этом ничего плохого, – произнес с грустью Дени.
–Ты пойми, Дени, так уж сложилось, что люди не склоны прощать мечтателей. Когда ты станешь старше, ты столкнешься с грубостью и жестокостью. Все через это проходят. Но не стоит отчаиваться, ведь это поможет закалить твой дух и характер. А мечты уводят тебя от реальности, заставляют терять бдительность. Ты и не заметишь, как станешь слаб и раним, поэтому сказкам и мечтам больше не должно быть места в твоем сердце. Ты должен повзрослеть, смирись с этим, – закончил свою речь Садо и погладил своего младшего брата теплой широкой ладонью по голове.
Дени пристально посмотрел в серые мудрые глаза своего брата и произнес:
– Тебе только недавно исполнилось семнадцать лет, но сам ты говоришь так, как говорят взрослые: сурово, твердо, не оставляя никакой надежды.
Садо слегка улыбнулся, покачал головой и промолвил:
– Рано или поздно, Дени, ты тоже будешь так говорить. Как и все мечтатели, ты путаешь разочарование с истиной.
Мальчик покусывал нижнюю губу и продолжал слушать брата. Он и не заметил, как шкатулка умолкла. Все его внимание теперь было направлено на старшего брата.
– Взгляни на эту музыкальную шкатулку, – тем временем продолжал Садо. – Это изящная вещь, которая создана лишь для того, чтобы ты мог уходить в мир грез и сновидений подальше от реальности, подальше от проблем и невзгод.
– А разве это плохо: жить в мире снов? – спросил Дени
– Да, – коротко ответил Садо.
– Почему? – удивился мальчик.
– Тебе придется проснуться, и ты вновь тогда окажешься перед лицом реальности, от которой ты так стремился сбежать. Не проще ли искоренить в себе иллюзии и жить всегда с холодной, спокойной рассудительностью, Дени? Как ты считаешь? – поинтересовался Садо, закрыв рукой музыкальную шкатулку и отодвинув ее в сторону.
– Я не знаю, Садо, – тихо произнес мальчик.
– Узнаешь, если ты перестанешь предаваться мечтам и займешься тем, что поможет улучшить в тебе физические и умственные способности, – сказал Садо.
Дени тяжело вздохнул, опустил в задумчивости на грудь голову, затем произнес:
– Ты прав, Садо. Я все понял. Завтра же я отнесу эту шкатулку обратно на чердак. Больше она не потревожит никого в этом доме, – и мальчик взглянул на своего брата.
Садо ничего не сказал, только кивнул головой в знак согласия, встал и подошел к окну.
Садо стоял и смотрел на небо. Он вспомнил себя в возрасте Дени. Ведь он, подобно своему младшему брату, так же в дождливый осенний вечер наткнулся на эту самую музыкальную шкатулку, так же в морозную зимнюю ночь услышал ее мелодию и зачарованно глядел на нее, пока не заснул под грустный фортепианный мотив звучащей мелодии. Наутро отец, вошедший в гостиную для совершения молитвы, обнаружил своего сына, спящего на полу подле музыкальной шкатулки. Он печально посмотрел на него и понял, что Садо растет мечтательным, склонным к меланхолии мальчиком, и если он останется таким, то в жизни ему не удастся стойко преодолевать все трудности и невзгоды. Поэтому по завершении молитвы отец разбудил Садо, усадил его подле себя на полу и поговорил с ним, терпеливо отвечая на все вопросы своего сына.
С тех пор прошло семь лет, и те слова, что отец произнес тем утром своему сыну, Садо повторил их младшему брату.
Дени, все это время наблюдавший за тем, как его старший брат о чем-то размышляет, поднялся на ноги и подошел к нему. За стеклом мальчик увидел, как в саду с веток деревьев сыпался снег, похожий на хрустальный дождь. Он перевел взгляд ясных голубых глаз на Садо и с детской доверчивостью обхватил его руками. Старший брат взглянул на Дени, улыбнулся ему и, положив правую руку на плечо брата, крепко прижал его к себе.
– Скоро рассвет. Необходимо подготовиться к утренней молитве. Идем, я обучу тебя священным словам, – произнес Садо.
Дени в ответ широко улыбнулся и довольно кивнул головой.
В лунную морозную ночь декабря в старом и гулком доме заиграла грустная мелодия. Это проснулась от многолетнего сна музыкальная шкатулка. Играла она долго, наполняя дом таинственным и переливающимся звоном.
Дени был единственным в доме, кто очнулся ото сна. Он лежал неподвижно и внимал печальной мелодии, которая завораживала его своим волшебством. Он чувствовал, как от шкатулки исходил ореол старины, зовущий его предаваться мечтам о средневековых замках, о поисках затонувших с сокровищами кораблей конкистадоров, об открытии новых неведомых человечеству земель и ее обитателей. Его детское воображение заполняли собой образы из исторических и приключенческих романов писателей прошлого столетия.
Дени часами сидел в кабинете отца и, не отвлекаясь, читал романы Жюля Верна, Вальтера Скотта, Льюиса Стивенсона. Особенно увлекательным для него было чтение в пасмурные дождливые дни осени, когда тяжелые капли мирно стучали по кровле крыши старого деревянного дома, и по водосточной трубе быстрой и прозрачной струей вода лилась вниз и скапливалась в лужи на серой плитке перед крыльцом. Такая погода помогала ему глубже вникать в сюжетную канву произведений и проникаться духом той эпохи, в которой развивались события. Также, подперев свое кругленькое личико кулачками, Дени любил сидеть у окна в гостиной и смотреть, как мокрые пожелтевшие листья вздрагивали и дрожали на деревьях в саду от ударов дождевых капель.
В такие дни мальчик забирался на чердак и рассматривал старинные вещи, которые годами пылились и затягивались мохнатой серой паутиной. Здесь он находил бережно обернутые светлой тканью огромные семейные альбомы с выцветшими и потускневшими фотографиями. Он медленно перелистывал страницы и подолгу внимательно рассматривал суровые и грозные лица своих дедов и прадедов. Он испытывал к ним почитание и уважение. В такие мгновения в душе его укреплялась гордость за свой народ и его героическую историю. Щеки Дени начинали гореть румянцем, и чувство искренней благодарности Всевышнему переполняло его детскую чистую душу.
Затем он переводил свой взгляд в угол чердака, где завернутое отцом в полотно стояло ружье времен Кавказской войны, принадлежавшее прадеду Дени. Ему очень хотелось подержать ружье в руках, но он знал, что отец бы этого не одобрил. Поэтому он, глубоко вздохнув, закрывал семейный альбом и принимался разглядывать иные предметы, такие, как бронзовые подсвечники, медную кофейную мельницу, оставшуюся еще с прошлого столетия, стопки книг, перевязанных тонкой бечевкой.
Но однажды среди всех этих памятных для его семьи вещей Дени нашел старую музыкальную шкатулку с заводным позолоченным ключиком. Она была сделана из черного дерева и покрыта тонким слоем лака. Изнутри шкатулка была обтянута алым бархатом с вращающимся медным валиком с множеством тонких шипов. Чтобы завести механизм, ключик нужно было несколько раз повернуть, тогда шкатулка открывалась и начинала играть легкую грустную мелодию. А в центре на маленькой подставке была закреплена белоснежная украшенная золотистым орнаментом лошадка с вьющейся гривой. Когда шкатулка играла, подставка начинала крутиться, и казалось, что лошадка скачет, перепрыгивая через невидимые барьеры.
Рукавом от рубашки Дени протер с нее пыль, а затем спустил с чердака и принес в гостиную. Он сел на краешек кресла, держа шкатулку на коленях. С трогательным детским волнением мальчик повернул заводной ключик, но шкатулка не заиграла. Тогда Дени, затаив дыхание, подождал немного и вновь повернул ключик. Шкатулка упорно продолжала хранить молчание. Он удивленно приподнял темные бровки и начал вертеть шкатулку, силясь понять, как ее завести. Но заставить вновь шкатулку проиграть мелодию у него не вышло. Он печально вздохнул, посмотрел в затуманенное дождем окно, и лицо его, круглое, нежное – тоже было затуманено налетом прозрачной легкой грусти. Он понял, что шкатулка была испорчена. Дени поставил ее на каминную полку рядом со статуэткой сторожевой башни и больше о ней не вспоминал.
И вот в эту морозную декабрьскую ночь мальчик услышал хрустальный переливающийся звон. Он сразу догадался, что это заиграла шкатулка. Он быстро отбросил в сторону покрывало и подбежал к старшему брату, спящему в кровати у противоположной стены комнаты.
– Садо, просыпайся! Вставай, Садо! Просыпайся же ты! Садо, шкатулка! Шкатулка! – взволновано говорил Дени, при этом сильно дергая брата за руку.
Садо резко выпрямился и стал вертеть головой, не понимая, что случилось. Увидев перед собой младшего брата, он зевнул, протер глаза тыльной стороной руки и сонно проговорил:
– Дени, ты чего не спишь? Ночь же, иди, ложись спать и мне не мешай, – он хотел уже было вновь укутаться в одеяло и заснуть, как Дени стащил с него покрывало и произнес:
– Садо, послушай! Не засыпай! Слышишь мелодию?
Его старший брат напряг слух и уловил звуки мелодии, доносившиеся из гостиной. Он посмотрел на сияющее от радости лицо Дени и удивленно спросил:
– Это же музыкальная шкатулка?
Дени быстро закивал головой и, схватив старшего брата за правую руку, потянул его из кровати:
– Скорее, идем!
Садо быстро встал на ноги и пошел вслед за Дени. Они быстро миновали прихожую и вошли в гостиную, наполненную ровным серебряным светом луны. Братья подошли к шкатулке и стали смотреть, как под звуки печальной мелодии белая лошадка скачет, перепрыгивая через невидимые барьеры.
Садо аккуратно взял шкатулку, отнес ее на середину комнаты и сел подле нее. Дени последовал за ним.
– Садо, скажи мне, как это возможно, что шкатулка сама заиграла? – глядя брату в глаза, немного улыбаясь, спросил взволнованно мальчик.
– Видимо, в ней соскочила одна из пружин механизма, – предположил Садо.
– Она с осени стояла на полке, я уже о ней и забыл, и вдруг она проснулась, – промолвил воодушевленно Дени.
Садо окинул его спокойным взглядом:
– Дени, не стоит так превозносить достоинства музыкальной шкатулки, – тихо промолвил он.
– А разве это плохо? – спросил Дени.
– Когда ты ее слушаешь, у тебя возникает желание погружаться в мир грусти и одиночества, а это не так уж и хорошо. Ты можешь стать мечтателем, если уже им не стал. Учитывая, как ты проводишь свое время, это неудивительно, – ответил Садо.
– Я не вижу в этом ничего плохого, – произнес с грустью Дени.
–Ты пойми, Дени, так уж сложилось, что люди не склоны прощать мечтателей. Когда ты станешь старше, ты столкнешься с грубостью и жестокостью. Все через это проходят. Но не стоит отчаиваться, ведь это поможет закалить твой дух и характер. А мечты уводят тебя от реальности, заставляют терять бдительность. Ты и не заметишь, как станешь слаб и раним, поэтому сказкам и мечтам больше не должно быть места в твоем сердце. Ты должен повзрослеть, смирись с этим, – закончил свою речь Садо и погладил своего младшего брата теплой широкой ладонью по голове.
Дени пристально посмотрел в серые мудрые глаза своего брата и произнес:
– Тебе только недавно исполнилось семнадцать лет, но сам ты говоришь так, как говорят взрослые: сурово, твердо, не оставляя никакой надежды.
Садо слегка улыбнулся, покачал головой и промолвил:
– Рано или поздно, Дени, ты тоже будешь так говорить. Как и все мечтатели, ты путаешь разочарование с истиной.
Мальчик покусывал нижнюю губу и продолжал слушать брата. Он и не заметил, как шкатулка умолкла. Все его внимание теперь было направлено на старшего брата.
– Взгляни на эту музыкальную шкатулку, – тем временем продолжал Садо. – Это изящная вещь, которая создана лишь для того, чтобы ты мог уходить в мир грез и сновидений подальше от реальности, подальше от проблем и невзгод.
– А разве это плохо: жить в мире снов? – спросил Дени
– Да, – коротко ответил Садо.
– Почему? – удивился мальчик.
– Тебе придется проснуться, и ты вновь тогда окажешься перед лицом реальности, от которой ты так стремился сбежать. Не проще ли искоренить в себе иллюзии и жить всегда с холодной, спокойной рассудительностью, Дени? Как ты считаешь? – поинтересовался Садо, закрыв рукой музыкальную шкатулку и отодвинув ее в сторону.
– Я не знаю, Садо, – тихо произнес мальчик.
– Узнаешь, если ты перестанешь предаваться мечтам и займешься тем, что поможет улучшить в тебе физические и умственные способности, – сказал Садо.
Дени тяжело вздохнул, опустил в задумчивости на грудь голову, затем произнес:
– Ты прав, Садо. Я все понял. Завтра же я отнесу эту шкатулку обратно на чердак. Больше она не потревожит никого в этом доме, – и мальчик взглянул на своего брата.
Садо ничего не сказал, только кивнул головой в знак согласия, встал и подошел к окну.
Садо стоял и смотрел на небо. Он вспомнил себя в возрасте Дени. Ведь он, подобно своему младшему брату, так же в дождливый осенний вечер наткнулся на эту самую музыкальную шкатулку, так же в морозную зимнюю ночь услышал ее мелодию и зачарованно глядел на нее, пока не заснул под грустный фортепианный мотив звучащей мелодии. Наутро отец, вошедший в гостиную для совершения молитвы, обнаружил своего сына, спящего на полу подле музыкальной шкатулки. Он печально посмотрел на него и понял, что Садо растет мечтательным, склонным к меланхолии мальчиком, и если он останется таким, то в жизни ему не удастся стойко преодолевать все трудности и невзгоды. Поэтому по завершении молитвы отец разбудил Садо, усадил его подле себя на полу и поговорил с ним, терпеливо отвечая на все вопросы своего сына.
С тех пор прошло семь лет, и те слова, что отец произнес тем утром своему сыну, Садо повторил их младшему брату.
Дени, все это время наблюдавший за тем, как его старший брат о чем-то размышляет, поднялся на ноги и подошел к нему. За стеклом мальчик увидел, как в саду с веток деревьев сыпался снег, похожий на хрустальный дождь. Он перевел взгляд ясных голубых глаз на Садо и с детской доверчивостью обхватил его руками. Старший брат взглянул на Дени, улыбнулся ему и, положив правую руку на плечо брата, крепко прижал его к себе.
– Скоро рассвет. Необходимо подготовиться к утренней молитве. Идем, я обучу тебя священным словам, – произнес Садо.
Дени в ответ широко улыбнулся и довольно кивнул головой.
Постникова Софья. Я снова возвращаюсь в деревню
Я еду по ухабистой просёлочной дороге, рассматривая чужие сады из окна машины. Ласковое закатное солнце мелькает между яблонями, вишнёвыми деревьями и сливами, что величаво возвышаются над высокими и не очень заборами. Вспоминаю, как родители привозили меня на дачу к бабушке каждый раз в начале летних каникул. А впереди было целое лето: запах свежих ягод, бурная речка в конце деревни и смех соседских ребят, катающихся на стареньких велосипедах по узким дорогам.
Паркуюсь у родного дома, вылезаю из машины. Вдыхаю этот особый воздух – так пахнет только наша небольшая деревенька, где раньше мне доводилось проводить лето. Солнце в небе прощается, обещая вернуться завтра с новым днём. На улице тепло и все крыши домов окрасились в розовый, провожая уходящий день и с нетерпением ожидая следующего. Где-то над ухом жужжит комар, и я спешу его прихлопнуть. Ещё немного стою у калитки, смотрю на дом по соседству, где жил мой друг Васька. Без понятия, что сейчас с ним. А через дорогу жили Андрей с Ильёй. И опять… совсем не знаю, что стало с моими старыми друзьями.
Захожу в дом, где меня уже ждёт бабушка. Она приготовила мои любимые пирожки, и, пока я раскладывал вещи и привезённые от мамы гостинцы, она подогрела ужин. Мы сели за стол.
У меня уже нет возможности болтать ногами, когда я сижу на стуле. Бабушка постарела, но в её глазах ещё теплится тот добрый огонёк, который я всегда видел в детстве. Я за обе щёки уминаю любимое пюре с котлетой, запивая чаем, который умеет заваривать только бабушка. Она смотрит своей мягкой улыбкой, говорит что-то про то, что я совсем как ребёнок. И почему-то, приезжая в деревню, я всегда становлюсь им.
Недавно мне исполнилось двадцать пять.
Спрашиваю у бабушки, что стало с Васькой, Андреем и Ильёй. Она долго думает и молчит, понемногу начиная вспоминать.
— У Васи-то бабушка умерла несколько лет назад, так они дом этот сразу продали, да и не видела я их больше, — она смотрит в окно, откуда видно бывший Васькин дом. – А Андрейка-то… недавно приезжал. Экой вырос, вытянулся весь и бороду отрастил, — она хмыкает. — Совсем ему не идёт. Он и к нам заходил, про тебя спрашивал. Сам говорит, устроился куда-то в банк, ну там, у вас, — бабушка как-то неопределённо машет рукой. – А Илья, говорит, не приехал, потому что заграницей работает. Учится там, — она принялась вдумчиво смотреть в окно на уходящую вечернюю зарю.
Я киваю, дожёвывая котлету. Глупо смотрю в свою тарелку. Вот как. Теперь мы все взрослые и у всех свои проблемы, работа и жизнь, где уже нет места нашей дружбе. Что-то щемит в груди от осознания, что вернуть наши гулянки с утра и до позднего вечера уже не получится. И всё-таки приятно знать, что у ребят жизнь сложилась хорошо. Жаль, что про Ваську ничего не известно.
Закончив с ужином, я помогаю бабушке убрать со стола. До ночи болтаю с ней о прошедшем и будущем, пока она вяжет очередную пару носков. Когда деревню окутывает ночь, а бабуля уходит спать, я иду в сад.
Прогуливаюсь между стройными рядами помидоров и огурцов, разглядываю зреющие на деревьях яблоки и плавающих в проржавевшей бочке с водой мошек. Никогда не знал, для чего нужна эта бочка. В воздухе витает запах летней ночи, и вспоминаются дни, когда мама с папой тоже приезжали сюда. Как папа вместе с дедушкой жарил шашлыки, мама копалась в огороде, а бабушка угощала всех фирменной шарлоткой. Тогда пахло костром и жареным мясом, а в тёмное ночное небо, усыпанное яркими звёздами, поднимался столб ароматного дыма. Тогда я ещё не разучился радоваться.
А теперь тут никого, да и мы уже давно не собирались так всей семьёй. Родители развелись, а дедушку похоронили ещё несколько лет назад.
Сижу на скамейке у дома. Отсюда видно Васькин дом, где в окнах уже не горит свет. В доме Андрея и Ильи тоже тихо. Кажется, словно детство мне приснилось. Будто не было всего того, что осталось в этой деревне, сохранившись лишь в воспоминаниях. внезапно я вспомнил самую яркую историю из всех, что происходили в деревне. Мне резко захотелось вернуться в то место. Поэтому я сразу же вышел за калитку и, точно зная путь, пошёл в нужную сторону.
— Там ваще-е капец! – рассказывал я тогда своим школьным друзьям после конца лета. – Короче, сейчас расскажу, как было.
Собрались, значит, мы с Васькой и Ильёй с Андреем в одно страшное место. Недавно на краю деревни сгорел дом, и мы решили пойти туда ночью. Андрей рассказывал, что там водятся призраки или ещё какая-то нечисть, не упокоенные души тех, кто там жил. Мы с Васькой соврали своим, что пойдём к Андрею и Илье на ночёвку, а они сказали, что пойдут к нам. И вот ночь, на улицах никого нет, а мы идём туда. Андрей даже взял дедушкин навороченный фонарик!
Сгоревший дом почти сливался с тёмным лесом, что раскинулся за ним. Ночью он был ещё чернее и выглядел очень жутко. Вокруг него не было ни души, даже остальные дома его будто сторонились и стояли поодаль. Идти дальше было страшно.
— Ребят, может не надо? – подал голос Илья, шедший позади всех и иногда выглядывающий из-за наших спин. Он был младшим братом Андрея, поэтому мы часто делали скидку на его возраст. Но здесь отступать было нельзя.
— Поздно, Илюха, — задорно ответил Вася. Он у нас обычно был заводилой, и пойти в эту заброшку ночью тоже предложил он. И казалось, будто у него вообще страха нет. Везде ночь, впереди дом с призраками, а Ваське хоть бы хны!
— Да ладно вам, сверхъестественного, вообще-то, не существует, — ответил Андрей. Он старше всех нас, и он был о-очень умным.
Я молчал, заламывая пальцы. Всё равно было боязно. Вася на фоне начал спорить с Андреем, но мы всё-таки подошли к дому.
Вблизи он был ещё страшнее: в окнах кромешная темнота, двери нет, а обуглившиеся балки были разбросаны по траве вокруг. Тут стало не по себе всем.
— Ну, давай, Андрюха, иди, раз такой смелый, — Вася толкнул его в спину. Андрей первым ступил на порог дома, держа фонарик. Было видно, что рука у Андрея трясётся. Я сглотнул. Под ногами что-то постоянно хрустело и шуршало, и я постоянно оглядывался за спину, внутренне каждый раз сжимаясь в страхе увидеть там кого-то.
Когда все зашли в дом, мы начали медленно шагать вглубь. Андрей то и дело крутил фонариком во все стороны. Я разглядывал то почерневший потолок, то брошенные остатки вещей, которые остались от хозяев. Вдруг раздалось какое-то слабое завывание. Илья подскочил на месте, из моей груди вырвался вскрик. Я замотал головой, пытаясь найти призраков, но увидел лишь смеющегося Васю.
— Васька, блин! – я хлопнул его по плечу, мы пошли дальше.
Пройдя ещё немного, голос подал Андрей.
— Ребят, а что это такое? – Он посветил фонариком на стену.
Мы во все глаза уставились в указанное место. Там на стене висело потрескавшееся зеркало, а на оставшихся в нём осколках чем-то красным была нарисована лесенка, ведущая к прямоугольнику-двери.
— Это ж пиковая дама! Её тут вызывали! – Вася первым подскочил к находке. – Видите, ещё и кровью! – он стал вздыхать и охать. Андрей выгнул бровь.
— Точно кровь? Больше на помаду похоже.
— Да она просто засохла! – возразил Вася.
Я вжал шею в плечи. Воздух вокруг загустел и стал тяжёлым даже в самую лёгкую ночь. Пахло гарью и как будто смертью. Где-то внутри я постоянно ждал подвоха и вздрагивал от каждого шороха и скрипа. Я определённо был готов поверить во всех призраков мира.
На мгновение все замолчали. И тогда я услышал это… Из дальней комнаты раздалось слабое, едва различимое «Мама» тонким детским голосом.
Я оглянулся вокруг себя, борясь с трясущимися поджилками и ливанувшим по спине холодным потом. На меня смотрел Илья, и даже в полутьме его глаза горели ужасом.
Он тоже это слышал.
В тот же миг за спиной Илюхи пронеслась какая-то тень.
Сердце упало в живот.
— А-а-а! Пиковая дама-а-а! – завопил я.
Началась возня. Я слышал какое-то рычание и что-то похожее на лай и крик, но всё это заглушалось шумом крови в голове и стучащим сердцем, что отчаянно рвалось из груди. Мы с ребятами мгновенно сорвались с места и метнулись в сторону выхода. Я слышал Васькин крик и рычание, но ноги несли меня дальше, и мои глаза не видели ничего, кроме света луны в конце бесконечно растягивающегося тоннеля этого дома. Я точно помню, что Андрей кричал что-то про фонарик, но никто и не думал за ним возвращаться. Нам на пятки наступали призраки!
Мы наконец выбежали из проклятого места и бежали до самых наших домов, не думая останавливаться. Оказавшись на родной улице и ощутив безопасность, мы позволили себе отдышаться. Здесь всё было как обычно: стрекотали в траве кузнечики, и всем было всё равно на то, что с нами только что произошло. Деревня мирно спала.
Я снова огляделся. Ребята были в сборе: только у Васи и Ильи лица белее простыней. Мы стали наперебой обсуждать увиденное. Ваську, пока мы удирали, эта тварь успела цапнуть! Тогда мы точно убедились в том, что в доме были не одни, ведь не могло же нам всем показаться! Тем более у Васи царапина. Даже Андрей тогда молчал и иногда бормотал что-то о том, что никогда и близко туда больше не подойдёт.
— Это была самая худшая ночь, навсегда изменившая нашу жизнь, — с напускным драматизмом я закончил этот рассказ. Друзья были под впечатлением.
И вот я, много лет спустя, снова стою перед домом, от вида которого в детстве у меня тряслись коленки. Тот покосился ещё сильнее и почти рассыпался в труху. Но даже ночью он меня не пугает, а даже наоборот: почему-то от него веет чем-то родным. Ещё долго я стою там, перед домом, вспоминая случившуюся в нём историю. Андрею и правда тогда влетело за фонарик, а у Васьки на ноге остался шрам. Мы с Ильёй отделались испугом, но напугались мы тогда, наверное, на десять лет вперёд.
Мои мысли прерывает собака, появившаяся из-за дома. Я не двигаюсь и внимательно смотрю на дворняжку. У неё в зубах какой-то предмет, который она кладёт у моих ног. Я сажусь на корточки. Перед глазами плюшевая кукла, вся грязная и потасканная. Из вспоротой набивки у неё торчит маленькая голосовая коробка. Собака жмёт на неё лапой, будто хочет показать, как она работает. В ночной тиши раздаётся слабое и жалобное «Мама».
А сердце падает в живот как в первый раз.
Я еду по ухабистой просёлочной дороге, рассматривая чужие сады из окна машины. Ласковое закатное солнце мелькает между яблонями, вишнёвыми деревьями и сливами, что величаво возвышаются над высокими и не очень заборами. Вспоминаю, как родители привозили меня на дачу к бабушке каждый раз в начале летних каникул. А впереди было целое лето: запах свежих ягод, бурная речка в конце деревни и смех соседских ребят, катающихся на стареньких велосипедах по узким дорогам.
Паркуюсь у родного дома, вылезаю из машины. Вдыхаю этот особый воздух – так пахнет только наша небольшая деревенька, где раньше мне доводилось проводить лето. Солнце в небе прощается, обещая вернуться завтра с новым днём. На улице тепло и все крыши домов окрасились в розовый, провожая уходящий день и с нетерпением ожидая следующего. Где-то над ухом жужжит комар, и я спешу его прихлопнуть. Ещё немного стою у калитки, смотрю на дом по соседству, где жил мой друг Васька. Без понятия, что сейчас с ним. А через дорогу жили Андрей с Ильёй. И опять… совсем не знаю, что стало с моими старыми друзьями.
Захожу в дом, где меня уже ждёт бабушка. Она приготовила мои любимые пирожки, и, пока я раскладывал вещи и привезённые от мамы гостинцы, она подогрела ужин. Мы сели за стол.
У меня уже нет возможности болтать ногами, когда я сижу на стуле. Бабушка постарела, но в её глазах ещё теплится тот добрый огонёк, который я всегда видел в детстве. Я за обе щёки уминаю любимое пюре с котлетой, запивая чаем, который умеет заваривать только бабушка. Она смотрит своей мягкой улыбкой, говорит что-то про то, что я совсем как ребёнок. И почему-то, приезжая в деревню, я всегда становлюсь им.
Недавно мне исполнилось двадцать пять.
Спрашиваю у бабушки, что стало с Васькой, Андреем и Ильёй. Она долго думает и молчит, понемногу начиная вспоминать.
— У Васи-то бабушка умерла несколько лет назад, так они дом этот сразу продали, да и не видела я их больше, — она смотрит в окно, откуда видно бывший Васькин дом. – А Андрейка-то… недавно приезжал. Экой вырос, вытянулся весь и бороду отрастил, — она хмыкает. — Совсем ему не идёт. Он и к нам заходил, про тебя спрашивал. Сам говорит, устроился куда-то в банк, ну там, у вас, — бабушка как-то неопределённо машет рукой. – А Илья, говорит, не приехал, потому что заграницей работает. Учится там, — она принялась вдумчиво смотреть в окно на уходящую вечернюю зарю.
Я киваю, дожёвывая котлету. Глупо смотрю в свою тарелку. Вот как. Теперь мы все взрослые и у всех свои проблемы, работа и жизнь, где уже нет места нашей дружбе. Что-то щемит в груди от осознания, что вернуть наши гулянки с утра и до позднего вечера уже не получится. И всё-таки приятно знать, что у ребят жизнь сложилась хорошо. Жаль, что про Ваську ничего не известно.
Закончив с ужином, я помогаю бабушке убрать со стола. До ночи болтаю с ней о прошедшем и будущем, пока она вяжет очередную пару носков. Когда деревню окутывает ночь, а бабуля уходит спать, я иду в сад.
Прогуливаюсь между стройными рядами помидоров и огурцов, разглядываю зреющие на деревьях яблоки и плавающих в проржавевшей бочке с водой мошек. Никогда не знал, для чего нужна эта бочка. В воздухе витает запах летней ночи, и вспоминаются дни, когда мама с папой тоже приезжали сюда. Как папа вместе с дедушкой жарил шашлыки, мама копалась в огороде, а бабушка угощала всех фирменной шарлоткой. Тогда пахло костром и жареным мясом, а в тёмное ночное небо, усыпанное яркими звёздами, поднимался столб ароматного дыма. Тогда я ещё не разучился радоваться.
А теперь тут никого, да и мы уже давно не собирались так всей семьёй. Родители развелись, а дедушку похоронили ещё несколько лет назад.
Сижу на скамейке у дома. Отсюда видно Васькин дом, где в окнах уже не горит свет. В доме Андрея и Ильи тоже тихо. Кажется, словно детство мне приснилось. Будто не было всего того, что осталось в этой деревне, сохранившись лишь в воспоминаниях. внезапно я вспомнил самую яркую историю из всех, что происходили в деревне. Мне резко захотелось вернуться в то место. Поэтому я сразу же вышел за калитку и, точно зная путь, пошёл в нужную сторону.
— Там ваще-е капец! – рассказывал я тогда своим школьным друзьям после конца лета. – Короче, сейчас расскажу, как было.
Собрались, значит, мы с Васькой и Ильёй с Андреем в одно страшное место. Недавно на краю деревни сгорел дом, и мы решили пойти туда ночью. Андрей рассказывал, что там водятся призраки или ещё какая-то нечисть, не упокоенные души тех, кто там жил. Мы с Васькой соврали своим, что пойдём к Андрею и Илье на ночёвку, а они сказали, что пойдут к нам. И вот ночь, на улицах никого нет, а мы идём туда. Андрей даже взял дедушкин навороченный фонарик!
Сгоревший дом почти сливался с тёмным лесом, что раскинулся за ним. Ночью он был ещё чернее и выглядел очень жутко. Вокруг него не было ни души, даже остальные дома его будто сторонились и стояли поодаль. Идти дальше было страшно.
— Ребят, может не надо? – подал голос Илья, шедший позади всех и иногда выглядывающий из-за наших спин. Он был младшим братом Андрея, поэтому мы часто делали скидку на его возраст. Но здесь отступать было нельзя.
— Поздно, Илюха, — задорно ответил Вася. Он у нас обычно был заводилой, и пойти в эту заброшку ночью тоже предложил он. И казалось, будто у него вообще страха нет. Везде ночь, впереди дом с призраками, а Ваське хоть бы хны!
— Да ладно вам, сверхъестественного, вообще-то, не существует, — ответил Андрей. Он старше всех нас, и он был о-очень умным.
Я молчал, заламывая пальцы. Всё равно было боязно. Вася на фоне начал спорить с Андреем, но мы всё-таки подошли к дому.
Вблизи он был ещё страшнее: в окнах кромешная темнота, двери нет, а обуглившиеся балки были разбросаны по траве вокруг. Тут стало не по себе всем.
— Ну, давай, Андрюха, иди, раз такой смелый, — Вася толкнул его в спину. Андрей первым ступил на порог дома, держа фонарик. Было видно, что рука у Андрея трясётся. Я сглотнул. Под ногами что-то постоянно хрустело и шуршало, и я постоянно оглядывался за спину, внутренне каждый раз сжимаясь в страхе увидеть там кого-то.
Когда все зашли в дом, мы начали медленно шагать вглубь. Андрей то и дело крутил фонариком во все стороны. Я разглядывал то почерневший потолок, то брошенные остатки вещей, которые остались от хозяев. Вдруг раздалось какое-то слабое завывание. Илья подскочил на месте, из моей груди вырвался вскрик. Я замотал головой, пытаясь найти призраков, но увидел лишь смеющегося Васю.
— Васька, блин! – я хлопнул его по плечу, мы пошли дальше.
Пройдя ещё немного, голос подал Андрей.
— Ребят, а что это такое? – Он посветил фонариком на стену.
Мы во все глаза уставились в указанное место. Там на стене висело потрескавшееся зеркало, а на оставшихся в нём осколках чем-то красным была нарисована лесенка, ведущая к прямоугольнику-двери.
— Это ж пиковая дама! Её тут вызывали! – Вася первым подскочил к находке. – Видите, ещё и кровью! – он стал вздыхать и охать. Андрей выгнул бровь.
— Точно кровь? Больше на помаду похоже.
— Да она просто засохла! – возразил Вася.
Я вжал шею в плечи. Воздух вокруг загустел и стал тяжёлым даже в самую лёгкую ночь. Пахло гарью и как будто смертью. Где-то внутри я постоянно ждал подвоха и вздрагивал от каждого шороха и скрипа. Я определённо был готов поверить во всех призраков мира.
На мгновение все замолчали. И тогда я услышал это… Из дальней комнаты раздалось слабое, едва различимое «Мама» тонким детским голосом.
Я оглянулся вокруг себя, борясь с трясущимися поджилками и ливанувшим по спине холодным потом. На меня смотрел Илья, и даже в полутьме его глаза горели ужасом.
Он тоже это слышал.
В тот же миг за спиной Илюхи пронеслась какая-то тень.
Сердце упало в живот.
— А-а-а! Пиковая дама-а-а! – завопил я.
Началась возня. Я слышал какое-то рычание и что-то похожее на лай и крик, но всё это заглушалось шумом крови в голове и стучащим сердцем, что отчаянно рвалось из груди. Мы с ребятами мгновенно сорвались с места и метнулись в сторону выхода. Я слышал Васькин крик и рычание, но ноги несли меня дальше, и мои глаза не видели ничего, кроме света луны в конце бесконечно растягивающегося тоннеля этого дома. Я точно помню, что Андрей кричал что-то про фонарик, но никто и не думал за ним возвращаться. Нам на пятки наступали призраки!
Мы наконец выбежали из проклятого места и бежали до самых наших домов, не думая останавливаться. Оказавшись на родной улице и ощутив безопасность, мы позволили себе отдышаться. Здесь всё было как обычно: стрекотали в траве кузнечики, и всем было всё равно на то, что с нами только что произошло. Деревня мирно спала.
Я снова огляделся. Ребята были в сборе: только у Васи и Ильи лица белее простыней. Мы стали наперебой обсуждать увиденное. Ваську, пока мы удирали, эта тварь успела цапнуть! Тогда мы точно убедились в том, что в доме были не одни, ведь не могло же нам всем показаться! Тем более у Васи царапина. Даже Андрей тогда молчал и иногда бормотал что-то о том, что никогда и близко туда больше не подойдёт.
— Это была самая худшая ночь, навсегда изменившая нашу жизнь, — с напускным драматизмом я закончил этот рассказ. Друзья были под впечатлением.
И вот я, много лет спустя, снова стою перед домом, от вида которого в детстве у меня тряслись коленки. Тот покосился ещё сильнее и почти рассыпался в труху. Но даже ночью он меня не пугает, а даже наоборот: почему-то от него веет чем-то родным. Ещё долго я стою там, перед домом, вспоминая случившуюся в нём историю. Андрею и правда тогда влетело за фонарик, а у Васьки на ноге остался шрам. Мы с Ильёй отделались испугом, но напугались мы тогда, наверное, на десять лет вперёд.
Мои мысли прерывает собака, появившаяся из-за дома. Я не двигаюсь и внимательно смотрю на дворняжку. У неё в зубах какой-то предмет, который она кладёт у моих ног. Я сажусь на корточки. Перед глазами плюшевая кукла, вся грязная и потасканная. Из вспоротой набивки у неё торчит маленькая голосовая коробка. Собака жмёт на неё лапой, будто хочет показать, как она работает. В ночной тиши раздаётся слабое и жалобное «Мама».
А сердце падает в живот как в первый раз.
Ялугина Юлия. О чем молчат стены
Эти стены были давно заброшены. Но в них ещё жил Призрак Прошлого, пугающий жителей городишка звонком в начале осени. На красном кирпиче красовались и работы начинающих художников, и грубые надписи мелких хулиганов. Творения объединял лишь холст, а их авторов — воспитатель Улица. Окна заколочены, а там, где не хватило досок стекло просто разбили или унесли. Дворик был весь в бумажках, огрызках и прочем мусоре, а где-то ещё валялось конфетти, лопнувшие шары и даже лента с золотыми буквами «ВЫПУСКНИК».
«Пусто, — эхом пронеслось в голове, — как на кладбище».
— КАР-Р-Р! — прокричала чёрная птица. Пролетев прямо над ними, та уселась на ветку и наклонила голову.
«Ждёт», — подумал кругленький мужичок, потерев лоб, который зажимала оранжевая каска. Он посмотрел на своего босса, щеголяющего в новеньком костюме: широкоплечий мужчина спокойно подходил к заброшке.
— Валентин Адамович, может не стоит? — за ним, цокая на каблучках, бежала секретарша, прижимавшая к груди тонну бумажек, то и дело оборачиваясь на каждый шорох. — Люди к этому месту, наверное, привязаны! Это была единственная школа в городе…
— Ключевое слово «была», Лизонька. — он достал из стопки план проекта офисного центра, затем вытянул руку, и нарисованное здание закрыло руины храма знаний. — Давно пора снести эту страхолюдину!
Ветерок начал покачивать ветви деревьев, и вороне пришлось покинуть стоянку.
— Место тут гиблое. Десять лет никто сюда не суётся.
— И что теперь? Не строить? Даже думать не смейте. — хищный взгляд из-под брендовых стекол пожирал подчинённого. Тот лишь тяжело вздохнул: «Спорить с ним бесполезно. Хозяин-барин, но чувствуют мои коленки, что что-то да произойдёт».
Валентин Адамович положил лист на стопку прочих документов. Лизонька, хоть и пыталась смотреть куда угодно, но не в сторону трёхэтажки, не смогла углядеть за плодом архитектора и дизайнера. Бумага улетела прямо в пасть Дома Монстра.
— Прекрасно, ещё и копия макета улетела, — цокнул он и недовольно зыркнул на помощницу.
— Я н-не пойду туда! — пискнула секретарша и попятилась назад, сжав бумажки в аккуратных пальчиках с ноготками под корень.
— И за что я вам плачу? — закатил глаза мужчина, уверенно подходя к входу.
Табличка с номером школы была криво прибита изначально, но годы заставили ту и вовсе съехать на бок. Это не помешало зданию поздороваться с кокетливостью пенсионерки: «Вы пришли так неожиданно! Я помню вас совсем мальчишкой. Не стесняйтесь, проходите». Деревянные двери с потрескавшейся и осыпавшейся краской были распахнуты — любезно приглашали внутрь.
— Может не стоит? Это всего лишь копия! Не страшно? — неуверенно спросила женщина.
«Не стоит? Тут дело принципа!»
— Не страшно. Если бы я чего-нибудь боялся, то стал бы таким человеком? — послышался мужской голос уже из пустых стен. Противное эхо переспрашивало его: «Человеком?..»
Внутри школы обстановка была ничем не лучше, чем снаружи:
Слой пыли был такой, что захлебнуться в ней можно было на раз-два. Уже сейчас Валентин Адамович чувствовал себя больным чахоткой, а кожа неприятно чесалась. Непроглядную тьму освещали лишь пару лучей позднего солнца. На стенах висели безликие фотографии, над ними: портреты любимцев филологов. Валентин издал истеричный смешок, когда ему подмигнул сам Гоголь…
— Надо очки поменять, — сказал мужчина, протирая необходимый аксессуар и отворачиваясь от многочисленных рамок и фото…
Изображённые на них сделали тоже самое.
Пару шагов по каменному полу. После каждого под ногами весело трещали осколки, дёшево пародируя хрустящий утренний снег.
— И где этот несчастный кусок бумаги?
БЛАМ!
Сквозняк закрыл дверь с грохотом также неожиданно, как захлопывается капкан…
Биение сердца ощущалось не в груди, а где-то в горле. Становилось тошно и ужасно больно дышать. Детская обида, пронесённая через годы учёбы в этих стенах, затем в университете, потом…
Мысль прервалась.
Новые ботинки с итальянской кожей наступили в холодную противную лужу. Свежая мокрая дорожка шла по всем каменным плитам куда-то назад, где совсем недавно было сухо.
«Странно»
Он обернулся.
И тут же пожалел.
В конце скользкого следа по-животному сидело мерзкое создание. Большущим грязным и рваным языком оно старательно выводило на полу линии, собирая осколки и прочую грязь. Сальные жидкие волосы закрывали лицо.
Валентин вздрогнул. По коже пробежался мелкий холод, покрывая всё тело неприятной гусиной кожицей. Сам того не понимая, он попятился назад, топчась на мокром полу.
Взгляды встретились.
Оглушающий крик, точно скрип мела по доске, стал настоящей пощечиной — помог прийти в себя.
— КУДА ПО ПОМЫТОМУ?! — оно побежало за ним, точно по-собачьи, рыча и брызгая слюной. Тело было рыхлым, как дрожжевое тесто, тряслось и болталось на ходу, складка шлёпалась о складку. Существо стремительно приближалось к нему, заполняя пространство тошнотворным запахом плесени и половых тряпок.
Валентин сорвался с места и побежал, куда глаза глядят: по пустым коридорам, битым плитам. Он петлял в этом лабиринте как мог:
Нога чуть не соскочила со ступени.
В коридоре лицо почти впечаталось в движущуюся стену.
Свернув за угол, он мигом захлопнул дверь прямо перед плоским носом чудища, затем закрылся изнутри в тёмном помещении.
Дыхание давно сбилось.
Воздух!
Нужен воздух!
— Эти стены меня душат… Снести… Снести всё к чёртовой матери! — вжавшись в стену бормотал он, жадно глотая остатки кислорода.
Сводящую с ума тишину прерывали лишь скрежет гнилых зубов, крошащихся в попытках прогрызть дверь.
Хорошенько отдышавшись, мужчина включил фонарик на телефоне и осмотрел своё укрытие.
«Очередной пылесборник», — подметил тот, брезгливо отмахнувшись от громоздких шкафов, забитых старыми учебниками и толстущими томами, в углу кривилась этажерка с жёлтыми газетами и пёстрыми журналами-пустышками. Единственное, что привлекло внимание: до боли знакомая обувная коробка, лежавшая на видном месте. Спрятанная у всех на виду. Валентин смахнул с крышки пыль, взял в руки и уже собирался её открыть.
Звуки за дверью стихли…сменившись на непонятное клацанье где-то наверху.
КЛАЦ-КЛАЦ-КЛАЦ
Очень быстро это начало действовать на нервы.
КЛАЦ-КЛАЦ-КЛАЦ
Буквально выводило из себя.
КЛАЦ-КЛАЦ-КЛАЦ
Он вспомнил, почему запретил Лизоньке появляться на рабочем месте с длиннющими ногтями.
Валентин посмотрел на источник звука, направив свет фонарика на потолок. Лицо исказилось в гримасе ужаса, собственный ор ударил по перепонкам, а коробка чуть не шлёпнулась на пол.
— ТИШИНА В БИБЛИОТЕКЕ! — шипело существо, чья голова поворачивалась на все триста шестьдесят.
Оно было живым скелетом: худощавое, с тонкими вытянутыми конечностями и выпирающими ребрами, но двигалось невероятно живо и ловко меж пыльных книжных шкафов и пустых стеллажей.
Спрыгнув на стол, чудище двинулось к Валентину, раздувая ноздри. Глаза были пусты и такие же стеклянные, как треснувшие линзы в погнутой оправе очков на длинном носу.
«Слепое»
Обнюхав посетителя с ног до головы, буквально вытянув весь приятный одеколон, незрячее склонило голову к неприметной коробке.
Неожиданно оно вновь заговорило:
— КНИГУ! КНИГУ ВЕРНИ! ТЫ ДОЛЖЕН ЕЁ ВЕРНУТЬ! — Пальцы-серпы тотчас потянулись к картону в его руках.
Валентин прижал коробку к себе, а существо, зло шипя и вытягивая шею, толкнуло стоящий позади шкаф: книги посыпались болезненным градом.
Пушкин хлопнул по спине.
Достоевский дал нехилую затрещину.
Толстой ударил по плечу.
Авторы отыгрались за все ответы у доски, от которых вертелись в гробу.
Придя в себя, Валентин попытался выбраться из книжного плена, но только собрался встать, как что-то облепило конечности, точно щупальца гигантского кальмара взяли в плен корабль и потащили обратно на глубину.
— СТОЯТЬ! — этот голос, пусть и искажённый, он узнает из тысячи.
«Нет-нет-нет»
— КУДА СОБРАЛСЯ? — потянув за волосы, его подняли над книжным Эверестом.
— МЫТЬСЯ ПОЙДЁМ?
— НЕ, СЕГОДНЯ СРЕДА.
Над ним возвышалось три точные копии отпетого хулигана. Они повторяли друг за другом, как отражения в бабкином трельяже.
— МЫ НЕ ЗАКОНЧИЛИ! — подхватив под руки, Второй и Третий потащили к шкафу.
— Пустите! — Валик беспомощно барахтался на их руках.
Коснуться земли ногами не получалось.
Он снова был беспомощным мальчишкой.
— КОНЕЧНАЯ! — Валика толкнули в шкаф, захлопнув дверцы.
— ЗАПРИ ЕГО! ЗАПРИ! — задыхаясь от смеха, командовал Первый.
Ключ провернули пару раз под хохот…и тишина.
Ужасно темно.
До безумия тихо.
До жути пусто.
Отрицание.
Гнев.
Торг.
Депрессия.
Паника.
В голове болезненно прокручивалась кинолента:
Школа, в которой заперли на ночь.
Унитаз, куда окунали головой каждый «чистый четверг».
Учителя и экзамены, выжавшие все жизненные соки.
В висках стучит.
В горле ком.
По щекам потекло что-то давно забытое.
«Наверное, в шкафу пошёл дождь»
Мягкий свет, знакомые голоса из ящика заставили вспомнить совершенно иное, разбавив плёнку яркими кадрами.
Валя с лёгкостью открыл крышку обувной коробки, из которой вылетел белый мотылёк.
— Ты ж хотел капсулу времени? Мне батя за аттестат без троек купил бутсы! А коробку мне не жалко! — Матвей протянул картонку, — Тем более, без тебя я бы и на тройки не закончил. А ты что туда закинешь?
— Гусеницу, — медалист покрутил в руках что-то странное.
Пальцы нежно провели по корешку книги с печатью «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА», пролистали пожелтевшие страницы, меж которых лежали квадратные фото с Полароида и карточка сборной ЦСКА.
— Это больше похоже на старый чипс! — посмеялся Лёша, положив «Оно» Кинга на дно коробки.
— Лёш! Ну ты как всегда! Она, как безумные затеи Вали, вырастет и станет прекрасной бабочкой, — прощебетала Люба, нажав кнопку фотоаппарата, — улыбочку!
Дверь шкафа оказалась не заперта… Ни задир-гиен, ни библиотекаря-скелета не было.
Валик положил книгу на стол и пошёл за бабочкой, петлявшей под потолком. Бывшая гусеница вылетела из окна, от которого осталась лишь рама — тот вылез следом. На улице никакого мотылька не было, а на ветках полуживого куста лежала потерянная бумага. Валентин поправил очки, вновь осмотрел место, что было в столь плачевном состоянии.
— Сносить? — переспросил Пётр Иваныч.
Валентин Адамович забрал у рабочего каску и, нацепив её на свои взъерошенные волосы, произнёс:
— Реставрировать.
Эти стены были давно заброшены. Но в них ещё жил Призрак Прошлого, пугающий жителей городишка звонком в начале осени. На красном кирпиче красовались и работы начинающих художников, и грубые надписи мелких хулиганов. Творения объединял лишь холст, а их авторов — воспитатель Улица. Окна заколочены, а там, где не хватило досок стекло просто разбили или унесли. Дворик был весь в бумажках, огрызках и прочем мусоре, а где-то ещё валялось конфетти, лопнувшие шары и даже лента с золотыми буквами «ВЫПУСКНИК».
«Пусто, — эхом пронеслось в голове, — как на кладбище».
— КАР-Р-Р! — прокричала чёрная птица. Пролетев прямо над ними, та уселась на ветку и наклонила голову.
«Ждёт», — подумал кругленький мужичок, потерев лоб, который зажимала оранжевая каска. Он посмотрел на своего босса, щеголяющего в новеньком костюме: широкоплечий мужчина спокойно подходил к заброшке.
— Валентин Адамович, может не стоит? — за ним, цокая на каблучках, бежала секретарша, прижимавшая к груди тонну бумажек, то и дело оборачиваясь на каждый шорох. — Люди к этому месту, наверное, привязаны! Это была единственная школа в городе…
— Ключевое слово «была», Лизонька. — он достал из стопки план проекта офисного центра, затем вытянул руку, и нарисованное здание закрыло руины храма знаний. — Давно пора снести эту страхолюдину!
Ветерок начал покачивать ветви деревьев, и вороне пришлось покинуть стоянку.
— Место тут гиблое. Десять лет никто сюда не суётся.
— И что теперь? Не строить? Даже думать не смейте. — хищный взгляд из-под брендовых стекол пожирал подчинённого. Тот лишь тяжело вздохнул: «Спорить с ним бесполезно. Хозяин-барин, но чувствуют мои коленки, что что-то да произойдёт».
Валентин Адамович положил лист на стопку прочих документов. Лизонька, хоть и пыталась смотреть куда угодно, но не в сторону трёхэтажки, не смогла углядеть за плодом архитектора и дизайнера. Бумага улетела прямо в пасть Дома Монстра.
— Прекрасно, ещё и копия макета улетела, — цокнул он и недовольно зыркнул на помощницу.
— Я н-не пойду туда! — пискнула секретарша и попятилась назад, сжав бумажки в аккуратных пальчиках с ноготками под корень.
— И за что я вам плачу? — закатил глаза мужчина, уверенно подходя к входу.
Табличка с номером школы была криво прибита изначально, но годы заставили ту и вовсе съехать на бок. Это не помешало зданию поздороваться с кокетливостью пенсионерки: «Вы пришли так неожиданно! Я помню вас совсем мальчишкой. Не стесняйтесь, проходите». Деревянные двери с потрескавшейся и осыпавшейся краской были распахнуты — любезно приглашали внутрь.
— Может не стоит? Это всего лишь копия! Не страшно? — неуверенно спросила женщина.
«Не стоит? Тут дело принципа!»
— Не страшно. Если бы я чего-нибудь боялся, то стал бы таким человеком? — послышался мужской голос уже из пустых стен. Противное эхо переспрашивало его: «Человеком?..»
Внутри школы обстановка была ничем не лучше, чем снаружи:
Слой пыли был такой, что захлебнуться в ней можно было на раз-два. Уже сейчас Валентин Адамович чувствовал себя больным чахоткой, а кожа неприятно чесалась. Непроглядную тьму освещали лишь пару лучей позднего солнца. На стенах висели безликие фотографии, над ними: портреты любимцев филологов. Валентин издал истеричный смешок, когда ему подмигнул сам Гоголь…
— Надо очки поменять, — сказал мужчина, протирая необходимый аксессуар и отворачиваясь от многочисленных рамок и фото…
Изображённые на них сделали тоже самое.
Пару шагов по каменному полу. После каждого под ногами весело трещали осколки, дёшево пародируя хрустящий утренний снег.
— И где этот несчастный кусок бумаги?
БЛАМ!
Сквозняк закрыл дверь с грохотом также неожиданно, как захлопывается капкан…
Биение сердца ощущалось не в груди, а где-то в горле. Становилось тошно и ужасно больно дышать. Детская обида, пронесённая через годы учёбы в этих стенах, затем в университете, потом…
Мысль прервалась.
Новые ботинки с итальянской кожей наступили в холодную противную лужу. Свежая мокрая дорожка шла по всем каменным плитам куда-то назад, где совсем недавно было сухо.
«Странно»
Он обернулся.
И тут же пожалел.
В конце скользкого следа по-животному сидело мерзкое создание. Большущим грязным и рваным языком оно старательно выводило на полу линии, собирая осколки и прочую грязь. Сальные жидкие волосы закрывали лицо.
Валентин вздрогнул. По коже пробежался мелкий холод, покрывая всё тело неприятной гусиной кожицей. Сам того не понимая, он попятился назад, топчась на мокром полу.
Взгляды встретились.
Оглушающий крик, точно скрип мела по доске, стал настоящей пощечиной — помог прийти в себя.
— КУДА ПО ПОМЫТОМУ?! — оно побежало за ним, точно по-собачьи, рыча и брызгая слюной. Тело было рыхлым, как дрожжевое тесто, тряслось и болталось на ходу, складка шлёпалась о складку. Существо стремительно приближалось к нему, заполняя пространство тошнотворным запахом плесени и половых тряпок.
Валентин сорвался с места и побежал, куда глаза глядят: по пустым коридорам, битым плитам. Он петлял в этом лабиринте как мог:
Нога чуть не соскочила со ступени.
В коридоре лицо почти впечаталось в движущуюся стену.
Свернув за угол, он мигом захлопнул дверь прямо перед плоским носом чудища, затем закрылся изнутри в тёмном помещении.
Дыхание давно сбилось.
Воздух!
Нужен воздух!
— Эти стены меня душат… Снести… Снести всё к чёртовой матери! — вжавшись в стену бормотал он, жадно глотая остатки кислорода.
Сводящую с ума тишину прерывали лишь скрежет гнилых зубов, крошащихся в попытках прогрызть дверь.
Хорошенько отдышавшись, мужчина включил фонарик на телефоне и осмотрел своё укрытие.
«Очередной пылесборник», — подметил тот, брезгливо отмахнувшись от громоздких шкафов, забитых старыми учебниками и толстущими томами, в углу кривилась этажерка с жёлтыми газетами и пёстрыми журналами-пустышками. Единственное, что привлекло внимание: до боли знакомая обувная коробка, лежавшая на видном месте. Спрятанная у всех на виду. Валентин смахнул с крышки пыль, взял в руки и уже собирался её открыть.
Звуки за дверью стихли…сменившись на непонятное клацанье где-то наверху.
КЛАЦ-КЛАЦ-КЛАЦ
Очень быстро это начало действовать на нервы.
КЛАЦ-КЛАЦ-КЛАЦ
Буквально выводило из себя.
КЛАЦ-КЛАЦ-КЛАЦ
Он вспомнил, почему запретил Лизоньке появляться на рабочем месте с длиннющими ногтями.
Валентин посмотрел на источник звука, направив свет фонарика на потолок. Лицо исказилось в гримасе ужаса, собственный ор ударил по перепонкам, а коробка чуть не шлёпнулась на пол.
— ТИШИНА В БИБЛИОТЕКЕ! — шипело существо, чья голова поворачивалась на все триста шестьдесят.
Оно было живым скелетом: худощавое, с тонкими вытянутыми конечностями и выпирающими ребрами, но двигалось невероятно живо и ловко меж пыльных книжных шкафов и пустых стеллажей.
Спрыгнув на стол, чудище двинулось к Валентину, раздувая ноздри. Глаза были пусты и такие же стеклянные, как треснувшие линзы в погнутой оправе очков на длинном носу.
«Слепое»
Обнюхав посетителя с ног до головы, буквально вытянув весь приятный одеколон, незрячее склонило голову к неприметной коробке.
Неожиданно оно вновь заговорило:
— КНИГУ! КНИГУ ВЕРНИ! ТЫ ДОЛЖЕН ЕЁ ВЕРНУТЬ! — Пальцы-серпы тотчас потянулись к картону в его руках.
Валентин прижал коробку к себе, а существо, зло шипя и вытягивая шею, толкнуло стоящий позади шкаф: книги посыпались болезненным градом.
Пушкин хлопнул по спине.
Достоевский дал нехилую затрещину.
Толстой ударил по плечу.
Авторы отыгрались за все ответы у доски, от которых вертелись в гробу.
Придя в себя, Валентин попытался выбраться из книжного плена, но только собрался встать, как что-то облепило конечности, точно щупальца гигантского кальмара взяли в плен корабль и потащили обратно на глубину.
— СТОЯТЬ! — этот голос, пусть и искажённый, он узнает из тысячи.
«Нет-нет-нет»
— КУДА СОБРАЛСЯ? — потянув за волосы, его подняли над книжным Эверестом.
— МЫТЬСЯ ПОЙДЁМ?
— НЕ, СЕГОДНЯ СРЕДА.
Над ним возвышалось три точные копии отпетого хулигана. Они повторяли друг за другом, как отражения в бабкином трельяже.
— МЫ НЕ ЗАКОНЧИЛИ! — подхватив под руки, Второй и Третий потащили к шкафу.
— Пустите! — Валик беспомощно барахтался на их руках.
Коснуться земли ногами не получалось.
Он снова был беспомощным мальчишкой.
— КОНЕЧНАЯ! — Валика толкнули в шкаф, захлопнув дверцы.
— ЗАПРИ ЕГО! ЗАПРИ! — задыхаясь от смеха, командовал Первый.
Ключ провернули пару раз под хохот…и тишина.
Ужасно темно.
До безумия тихо.
До жути пусто.
Отрицание.
Гнев.
Торг.
Депрессия.
Паника.
В голове болезненно прокручивалась кинолента:
Школа, в которой заперли на ночь.
Унитаз, куда окунали головой каждый «чистый четверг».
Учителя и экзамены, выжавшие все жизненные соки.
В висках стучит.
В горле ком.
По щекам потекло что-то давно забытое.
«Наверное, в шкафу пошёл дождь»
Мягкий свет, знакомые голоса из ящика заставили вспомнить совершенно иное, разбавив плёнку яркими кадрами.
Валя с лёгкостью открыл крышку обувной коробки, из которой вылетел белый мотылёк.
— Ты ж хотел капсулу времени? Мне батя за аттестат без троек купил бутсы! А коробку мне не жалко! — Матвей протянул картонку, — Тем более, без тебя я бы и на тройки не закончил. А ты что туда закинешь?
— Гусеницу, — медалист покрутил в руках что-то странное.
Пальцы нежно провели по корешку книги с печатью «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА», пролистали пожелтевшие страницы, меж которых лежали квадратные фото с Полароида и карточка сборной ЦСКА.
— Это больше похоже на старый чипс! — посмеялся Лёша, положив «Оно» Кинга на дно коробки.
— Лёш! Ну ты как всегда! Она, как безумные затеи Вали, вырастет и станет прекрасной бабочкой, — прощебетала Люба, нажав кнопку фотоаппарата, — улыбочку!
Дверь шкафа оказалась не заперта… Ни задир-гиен, ни библиотекаря-скелета не было.
Валик положил книгу на стол и пошёл за бабочкой, петлявшей под потолком. Бывшая гусеница вылетела из окна, от которого осталась лишь рама — тот вылез следом. На улице никакого мотылька не было, а на ветках полуживого куста лежала потерянная бумага. Валентин поправил очки, вновь осмотрел место, что было в столь плачевном состоянии.
— Сносить? — переспросил Пётр Иваныч.
Валентин Адамович забрал у рабочего каску и, нацепив её на свои взъерошенные волосы, произнёс:
— Реставрировать.
Сабитова Полина. Не бойся сделать шаг...
Это произошло двадцать лет назад, на тот момент мне было десять лет. Сейчас, имея уже почетное звание Заслуженного артиста Российский Федерации, не могу до сих пор понять, отчего я так боялся осуждения со стороны общества.
"Мальчик мой, страх - это то, что живёт внутри и сковывает тебя с каждым днём всё больше и больше. Не трать на это свою жизнь, попробуй перебороть себя", - постоянно твердила мне бабушка, когда я пытался вымолвить хоть одно слово при маме из стихотворения, которое мы так упорно учили вместе с ней для школы.
Возможно, бабушка была единственным человеком, который поддерживал меня в то время. Мама казалась совсем не такой, какой любили описывать своих матерей разные писатели. Бабушка мне любила читать разные стихи Эдуарда Успенского, но нравилось мне только одно единственное: "Если был бы я девчонкой...". Послушаю этот стих и начну мечтать о том, что мама мне когда-то скажет: "Молодчина ты, сынок!".
До чего мне нравилась эта фраза! Я всегда пытался сделать то, что заставило бы мою маму сказать это.
Одним морозным днем я пришел домой в прекрасном настроении и несколькими рукописными бумагами в руках.
- Максим, где ты опять так долго ходил? - раздался суровый голос мамы.
Я быстро снял куртку и откинул в разные стороны прихожей свои ботинки.
- Мама! Я знаю, кем я хочу быть в будущем! И я начну заниматься этим сейчас! -крикнул я, пробежав на кухню, откуда по всей квартире разносился аромат пирожков.
- Сейчас меня это совсем не интересует. Звонила твоя учительница и сказала, что у тебя очередная двойка по математике.
В этот момент мне стало страшно что-либо говорить. Я продолжил слушать маму, которая начала осматривать меня с ног до головы.
- Максим, я только вчера выстирала тебе рубашку. А жилет? Где ты порвал новый жилет, который сшила бабушка? Ты выглядишь ужасно! Мой сын растёт ужасным, боже мой! - причитала мама, мотая головой.
- Мам, я хотел тебе рассказать, - снова послышался мой тоненький писклявый голосок.
- Что? - сказала безнадежно она.
- У нас в школе есть театральный кружок! Аглая Валентиновна меня туда записала! Ей понравилось, как я рассказал сегодня стих! - по выражению лица мамы можно было понять, что ничего хорошего от нее сейчас не услышишь.
- Какой театральный кружок? - она рассмеялась, но этот смех не был похож на радость.
- Маленький, хиленький, голоса нет, заурядица ходячая, - сказала мама и, махнув рукой, встала из-за стола.
Как же мне стало обидно, что родная мама про меня так думает.
- Мой же папа смог... - вымолвил я кротко.
- Папа, папа, папа, - передразнила она меня. - Откуда ты знаешь, что он там смог? Кривляка. Ты для начала научись с людьми контактировать и не бояться, что там про тебя подумает какой-нибудь Коля.
С каждым словом мамы мне становилось больнее и больнее. Я выбежал из кухни и заперся у себя в комнатке. Подошёл к пыльному зеркалу и начал себя рассматривать. "Какой из меня актер?" - думал я, смотря на свои маленькие глаза, темные негустые волосы и кривые зубки. Отвернулся от зеркала и забрался на подоконник, вновь и вновь прокручивая в голове услышанные слова. Порой мне хотелось просто собрать вещи и уйти к бабушке, мама все равно не заметила бы моего отсутствия.
Утром я проснулся от громких разговоров. Я вскочил с кровати и радостно побежал на голос любимой бабули, которая была для меня душой. Притаившись за дверью, я начал внимательно слушать разговоры, хоть и не любил делать что-то в тайне, но под горячую руку как-то не очень хотелось попасть.
- Я сказала, что не хочу даже слушать такое об этом гадком утенке, – сказала мама, вставав с дивана и сложив руки у груди.
- Скажу тебе только одно: "Великие умы ставят перед собой цели; остальные люди следуют своим желаниям", - укоризненно произнесла бабушка.
- Все, мама, мы поговорили, никакого театра. Мне не надо, чтобы потом на весь город был позор.
Бабушка встала и медленно пошла из комнаты. Я сразу отпрянул от двери, притворяясь, будто только что проснулся. Бабушка опустила свой взгляд на меня и поманила к себе указательным пальцем, склонившись над моим ухом, произнесла:
- Попробуй, мальчик мой.
Сказав это, бабушка пошла к выходу.
Я простоял на одном месте еще минуты три, думая, как же она могла видеть меня насквозь. И в этот момент я точно решил, что должен попробовать.
Пять недель и три дня я готовился к прослушиванию, после которого меня возьмут или же нет. Бабушка мне сшила новый красный жилет и купила новые лакированные ботинки. Я с гордостью смотрел на себя в зеркало, и вдруг в голове у меня промелькнула мысль, что меня могут осудить за то, как я выгляжу, посмеяться, ведь мама же говорила, что я "заурядица". Мои плечи чуть сжались, а взгляд потускнел. Я вышел из комнаты и сразу поймал на себе недовольный взгляд мамы.
- Куда это ты так вырядился? - уложив руки по бокам, сказала мама.
- Сегодня день рождения у моего друга, - соврал и чуть покраснел. Ненавидел я врать, тем более маме. Но меня успокоили слова бабушки, которые она мне часто говорила: "ложь во спасение".
- Да? Почему ты мне не говорил? - ее брови выгнулись в две дуги, которые меня чуть пугали.
Я начал быстро натягивать на себя куртку с шапкой.
- Пока, мама, я тебе потом все расскажу, - протараторил я и быстро выбежал из квартиры.
"Пронесло", - подумал я.
Вот этот момент, который, можно сказать, решает мою жизнь. Я стою на краю сцены, какой-то мальчик из одиннадцатого класс пригнул микрофон к моему лицу. Я сжал руки в кулаки и четко сказал.
- Максим Удачливый, 4 "б" класс, - вдруг я остановился, глядя в глаза всем учителям, которые меня внимательно слушали.
- Ну, Максим Удачливый, что вы нам будете читать? - сказала девушка в строгих очках.
- Владимир Железников "Три ветки мимозы".
- Просим, - сказала уже другая девушка и взяла в руки ручку, начиная что-то писать.
Я просчитал про себя десять счетов и начал читать вслух. В этот момент в голове крутились слова мамы и бабушки вперемешку. "Что они обо мне подумали?" -промелькнуло в голове, и я вдруг замолчал. Щеки от носа к ушам стали мгновенно красными, а ладошки вспотели до такой степени, что рукава рубашки стали мокрыми.
- Что же ты замолчал? - интеллигентно спросила моя учительница по литературе, и я понял, что после того как я сойду с этой сцены, меня начнут осуждать.
-Ты будешь продолжать?
После этого вопроса я еще подождал секунд пять и мотнул головой. Мои ноги сами начали убегать из этого зала. "Теперь все разнесется по школе, все будут смеяться, никто со мной дружить не будет", - думал я.
По окончании уроков я направился к бабушке. Она открыла мне дверь, держа в руках своего кота.
- Здравствуй, мой дорогой, - сказала бабушка и пропустила меня к себе. - Ты не рассказал...
- Я не очень понял, как она сказала эту фразу с утверждением или с вопросом, но мне стало до жути обидно.
- Нет... то есть да... я не рассказал, - поднял на нее взгляд. Она протянула ко мне свою морщинистую руку и повела в гостиную.
- Страх заставляет людей размышлять, - задумчиво произнесла бабушка и села в кресло-качалку.
Мы молчали, только урчание Барсика нарушало эту звенящую тишину.
- Попробуй еще раз.
- Не буду.
- Ты должен перебороть себя.
- Нет, - наотрез сказал я и нахмурился. - Они все теперь считают меня неудачником, я вообще не буду теперь нигде участвовать.
Бабушка вдруг рассмеялась и прикрыла глаза.
- Тебе не стоит переживать о том, что про тебя подумают, тебе надо идти тем путем, который ты перед собой видишь, - ласково произнесла она.
"Как же так! Она меня, словно, не слышит!" - во мне кипела злость, обида и непонимание. Вдруг бабушка встала и посмотрела мне в глаза.
- Пойдем я тебя накормлю, - эта мудрая женщина прекрасно понимала, что ее внуку сложно. Она хотела, чтобы внук все понял и осознал сам.
А ведь бабушка была права... Сейчас мне тридцать лет, и я только-только начал осознавать, почему же она, как мне тогда казалось, не слышала меня. Бабушка умерла тринадцать лет назад, но я все еще живу по ее правилам.
Сейчас я смотрюсь в большое зеркало с подсветкой в своем театре под названием "Удачливый" и понимаю, что я шел своим путем, который видел перед собой.
Выйдя на сцену, я ловил на себе взгляды зрителей и прекрасно понимал, что кому-то я не нравлюсь, а для кого-то прекрасен. В первых рядах я увидел свою маму. Начиная читать монолог, я смотрел ей в глаза.
После окончания спектакля я встал напротив микрофона, осматривая всех людей, которые аплодировали мне стоя.
- В этом зале сейчас находится моя мама, - сказал я громко с горькой улыбкой. - И для нее я хочу прочитать свое любимое стихотворение детства.
Мама поднялась с кресла и сжала губы вместе, сдерживая слезы.
- Максим Удачливый, Заслуженный артист Российской Федерации, - остановился на несколько секунд и продолжил, - Эдуард Успенский "Если был бы я девчонкой…".
Все резко замолчали, не понимая, что происходит, а я начал читать это стихотворение с теплой улыбкой и остановился перед последней фразой, прикрыв рот. Я видел, как мамины руки потрясывались, а глаза блестели.
- Мама сразу бы сказала: "Молодчина ты, сынок".
Публика не издавала ни единого звука, а я, поклонившись, ушел со сцены.
Бархатные кулисы закрылись, и все начали молча расходиться. Только одна женщина осталась стоять около своего места и шепотом произнесла:
- Молодчина ты, сынок.
Это произошло двадцать лет назад, на тот момент мне было десять лет. Сейчас, имея уже почетное звание Заслуженного артиста Российский Федерации, не могу до сих пор понять, отчего я так боялся осуждения со стороны общества.
"Мальчик мой, страх - это то, что живёт внутри и сковывает тебя с каждым днём всё больше и больше. Не трать на это свою жизнь, попробуй перебороть себя", - постоянно твердила мне бабушка, когда я пытался вымолвить хоть одно слово при маме из стихотворения, которое мы так упорно учили вместе с ней для школы.
Возможно, бабушка была единственным человеком, который поддерживал меня в то время. Мама казалась совсем не такой, какой любили описывать своих матерей разные писатели. Бабушка мне любила читать разные стихи Эдуарда Успенского, но нравилось мне только одно единственное: "Если был бы я девчонкой...". Послушаю этот стих и начну мечтать о том, что мама мне когда-то скажет: "Молодчина ты, сынок!".
До чего мне нравилась эта фраза! Я всегда пытался сделать то, что заставило бы мою маму сказать это.
Одним морозным днем я пришел домой в прекрасном настроении и несколькими рукописными бумагами в руках.
- Максим, где ты опять так долго ходил? - раздался суровый голос мамы.
Я быстро снял куртку и откинул в разные стороны прихожей свои ботинки.
- Мама! Я знаю, кем я хочу быть в будущем! И я начну заниматься этим сейчас! -крикнул я, пробежав на кухню, откуда по всей квартире разносился аромат пирожков.
- Сейчас меня это совсем не интересует. Звонила твоя учительница и сказала, что у тебя очередная двойка по математике.
В этот момент мне стало страшно что-либо говорить. Я продолжил слушать маму, которая начала осматривать меня с ног до головы.
- Максим, я только вчера выстирала тебе рубашку. А жилет? Где ты порвал новый жилет, который сшила бабушка? Ты выглядишь ужасно! Мой сын растёт ужасным, боже мой! - причитала мама, мотая головой.
- Мам, я хотел тебе рассказать, - снова послышался мой тоненький писклявый голосок.
- Что? - сказала безнадежно она.
- У нас в школе есть театральный кружок! Аглая Валентиновна меня туда записала! Ей понравилось, как я рассказал сегодня стих! - по выражению лица мамы можно было понять, что ничего хорошего от нее сейчас не услышишь.
- Какой театральный кружок? - она рассмеялась, но этот смех не был похож на радость.
- Маленький, хиленький, голоса нет, заурядица ходячая, - сказала мама и, махнув рукой, встала из-за стола.
Как же мне стало обидно, что родная мама про меня так думает.
- Мой же папа смог... - вымолвил я кротко.
- Папа, папа, папа, - передразнила она меня. - Откуда ты знаешь, что он там смог? Кривляка. Ты для начала научись с людьми контактировать и не бояться, что там про тебя подумает какой-нибудь Коля.
С каждым словом мамы мне становилось больнее и больнее. Я выбежал из кухни и заперся у себя в комнатке. Подошёл к пыльному зеркалу и начал себя рассматривать. "Какой из меня актер?" - думал я, смотря на свои маленькие глаза, темные негустые волосы и кривые зубки. Отвернулся от зеркала и забрался на подоконник, вновь и вновь прокручивая в голове услышанные слова. Порой мне хотелось просто собрать вещи и уйти к бабушке, мама все равно не заметила бы моего отсутствия.
Утром я проснулся от громких разговоров. Я вскочил с кровати и радостно побежал на голос любимой бабули, которая была для меня душой. Притаившись за дверью, я начал внимательно слушать разговоры, хоть и не любил делать что-то в тайне, но под горячую руку как-то не очень хотелось попасть.
- Я сказала, что не хочу даже слушать такое об этом гадком утенке, – сказала мама, вставав с дивана и сложив руки у груди.
- Скажу тебе только одно: "Великие умы ставят перед собой цели; остальные люди следуют своим желаниям", - укоризненно произнесла бабушка.
- Все, мама, мы поговорили, никакого театра. Мне не надо, чтобы потом на весь город был позор.
Бабушка встала и медленно пошла из комнаты. Я сразу отпрянул от двери, притворяясь, будто только что проснулся. Бабушка опустила свой взгляд на меня и поманила к себе указательным пальцем, склонившись над моим ухом, произнесла:
- Попробуй, мальчик мой.
Сказав это, бабушка пошла к выходу.
Я простоял на одном месте еще минуты три, думая, как же она могла видеть меня насквозь. И в этот момент я точно решил, что должен попробовать.
Пять недель и три дня я готовился к прослушиванию, после которого меня возьмут или же нет. Бабушка мне сшила новый красный жилет и купила новые лакированные ботинки. Я с гордостью смотрел на себя в зеркало, и вдруг в голове у меня промелькнула мысль, что меня могут осудить за то, как я выгляжу, посмеяться, ведь мама же говорила, что я "заурядица". Мои плечи чуть сжались, а взгляд потускнел. Я вышел из комнаты и сразу поймал на себе недовольный взгляд мамы.
- Куда это ты так вырядился? - уложив руки по бокам, сказала мама.
- Сегодня день рождения у моего друга, - соврал и чуть покраснел. Ненавидел я врать, тем более маме. Но меня успокоили слова бабушки, которые она мне часто говорила: "ложь во спасение".
- Да? Почему ты мне не говорил? - ее брови выгнулись в две дуги, которые меня чуть пугали.
Я начал быстро натягивать на себя куртку с шапкой.
- Пока, мама, я тебе потом все расскажу, - протараторил я и быстро выбежал из квартиры.
"Пронесло", - подумал я.
Вот этот момент, который, можно сказать, решает мою жизнь. Я стою на краю сцены, какой-то мальчик из одиннадцатого класс пригнул микрофон к моему лицу. Я сжал руки в кулаки и четко сказал.
- Максим Удачливый, 4 "б" класс, - вдруг я остановился, глядя в глаза всем учителям, которые меня внимательно слушали.
- Ну, Максим Удачливый, что вы нам будете читать? - сказала девушка в строгих очках.
- Владимир Железников "Три ветки мимозы".
- Просим, - сказала уже другая девушка и взяла в руки ручку, начиная что-то писать.
Я просчитал про себя десять счетов и начал читать вслух. В этот момент в голове крутились слова мамы и бабушки вперемешку. "Что они обо мне подумали?" -промелькнуло в голове, и я вдруг замолчал. Щеки от носа к ушам стали мгновенно красными, а ладошки вспотели до такой степени, что рукава рубашки стали мокрыми.
- Что же ты замолчал? - интеллигентно спросила моя учительница по литературе, и я понял, что после того как я сойду с этой сцены, меня начнут осуждать.
-Ты будешь продолжать?
После этого вопроса я еще подождал секунд пять и мотнул головой. Мои ноги сами начали убегать из этого зала. "Теперь все разнесется по школе, все будут смеяться, никто со мной дружить не будет", - думал я.
По окончании уроков я направился к бабушке. Она открыла мне дверь, держа в руках своего кота.
- Здравствуй, мой дорогой, - сказала бабушка и пропустила меня к себе. - Ты не рассказал...
- Я не очень понял, как она сказала эту фразу с утверждением или с вопросом, но мне стало до жути обидно.
- Нет... то есть да... я не рассказал, - поднял на нее взгляд. Она протянула ко мне свою морщинистую руку и повела в гостиную.
- Страх заставляет людей размышлять, - задумчиво произнесла бабушка и села в кресло-качалку.
Мы молчали, только урчание Барсика нарушало эту звенящую тишину.
- Попробуй еще раз.
- Не буду.
- Ты должен перебороть себя.
- Нет, - наотрез сказал я и нахмурился. - Они все теперь считают меня неудачником, я вообще не буду теперь нигде участвовать.
Бабушка вдруг рассмеялась и прикрыла глаза.
- Тебе не стоит переживать о том, что про тебя подумают, тебе надо идти тем путем, который ты перед собой видишь, - ласково произнесла она.
"Как же так! Она меня, словно, не слышит!" - во мне кипела злость, обида и непонимание. Вдруг бабушка встала и посмотрела мне в глаза.
- Пойдем я тебя накормлю, - эта мудрая женщина прекрасно понимала, что ее внуку сложно. Она хотела, чтобы внук все понял и осознал сам.
А ведь бабушка была права... Сейчас мне тридцать лет, и я только-только начал осознавать, почему же она, как мне тогда казалось, не слышала меня. Бабушка умерла тринадцать лет назад, но я все еще живу по ее правилам.
Сейчас я смотрюсь в большое зеркало с подсветкой в своем театре под названием "Удачливый" и понимаю, что я шел своим путем, который видел перед собой.
Выйдя на сцену, я ловил на себе взгляды зрителей и прекрасно понимал, что кому-то я не нравлюсь, а для кого-то прекрасен. В первых рядах я увидел свою маму. Начиная читать монолог, я смотрел ей в глаза.
После окончания спектакля я встал напротив микрофона, осматривая всех людей, которые аплодировали мне стоя.
- В этом зале сейчас находится моя мама, - сказал я громко с горькой улыбкой. - И для нее я хочу прочитать свое любимое стихотворение детства.
Мама поднялась с кресла и сжала губы вместе, сдерживая слезы.
- Максим Удачливый, Заслуженный артист Российской Федерации, - остановился на несколько секунд и продолжил, - Эдуард Успенский "Если был бы я девчонкой…".
Все резко замолчали, не понимая, что происходит, а я начал читать это стихотворение с теплой улыбкой и остановился перед последней фразой, прикрыв рот. Я видел, как мамины руки потрясывались, а глаза блестели.
- Мама сразу бы сказала: "Молодчина ты, сынок".
Публика не издавала ни единого звука, а я, поклонившись, ушел со сцены.
Бархатные кулисы закрылись, и все начали молча расходиться. Только одна женщина осталась стоять около своего места и шепотом произнесла:
- Молодчина ты, сынок.
Фролова Дарья. Запасной свет машины времени
Такое беспокойное утро... На часах семь утра, за окном 30 декабря, начались новогодние каникулы, наконец-то можно выспаться. Но нет, мой сладкий сон прерван звуком сообщений, телефон просто разрывается.
Не успеваю прийти в себя, читаю:
«Дочь, доброе утро!
Надеюсь, ты уже не спишь.
Срочно смотри новости. Волнуюсь, что ты можешь не успеть, и наши планы рухнут.»
Такое сообщение от мамы меня разбудило быстрее будильника.
Хорошо, что мы живем в век инновационных технологий! Встаю с кровати и даю команду домашней помощнице: «Алиса, включи новости!».
На экране телевизора настоящий апокалипсис: снег, снег и снег. Он ложится, падает, метёт, закрывает дорогу и машинам, и людям.
«Здравствуйте! Это последние новости к утру 30 декабря: уровень осадков в Санкт-Петербурге дошёл до критической отметки.
Непредвиденные стихийные обстоятельства не входили в планы жителей культурной столицы. Карта пробок города пылает алым цветом. Потребуются не менее двух часов, чтобы добраться до ближайшего супермаркета. Метеорологи советуют отправляться за продуктами к новогоднему столу пешком.
Общественный транспорт в связи погодными условиями приостановил свою работу, поэтому количество пассажиров в метро увеличилось, приходится стоять примерно минут сорок под сильным снегопадом, чтобы проехать одну станцию.
Немного о приятном. Памятники архитектуры Санкт-Петербурга не видели такой погоды уже много лет. Город преобразился до неузнаваемости: золотой купол Исаакиевского собора скрылся под плотным слоем снега. Дворцовая площадь превратилась в «зимнюю сказку», она окружена заснеженными зданиями, а ангел на Александровской колонне будто приблизился к земле.
Туристы, которые решили посетить северную столицу в новогодние праздник, получат незабываемые впечатления, потому что даже коренные жители города давно не наблюдали такой красоты.»
Такое количества снега в последний раз я видела только в своём родном городе. Сегодня вечером я должна выехать именно туда, за тысячу километров, «домой», чтобы встретить Новый год в кругу семьи.
Впервые за всё время самостоятельной жизни мне удалось совместить отпуск на работе и каникулы в институте. Мы с мамой распланировали всё до мелочей. Она смогла пригласить на праздник моего родного брата, который уже 6 лет живет в Сочи! Мой приезд станет сюрпризом для всех. Я обязана, несмотря ни на что, приехать вовремя.
Нельзя терять ни минуты. Нужно выезжать прямо сейчас. Хорошо, что все необходимые вещи и подарки я уже подготовила.
Главный подарок – большой альбом с семейными фотографиями. Перед отъездом из родного дома я тайком собрала все снимки, чтобы вечерами пересматривать и вспоминать о родных людях, а еще бабушка прислала фотографии детства и молодости для моей якобы проектной работы в институте на тему «Модернизация черно-белых фотографий при помощи программирования».
За несколько бессонных ночей мне удалось создать целую семейную историю! Нужно сделать еще одну традиционную фотографию за новогодним столом в 2023 году, и подарок будет готов!
На циферблате три часа дня. До отправления поезда остается два часа. Снегопад утих.
- Алиса, сколько займет путь до Ленинградского вокзала?
- Самый быстрый способ-это метро, ближайшая станция находится в 10 минутах ходьбы, на месте вы будете через сорок минут.
Замечательно, лучше выйти сейчас, чтобы успеть на поезд. Все вещи в чемодане; а самое дорогое, подарок, в рюкзаке, чтобы с порога вручить его.
Нести тяжелый чемодан по непроходимым сугробам – невыполнимая задача, но моё огромное желание увидеть близких - превыше всего. У станции, к великому счастью, нет таких очередей, о которых говорили утром. Всё складывается отлично! В вагоне метро пришлось постоять, но это такая мелочь, по сравнению с тем, как я смогла вообще добраться до него.
Мама переживает, заваливает сообщениями. Я отвечаю на ходу:
«Мамуль, не волнуйся. Уже в пути. На поезд успеваю, везу наш ценный подарок!»
Чуть не пропустила свою станцию. Выбегаю в закрывающиеся двери, проскальзываю и вытягиваю вперед себя чемодан! Рюкзак зажат дверьми! Ручки обрываются, и «семейная история» остается внутри вагона.
Меня охватывает ужас! На вокзале я должна быть через 10 минут, ждать возвращения вагона - 40 минут, нет времени, и может кто-нибудь уже прихватит мой рюкзак в надежде найти внутри ценные вещи. (Кроме пачки печенья, бутылки воды и альбома внутри ничего нет!)
Стою перед выбором: дождаться вагона с рюкзаком, опоздать на поезд и не увидеть родных в Новый год или отправиться домой без подарка?
В этом альбоме все фотографии нашей семьи… Копий нет. В один миг я стерла семейную историю длиной в 70 лет. Эта мысль не даёт мне покоя. Как смотреть в глаза родителям? Что сказать бабушке? Нет ни одной фотографии с моего рождения, рождения моего брата, свадьбы родителей, свадьбы бабушки и дедушки.
Села в поезд, но нет уже никакой радости от мысли, что я еду домой! Только чувство вины.
«Внимание! Внимание! Поезд «Санкт-Петербург – Ярославль» отправляется! Просьба занять места,. »
Меня ждёт 8 часов пут-. 8 часов без сна. Уснуть точно не получится.
Вспоминаю, что было изображено на снимках. Закрываю глаза! Пожалуйста, машина времени, включи свет запасной!
1958 год. Бабушка совсем молодая, только закончила школу, познакомилась с дедушкой. Такая красивая пара! Большая разница в росте даёт полное понимание фразы: «За ним, как за каменной стеной».
1965 год. Дедушка в военной морской форме на палубе корабля. Помню, что сзади на фотографии было написано: «Для Лидочки».
1971 год. На черно-белых фотографиях мой старший брат, совсем маленький. Потом догадываюсь, что это не брат, а папа.
1972 год. Малышка, укутанная в белое одеяльце, на руках моей мамы оказывается, что это не мама, а бабушка держит её на руках. Как же мы похожи на своих родителей.
1991 год. Молодая пара стоит на мосту, в руках замок в виде большого красного сердца— знака вечной любви и верности. Каждый год мы приходим с родителями на это место и проверяем замочек, подкрашиваем или смазываем этот талисман любви
2012 год. Две памятные фотографии. 30 августа вся семья встречает брата из армии. На фото настоящий мужчина — мой защитник. 1 сентября мой первый класс. На снимке маленькая девочка с двумя бантиками, а за спиной рюкзак, который вот-вот её перевесит.
Мои воспоминания прервал стук в дверь. Проводница сообщила: «Через пять минут Ярославль»
Вот я и дома. Как я соскучилась по родным улицам, невысоким сереньким домикам., Мама просила сообщить о приезде. Читаю ответ: «Я рада, что ты дома. Мы все собрались. Ждём тебя и твой сюрприз! Дверь будет открыта, ключ не нужен.»
На часах 8 вечера, на календаре 31 декабря. Я на пороге дома, в котором выросла, за дверью слышу голос брата и его заразительный смех. Не могу дернуть ручку и войти…
Набравшись смелости, тихонько открываю дверь, переступаю на цыпочках порог, приподнимаю чемодан и боковым зрением наблюдаю черную крупную тень.
-Здрав…,- удивленно говорю я.
Передо мной — мой однокурсник Женя, который в день нашего знакомства провёл мне незабываемую экскурсию по Санкт-Петербургу.
Он не говорит, он кричит:
-Слушай, ты такая невнимательная! … Я за тобой бежал от самой станции метро, хотел вернуть рюкзак. Ноты- ноль внимания. Я успел купить билет на поезд. Печенье я твоё съел и воду выпил, извини, не знал, что придётся отправиться в такой далёкий путь, не подготовился! А машину времени свою забирай! Я вдоль и поперёк её успел изучить, , правда ни с кем не знаком ещё.
В коридоре - все члены семьи. Я себя не слышу. Язык не слушается, но я произношу:
- Теперь можешь и познакомиться, представлять тебе всех не буду и сам уже знаешь.
Восторженные крики родных, объятия – и вот мы за новогодним столом вместе с Женей.
:
-Так вот тот сюрприз, о которым ты мне говорила. Как его зовут? Познакомь нас., -улыбается мама
- Мам, это не тот сюрпр…
- Меня зовут Евгений. Очень приятно познакомиться. Я учусь с вашей дочкой в одном институте. - перебил меня Женя, - а ещё, мы привезли Вам настоящую машину времени, надеемся, что вам понравится. – Женя вручил альбом маме.
Бабушку листала альбом. Улыбалась и плакала. Родные мне люди смотрели старые снимки, улыбки украшали их лица, душа их пела!
И вот последняя пустая страничка.
- Совсем забыла! Заключительный этап нашей истории. Садимся все красиво, я прошу Женю сфотографировать.
- Нет уж, раз Евгений сейчас с нами, он, может, будет членом нашей семьи и поэтому должен присутствовать в кадре, - возмутился папа.
Спорить никто не стал, и Женя был не против. Камера на штативе, спины выпрямлены, все улыбаются — фотография готова,
она на своем месте, на последней страничке «машины времени».
- Ребята, вы нас удивили, порадовали и растрогали. Теперь наша очередь сделать вам приятное, -улыбнулась мама-. У меня давно лежит незаполненный фотоальбом, его нам с папой подарили на свадьбу.. Вручаю его вам, творите свою историю. Пусть она получится такой же яркой, как наша!
Машина времени никогда не стоит на месте! Она, конечно, подарит нам еще ни одну семейную историю! Самое главное — найти её!
Такое беспокойное утро... На часах семь утра, за окном 30 декабря, начались новогодние каникулы, наконец-то можно выспаться. Но нет, мой сладкий сон прерван звуком сообщений, телефон просто разрывается.
Не успеваю прийти в себя, читаю:
«Дочь, доброе утро!
Надеюсь, ты уже не спишь.
Срочно смотри новости. Волнуюсь, что ты можешь не успеть, и наши планы рухнут.»
Такое сообщение от мамы меня разбудило быстрее будильника.
Хорошо, что мы живем в век инновационных технологий! Встаю с кровати и даю команду домашней помощнице: «Алиса, включи новости!».
На экране телевизора настоящий апокалипсис: снег, снег и снег. Он ложится, падает, метёт, закрывает дорогу и машинам, и людям.
«Здравствуйте! Это последние новости к утру 30 декабря: уровень осадков в Санкт-Петербурге дошёл до критической отметки.
Непредвиденные стихийные обстоятельства не входили в планы жителей культурной столицы. Карта пробок города пылает алым цветом. Потребуются не менее двух часов, чтобы добраться до ближайшего супермаркета. Метеорологи советуют отправляться за продуктами к новогоднему столу пешком.
Общественный транспорт в связи погодными условиями приостановил свою работу, поэтому количество пассажиров в метро увеличилось, приходится стоять примерно минут сорок под сильным снегопадом, чтобы проехать одну станцию.
Немного о приятном. Памятники архитектуры Санкт-Петербурга не видели такой погоды уже много лет. Город преобразился до неузнаваемости: золотой купол Исаакиевского собора скрылся под плотным слоем снега. Дворцовая площадь превратилась в «зимнюю сказку», она окружена заснеженными зданиями, а ангел на Александровской колонне будто приблизился к земле.
Туристы, которые решили посетить северную столицу в новогодние праздник, получат незабываемые впечатления, потому что даже коренные жители города давно не наблюдали такой красоты.»
Такое количества снега в последний раз я видела только в своём родном городе. Сегодня вечером я должна выехать именно туда, за тысячу километров, «домой», чтобы встретить Новый год в кругу семьи.
Впервые за всё время самостоятельной жизни мне удалось совместить отпуск на работе и каникулы в институте. Мы с мамой распланировали всё до мелочей. Она смогла пригласить на праздник моего родного брата, который уже 6 лет живет в Сочи! Мой приезд станет сюрпризом для всех. Я обязана, несмотря ни на что, приехать вовремя.
Нельзя терять ни минуты. Нужно выезжать прямо сейчас. Хорошо, что все необходимые вещи и подарки я уже подготовила.
Главный подарок – большой альбом с семейными фотографиями. Перед отъездом из родного дома я тайком собрала все снимки, чтобы вечерами пересматривать и вспоминать о родных людях, а еще бабушка прислала фотографии детства и молодости для моей якобы проектной работы в институте на тему «Модернизация черно-белых фотографий при помощи программирования».
За несколько бессонных ночей мне удалось создать целую семейную историю! Нужно сделать еще одну традиционную фотографию за новогодним столом в 2023 году, и подарок будет готов!
На циферблате три часа дня. До отправления поезда остается два часа. Снегопад утих.
- Алиса, сколько займет путь до Ленинградского вокзала?
- Самый быстрый способ-это метро, ближайшая станция находится в 10 минутах ходьбы, на месте вы будете через сорок минут.
Замечательно, лучше выйти сейчас, чтобы успеть на поезд. Все вещи в чемодане; а самое дорогое, подарок, в рюкзаке, чтобы с порога вручить его.
Нести тяжелый чемодан по непроходимым сугробам – невыполнимая задача, но моё огромное желание увидеть близких - превыше всего. У станции, к великому счастью, нет таких очередей, о которых говорили утром. Всё складывается отлично! В вагоне метро пришлось постоять, но это такая мелочь, по сравнению с тем, как я смогла вообще добраться до него.
Мама переживает, заваливает сообщениями. Я отвечаю на ходу:
«Мамуль, не волнуйся. Уже в пути. На поезд успеваю, везу наш ценный подарок!»
Чуть не пропустила свою станцию. Выбегаю в закрывающиеся двери, проскальзываю и вытягиваю вперед себя чемодан! Рюкзак зажат дверьми! Ручки обрываются, и «семейная история» остается внутри вагона.
Меня охватывает ужас! На вокзале я должна быть через 10 минут, ждать возвращения вагона - 40 минут, нет времени, и может кто-нибудь уже прихватит мой рюкзак в надежде найти внутри ценные вещи. (Кроме пачки печенья, бутылки воды и альбома внутри ничего нет!)
Стою перед выбором: дождаться вагона с рюкзаком, опоздать на поезд и не увидеть родных в Новый год или отправиться домой без подарка?
В этом альбоме все фотографии нашей семьи… Копий нет. В один миг я стерла семейную историю длиной в 70 лет. Эта мысль не даёт мне покоя. Как смотреть в глаза родителям? Что сказать бабушке? Нет ни одной фотографии с моего рождения, рождения моего брата, свадьбы родителей, свадьбы бабушки и дедушки.
Села в поезд, но нет уже никакой радости от мысли, что я еду домой! Только чувство вины.
«Внимание! Внимание! Поезд «Санкт-Петербург – Ярославль» отправляется! Просьба занять места,. »
Меня ждёт 8 часов пут-. 8 часов без сна. Уснуть точно не получится.
Вспоминаю, что было изображено на снимках. Закрываю глаза! Пожалуйста, машина времени, включи свет запасной!
1958 год. Бабушка совсем молодая, только закончила школу, познакомилась с дедушкой. Такая красивая пара! Большая разница в росте даёт полное понимание фразы: «За ним, как за каменной стеной».
1965 год. Дедушка в военной морской форме на палубе корабля. Помню, что сзади на фотографии было написано: «Для Лидочки».
1971 год. На черно-белых фотографиях мой старший брат, совсем маленький. Потом догадываюсь, что это не брат, а папа.
1972 год. Малышка, укутанная в белое одеяльце, на руках моей мамы оказывается, что это не мама, а бабушка держит её на руках. Как же мы похожи на своих родителей.
1991 год. Молодая пара стоит на мосту, в руках замок в виде большого красного сердца— знака вечной любви и верности. Каждый год мы приходим с родителями на это место и проверяем замочек, подкрашиваем или смазываем этот талисман любви
2012 год. Две памятные фотографии. 30 августа вся семья встречает брата из армии. На фото настоящий мужчина — мой защитник. 1 сентября мой первый класс. На снимке маленькая девочка с двумя бантиками, а за спиной рюкзак, который вот-вот её перевесит.
Мои воспоминания прервал стук в дверь. Проводница сообщила: «Через пять минут Ярославль»
Вот я и дома. Как я соскучилась по родным улицам, невысоким сереньким домикам., Мама просила сообщить о приезде. Читаю ответ: «Я рада, что ты дома. Мы все собрались. Ждём тебя и твой сюрприз! Дверь будет открыта, ключ не нужен.»
На часах 8 вечера, на календаре 31 декабря. Я на пороге дома, в котором выросла, за дверью слышу голос брата и его заразительный смех. Не могу дернуть ручку и войти…
Набравшись смелости, тихонько открываю дверь, переступаю на цыпочках порог, приподнимаю чемодан и боковым зрением наблюдаю черную крупную тень.
-Здрав…,- удивленно говорю я.
Передо мной — мой однокурсник Женя, который в день нашего знакомства провёл мне незабываемую экскурсию по Санкт-Петербургу.
Он не говорит, он кричит:
-Слушай, ты такая невнимательная! … Я за тобой бежал от самой станции метро, хотел вернуть рюкзак. Ноты- ноль внимания. Я успел купить билет на поезд. Печенье я твоё съел и воду выпил, извини, не знал, что придётся отправиться в такой далёкий путь, не подготовился! А машину времени свою забирай! Я вдоль и поперёк её успел изучить, , правда ни с кем не знаком ещё.
В коридоре - все члены семьи. Я себя не слышу. Язык не слушается, но я произношу:
- Теперь можешь и познакомиться, представлять тебе всех не буду и сам уже знаешь.
Восторженные крики родных, объятия – и вот мы за новогодним столом вместе с Женей.
:
-Так вот тот сюрприз, о которым ты мне говорила. Как его зовут? Познакомь нас., -улыбается мама
- Мам, это не тот сюрпр…
- Меня зовут Евгений. Очень приятно познакомиться. Я учусь с вашей дочкой в одном институте. - перебил меня Женя, - а ещё, мы привезли Вам настоящую машину времени, надеемся, что вам понравится. – Женя вручил альбом маме.
Бабушку листала альбом. Улыбалась и плакала. Родные мне люди смотрели старые снимки, улыбки украшали их лица, душа их пела!
И вот последняя пустая страничка.
- Совсем забыла! Заключительный этап нашей истории. Садимся все красиво, я прошу Женю сфотографировать.
- Нет уж, раз Евгений сейчас с нами, он, может, будет членом нашей семьи и поэтому должен присутствовать в кадре, - возмутился папа.
Спорить никто не стал, и Женя был не против. Камера на штативе, спины выпрямлены, все улыбаются — фотография готова,
она на своем месте, на последней страничке «машины времени».
- Ребята, вы нас удивили, порадовали и растрогали. Теперь наша очередь сделать вам приятное, -улыбнулась мама-. У меня давно лежит незаполненный фотоальбом, его нам с папой подарили на свадьбу.. Вручаю его вам, творите свою историю. Пусть она получится такой же яркой, как наша!
Машина времени никогда не стоит на месте! Она, конечно, подарит нам еще ни одну семейную историю! Самое главное — найти её!
Чистякова Софья. Эксперимент Семёна Васильевича
На улице маленького городка в тени старого сада стоял деревянный полуразрушенный домишко. Он был ничем не примечателен, если бы ни вереницы местных котов, с завидной периодичностью тянувшихся к этому месту. Уже год там никто не жил, старушка-хозяйка умерла, а её старый кот остался полноправным хозяином неприметного жилища.
Что тянуло туда котов всех воспитаний, мастей и возрастов, поставило бы в тупик самого наблюдательного жителя городка. Проникнув через лазейку дряхлого забора, коты, соблюдая дистанцию, не издавая звуков, пропадали в глубине заброшенного дома. Они оказывались в маленькой комнатке, где пахло сыростью и старостью. На столе лежал фотоальбом, но, что интересно, в нем были не человеческие снимки, а фотокарточки одного и того же кота. На стенах висели календари разных лет, но на них красовались не символы ушедших лет, а всё один и тот же ее мохнатый любимец – кот Сёма. Казалось, что это была прижизненная одержимость старушки.
Но проследуем дальше за котами. Протиснувшись в лаз подполья, они попадали в подвал, где старые банки, некогда бывшие зимними заготовками, и полугнилые ящики превратились в пыльные статуи, плотно затянутые паутиной. Густую подвальную темноту разбавлял лунный свет, который проникал через щели скрипучих половиц. Пробираясь через пыльный подвал, благородные кошечки фыркали и брезгливо смахивали хвостиками пылинки со своей лоснящейся шубки. Этот путь проходили и видавшие жизнь коты. Многие из них выиграли не одно сражение за обладание территориями. Их морды были усыпаны шрамами. На ушах виднелись следы острых когтей врагов, но теперь вместе со своими соперниками все они пробирались знакомой тропой к заветному лазу. Их манил яркий свет, ведущий в тоннель. Сперва ход был такой узкий, что туда могла с трудом пролезть маленькая голова котенка, потом он расширялся, и коты один за другим впрыгивали в огромную лабораторию профессора Семёна Васильевича, которая была ярко освещена. Свет давали лучи луны, проникавшие сквозь вырытые тоннели.
Семен Васильевич был полноват, на его шерсти пробивалась седина, что выдавало его кошачьи годы, хотя глаз у него горел былой удалью. Он ходил из стороны в сторону, покусывая длинный ус, сгорая от нетерпенья. В клетках сидели белые мыши, которые при приближении Семёна Васильевича не панически разбегались по углам, а в любовном трепете стояли на задних лапках.
Когда вся лаборатория заполнилась котами, Семён Васильевич искрящимся взглядом окинул всех собравшихся, подтянул лапой клетку и подозвал своего помощника, молодого юркого Ваську. Васёк с торжествующим видом тащил за хвост только что пойманного серого мышонка, который жалобно пищал и извивался, а глаза переполнял ужас и страх. Расслабь Васька лапу, он сразу же нырнул бы в какой-то угол. Мышонок был погружен в клетку. Всё присутствующее кошачье сообщество с интересом наблюдало за происходящим. Эксперимент под председательством Семёна Васильевича начинался.
Сёмушка, как ласково когда-то называла его хозяйка, наклонился к клетке, в этот момент мышь в ужасе начала метаться по своей тюрьме. Пушистой лапой Семён Васильевич достал из кармана своей шубы маленький флакончик, наполненный прозрачной жидкостью. Он медленно отвернул колпачок, капнул на подушечку лапы странную жидкость, слизнул ее и провел лапой по ушам и морде, делая вид, что умывается. Эффект последовал незамедлительно. Мышонок заводил носом, его усики начали шевелиться, улавливая невесомый аромат, все тело животного потянулось в сторону кота. Ужас в глазах сменился на любовный взгляд. Можно было подумать, что они дружат с детства, а мышь готова сделать для кота всё возможное, что было в её власти. Семён с торжествующим взглядом окинул кошачий зал.
- Вы понимаете теперь, что мои исследования подошли к концу. Вы все были свидетелями моих успехов и провалов. Теперь мы сможем завладеть сердцами людей, даже тех, которые не любили котов. Мы сделаем их нашими рабами. Нам не придется ловить мышей. Они сами будут нам приносить еду, точить нам когти, взбивать подушечку перед сном. Даже ходить в туалет нам будет позволено дома.
Лаборатория наполнилась ликующим мяуканьем, фырканьем, урчаньем. Теперь вирус кошачьей любви можно было запустить по всему городу.
Васька уже тащил миску, в которую Семён Васильевич вылил содержимое препарата. Достаточно было одной капельки, чтоб зелье смешалось с кошачьей слюной и усилило свое действие.
По очереди все собравшиеся начали тянуться к миске. Отведав эликсира любви, они тайком выбирались из заброшенного дома и направлялись по своим убежищам и жилищам.
Уже к обеду следующего дня в городе не было ни единого бездомного кота. Даже строгий дворник, увидев матерого драного кота Тайсона, которого не раз гонял метлой, наклонился к нему и потащил к себе, всё время бормоча ласковые слова. Вирус любви распространялся с бешеной скоростью, и скоро весь мир был опутан любовью к пушистым. Даже котята, вылизанные матерью-кошкой, получали в наследство этот дар и тут же влюбляли в себя проходящих мимо людей. Каждый обретал дом и рабскую любовь хозяина.
Теперь вы знаете, откуда у людей такая любовная зависимость от котов. А всё началось с председательства обычного любителя опытов Семёна Васильевича!
И будьте осторожны, ведь когда кот в вашем присутствии начинает умываться, то вы уже под действием вируса и обратной дороги к излечению нет.
На улице маленького городка в тени старого сада стоял деревянный полуразрушенный домишко. Он был ничем не примечателен, если бы ни вереницы местных котов, с завидной периодичностью тянувшихся к этому месту. Уже год там никто не жил, старушка-хозяйка умерла, а её старый кот остался полноправным хозяином неприметного жилища.
Что тянуло туда котов всех воспитаний, мастей и возрастов, поставило бы в тупик самого наблюдательного жителя городка. Проникнув через лазейку дряхлого забора, коты, соблюдая дистанцию, не издавая звуков, пропадали в глубине заброшенного дома. Они оказывались в маленькой комнатке, где пахло сыростью и старостью. На столе лежал фотоальбом, но, что интересно, в нем были не человеческие снимки, а фотокарточки одного и того же кота. На стенах висели календари разных лет, но на них красовались не символы ушедших лет, а всё один и тот же ее мохнатый любимец – кот Сёма. Казалось, что это была прижизненная одержимость старушки.
Но проследуем дальше за котами. Протиснувшись в лаз подполья, они попадали в подвал, где старые банки, некогда бывшие зимними заготовками, и полугнилые ящики превратились в пыльные статуи, плотно затянутые паутиной. Густую подвальную темноту разбавлял лунный свет, который проникал через щели скрипучих половиц. Пробираясь через пыльный подвал, благородные кошечки фыркали и брезгливо смахивали хвостиками пылинки со своей лоснящейся шубки. Этот путь проходили и видавшие жизнь коты. Многие из них выиграли не одно сражение за обладание территориями. Их морды были усыпаны шрамами. На ушах виднелись следы острых когтей врагов, но теперь вместе со своими соперниками все они пробирались знакомой тропой к заветному лазу. Их манил яркий свет, ведущий в тоннель. Сперва ход был такой узкий, что туда могла с трудом пролезть маленькая голова котенка, потом он расширялся, и коты один за другим впрыгивали в огромную лабораторию профессора Семёна Васильевича, которая была ярко освещена. Свет давали лучи луны, проникавшие сквозь вырытые тоннели.
Семен Васильевич был полноват, на его шерсти пробивалась седина, что выдавало его кошачьи годы, хотя глаз у него горел былой удалью. Он ходил из стороны в сторону, покусывая длинный ус, сгорая от нетерпенья. В клетках сидели белые мыши, которые при приближении Семёна Васильевича не панически разбегались по углам, а в любовном трепете стояли на задних лапках.
Когда вся лаборатория заполнилась котами, Семён Васильевич искрящимся взглядом окинул всех собравшихся, подтянул лапой клетку и подозвал своего помощника, молодого юркого Ваську. Васёк с торжествующим видом тащил за хвост только что пойманного серого мышонка, который жалобно пищал и извивался, а глаза переполнял ужас и страх. Расслабь Васька лапу, он сразу же нырнул бы в какой-то угол. Мышонок был погружен в клетку. Всё присутствующее кошачье сообщество с интересом наблюдало за происходящим. Эксперимент под председательством Семёна Васильевича начинался.
Сёмушка, как ласково когда-то называла его хозяйка, наклонился к клетке, в этот момент мышь в ужасе начала метаться по своей тюрьме. Пушистой лапой Семён Васильевич достал из кармана своей шубы маленький флакончик, наполненный прозрачной жидкостью. Он медленно отвернул колпачок, капнул на подушечку лапы странную жидкость, слизнул ее и провел лапой по ушам и морде, делая вид, что умывается. Эффект последовал незамедлительно. Мышонок заводил носом, его усики начали шевелиться, улавливая невесомый аромат, все тело животного потянулось в сторону кота. Ужас в глазах сменился на любовный взгляд. Можно было подумать, что они дружат с детства, а мышь готова сделать для кота всё возможное, что было в её власти. Семён с торжествующим взглядом окинул кошачий зал.
- Вы понимаете теперь, что мои исследования подошли к концу. Вы все были свидетелями моих успехов и провалов. Теперь мы сможем завладеть сердцами людей, даже тех, которые не любили котов. Мы сделаем их нашими рабами. Нам не придется ловить мышей. Они сами будут нам приносить еду, точить нам когти, взбивать подушечку перед сном. Даже ходить в туалет нам будет позволено дома.
Лаборатория наполнилась ликующим мяуканьем, фырканьем, урчаньем. Теперь вирус кошачьей любви можно было запустить по всему городу.
Васька уже тащил миску, в которую Семён Васильевич вылил содержимое препарата. Достаточно было одной капельки, чтоб зелье смешалось с кошачьей слюной и усилило свое действие.
По очереди все собравшиеся начали тянуться к миске. Отведав эликсира любви, они тайком выбирались из заброшенного дома и направлялись по своим убежищам и жилищам.
Уже к обеду следующего дня в городе не было ни единого бездомного кота. Даже строгий дворник, увидев матерого драного кота Тайсона, которого не раз гонял метлой, наклонился к нему и потащил к себе, всё время бормоча ласковые слова. Вирус любви распространялся с бешеной скоростью, и скоро весь мир был опутан любовью к пушистым. Даже котята, вылизанные матерью-кошкой, получали в наследство этот дар и тут же влюбляли в себя проходящих мимо людей. Каждый обретал дом и рабскую любовь хозяина.
Теперь вы знаете, откуда у людей такая любовная зависимость от котов. А всё началось с председательства обычного любителя опытов Семёна Васильевича!
И будьте осторожны, ведь когда кот в вашем присутствии начинает умываться, то вы уже под действием вируса и обратной дороги к излечению нет.
